Стожары
1
Из ничего, из ниоткуда обрушились вдруг, сверкающие как лезвия ножей, потоки теплого света. Уклоняясь, я крепче зажмуривал ресницы, прикрывал глаза ладонью, натягивал на голову простыню — все бесполезно, этой бурлящей лавине света не было преград. Невольное раздражение, возникшее в душе, окончательно взломало тонкую истаявшую полоску между сном и явью, а в следующее мгновение я уже понял, что не сплю и что сон, как ни хитри, больше не вернется.
Вздохнув, я осторожно открыл глаза и снова сомкнул ресницы — солнечные лучи, пробиваясь во все щели, били мне прямо в лицо. Крепко поспал, подумал я, вон солнышко как высоко поднялось.
Отмахиваясь от лучей, я повернулся на бок. Сердито жужжа, большая синяя муха метнулась надо мной, ударилась о стену, притихла. Отдохнув немного, снова ринулась в полет и, как буйный козел на лугу, стала выписывать по комнате замысловатые зигзаги — все искала, но никак не могла найти подходящее местечко для отдыха.
Я забеспокоился, словно кто-то легонько кольнул меня шилом. В доме — тихо, вкусно пахло свежей лепешкой, наверное, мама сутра пекла хлеб. Тихо в доме, а все, что делается на улице, все, что слышится мне, я воспринимаю, как происходящее в другом мире, к которому я вроде бы и не имею никакого отношения. А может быть, я еще сплю? Да нет, я слышу крик и шум играющих детей... На мгновение гомон ребятни перекрыл чей-то властный голос, а чей — я не успел разобрать. Бесконечное гудение майских жуков тоже доносится смутно, как будто слышится во сне, а не наяву.
У порога, играя, затрещал кузнечик — звуки такие, словно кузнечику дали кусок сахара и он с удовольствием хрумкает им. Песня его оборвалась так же внезапно, как и возникла. Был — и нету кузнечика, словно сквозь землю провалился. Но зато в наступившей тишине отчаянно закудахтала соседская курица; несушка так заполошно квохтала, так металась по двору, как будто нечаянно наступила на горячую сковороду. Интересно, долго она будет так орать? Снеслась, наверное, вот и кричит, оповещая о том весь аул и требуя положенного внимания и вознаграждения. Обычно в таких случаях из дома выбегала Назыкен, сыпала из горсти зерно и, ласково приговаривая, успокаивала несушку. Вот и повадила, приучила — ишь, каким дурным голосом, но властно орет, требуя зерна или крошек. Зря надрывается, Назыкен сегодня не выйдет, она теперь далеко отсюда — уехала в горы, к сестре. А жаль... Вышла бы она сейчас, посмотрел бы на нее из окна. А так чего смотреть, ничего на улице без нее интересного нет.
Я вспомнил о вчерашнем вечере, о нашем шумном и веселом гулянии до зари, а вспомнив о вечере, услышал горячий шепот Сагии, да и она сама словно оказалась рядом — иначе откуда бы взяться этому тонкому дурманящему запаху духов? Когда играли в «третьего лишнего», Сагия стояла в паре со мной, смеялась чему-то за моей спиной, а потом пребольно ткнула кулачком в бок;
— Аскер, ты чего такой скучный ходишь?
— Ничего не скучный... Нормальный.
— Э, от меня не скроешь!
— Да что скрывать-то?
— Ай-яй, не соседка ли тут виновата?
— Назыкен?!
— Она, она... Кто же еще?
— Твоим мечтам, да еще бы крылья.
— Полетел бы?
— Куда?
— И-й, хитрый мальчик, но меня ты не проведешь. В Кербулак — вот куда.
— Что я там потерял?
— Сам знаешь — что... Дай-ка пошепчу тебе, как Назукен шепчет.
Она наклонилась ко мне, забубнила на ухо. Я ничего не мог разобрать из ее быстрого горячего шепота — только ежился от сладкой щекотки и отстукал, держа Сагию на руки. А девчонка все шептала и шептала, и то, как она делала это, здорово напомнило мне Назыкен. Было приятно, я готов был слушать ее в слушать, но озорница, растревожив меня, вдруг отстранилась и замолчала. Я попробовал сам заговорить о Назыкен, во хитрая дев-чешка как язык проглотила...
Вдруг грохот, сотрясая стены, ворвался в комнату. Я даже подскочил, не сразу сообразив, что это выкатила на кашу улицу арба горючевоза Токбая. Пустые бочки, сшибаясь друг с другом, гремели на весь аул. За бричкой, конечно же, увязалась ребятня — я слышал свист плети и ругань возчика. Но меня нисколько не раздражает и не сердит грохот, он мне даже приятен, и я догадываюсь — почему? Все просто — на этой бричке уехала в Кербулак Назыкен. Сейчас эта громоподобная телега словно всколыхнула во мне печаль и, сам не зная отчего, я вдруг позавидовал Токбаю. Счастливый, он может, ни у кого не спрашивая разрешения, гонять свою бричку в горы и обратно. И сейчас он даст отдохнуть лошадям, покормит их, нальет бочки и по вечерней прохладе отправится в Кербулак. А там она, Назыкен... Эх, мне бы на месте Токбая быть горючевозом!
Я снова вспомнил вчерашние затянувшиеся игры. Девчонки страшно перепугались, когда все вдруг заметили, что ночь прошла, что на востоке уже слабо заалела заря. Конечно, все они, как одна, тут же разбежались по домам — только мы их и видели. Мне жалко девчонок... Что ни говори, а трудно бедняжкам, нет им такой свободы, как нам, мальчишкам. Все, что ни сделают девчонки, все видно, все об этом узнают тотчас же.
— А, разрази вас гром, негодники! — послышался высокий скрипучий голос, и я сжался в комок, затаился в постели .— Чтобы век не видать вам молока, разбойники!. Это не чужие, не со стороны пришли... Эй, слышите меня, сорванцы? Вот я вам... Эй, шалопай Кульпан, ты дома? Открывай!
Все понятно — громы и молнии метала Тойлыбаева старуха. И я один из тех, кто знал, чем были вызваны эти яростные вопли и устрашающие проклятия. На рассвете, когда наша веселая компания распалась, мы вчетвером взяли под вербой бабкины кубы, забрались в огород и славно попировали. Такого вкусного кумыса мне, честное слово, пить еще не приходилось. Ну, а теперь, как видно, наступила расплата, о которой, озоруя, мы, конечно, и не подумали. Крупный холодный пот выступил у меня на лбу, а голос бабки, набирая гнев и силу, гремел у дверей:
— Эй, Аскербек, чтоб тебя черти в ад утащили, ты чего до обеда дрыхнешь? Бесы там тебя связали, что ли, открой! Открывай, а то двери вышибу! Ой-бой, не дети у нас, а чистые грабители. Что вас, проклятых, в такое-то время заставляет воровать еду? Вы посмотрите, люди добрые, не слышит! А дома, балагур, дома лежит, я знаю... Залил брюхо, налакался досыта, шалопай! Путевый человек не спит до обеда... Чтоб ты задохнулся!
Старуха несколько раз с силой дернула дверь, в сердцах пнула ее ногой. Э-э, подумал я, хоть дом запали, не откликнусь. Этой женщине под горячую руку лучше не попадайся — в порошок сотрет, ногами растопчет.
— Эй, Аскербек, чтоб ты пропал, откроешь или нет? Я тебе говорю... Ну, погоди, холера, не будь я Болдырган, если три шкуры не спущу с тебя, кот блудливый. Погоди, вечером придет мать, тогда узнаешь, с кем шутишь, чтоб мухи тебя съели! Керосин вам в горло, сорванцы! Бог накажет вас, да обернется вам ядом то, что пили... Чтоб не встать тебе с места...
Последние слова, кажется, прозвучали потише и не на той высоте. Гнев иссяк, ярость, наверное, лишила бабку сил. Еще раз дернув дверь, она, бормоча проклятия, ушла — кажется, к дому Дамбая направилась. Ясно, теперь она устроит выволочку Манарбеку. Дай бог тебе, здоровья, бабушка, а то я уж думал, что мне и до вечера из дома не выйти.
Но одного старуха все-таки добилась — настроение мое, честно говоря, испортилось. Нет, проклятий старой Болдырган я не испугался, они от меня отскочили, как горох от стенки, просто совестно стало, я вспомнил маму, увидел ее строгие и всегда чуточку печальные глаза, услышал ее голос: «Сынок, как бы трудно тебе ни пришлось, чужого не тронь, нитки чужой тайком не бери...»
Валяться расхотелось, и я встал, подошел к окну. Старой Болдырган не слышно — успокоилась, а может, зашла к кому-нибудь пожаловаться. Спокойно и на всей улице. Дело к полудню, и тени, длинные поутру, стали короче, съежились, будто ноги под себя подобрали. Во дворе Калдыбая пыхтит самовар, выталкивая из себя жиденький дымок. Дым, поднимаясь, долго не держится, рассеивается в горячем воздухе.
Черный калдыбаевский пес крутится посреди двора, как волчок, где голова, где ноги — не поймешь. Он пытается достать вцепившуюся ему в хвост черную злую муху и крутится бешено, клацая зубами, но муха, видать, крепко вцепилась и улетать с хвоста так вот просто не собиралась. Бедный пес, сообразив это, заскулил и юркнул под бричку, в тень.
Надо бы поесть чего нибудь, но есть совсем не хотелось. Больше того — при мысли о еде меня слегка замутило, и я с минуту стоял выпучив глаза и широко зевая, как рыба, выброшенная на песок. Не иначе, как от кумыса такое.
В комнате было прохладно, а вышел из дома, как в пекло попал — густым жаром обдало лицо, руки, босые ноги. Прихватив тяпку, я отправился в огород на неравную битву с сорняками, которые, если честно, давно сидят у меня в печенках. Уж как-то так повелось, что каждое лето я не выпускаю из рук тяпки. Весь огород, двадцать пять соток, засеян у нас кукурузой, а работник в доме — я один, маме некогда, она день-деньской на колхозных полях пропадает. А каково одному? От зари до зари вожусь в огороде, хожу по кругу, как слепой конь. Боже, до чего нудная работа! Один сорняк ничего, рубанул — и нет его, а у другого корни, как щупальцы, во все стороны под землей тянутся. С таким повозишься! Вроде бы — убрал его, а через час вернешься — сорняк на месте. Да еще новые появились, из-за комков земли выглядывают, словно в прятки с тобой играют. И растут, проклятые, так быстро, что только успевай тяпать. А попробуй оставь, не сруби вовремя, они в три дня забьют и замордуют молоденькую медленно растущую кукурузу, все у нее отнимут — и солнце, и воду.
На огороде — душно. Земля ссохлась, от нее, как от раскаленной печки, веет нестерпимым жаром. Перед севом огород бороновали, но плохо, крупные комья остались. Теперь они затвердели, стали крепче железа и тяпка, с трудом разбивая комки, звенит и едва не вырывается из рук.
Я быстро устал. Пот и пыль, мешаясь, неприятно саднили кожу, разгоряченное тело требовало отдыха и прохлады. Я оперся на тяпку и подумал — почему бы не махнуть на канал? А что? Искупнусь разок — и назад. Но... я знал, что, стоит мне забраться в воду, пиши пропало дело, я надолго обо всем на свете позабуду.
Вздохнув, перевел взгляд на далекие горы. Знойное марево так странно преображает их — ощущение такое, словно смотришь на горы сквозь цветную призму. Хребты, ломаясь, становятся похожими на каких-то диковинных сказочных зверей. А вон тот двугорбый хребет на глазах превратился в громадного скорпиона — скорпион припал к земле и медленно ползет, подрагивая желто-зеленым хвостом.
Интересно смотреть и на поезд, плывущий в мареве. Издали он похож на старый ободранный рыдван. И кажется, что вагоны, расцепившись, идут сами по себе — то один из них пропадет вдруг, то другой, а вот и паровоз пропал, растворился в миражное зное.
Жарко... А в Кербулаке, говорят, по вечерам и в шубе замерзнешь. Как там сейчас Назыкен? Холодно ей, наверное, в своем летнем платьице...
На улице, вынырнув из зеленой кущи молодых деревьев, показался Зелим. Зелим — чеченец. Высокого роста, худой, он года на два старше меня. В нашем ауле Зелим первый драчун, дерется со всеми и по любому поводу. Однажды он ударил меня только за то, что я отказался помочь ему написать письмо Оналбековой дочке. Мы все побаиваемся Зелима, потому что дерется он не признавая никаких правил, бьет всем, что под руку подвернется. В шутку мы с ним боролись несколько раз, и я-то быстро понял, как одолеть Зелима. Потяни к себе, рвани в сторону — и он на земле. Но все же ребята избегают с ним драться. Есть в нем какая-то скрытая сила, злобная, как у затравленного волка.
Я только взглянул на Зелима и отвернулся, сделав вид, что не заметил его. Не тут-то было — он сам подошел ко мне. Постоял, глядя, как я тяпаю, и презрительно сплюнул под ноги:
— Женская работа, Аскербек...
— Ты не будешь нохчи1, если другое скажешь.
Я разогнул ноющую спину и пожал протянутую Зели-. мом руку. Судя по виду, у него сейчас не было желания драться. Хорошо, а то я, признаться, уже приготовился к схватке.
— Сорняки еще не поднялись, — Зелим пнул ногой ком земли. — Чего зря стараешься?
— Зачем ждать? Так и так мне тяпать придется.
— Айда на канал... Искупаемся.
— Что-то не хочется... — Не жарко. И полоть надо. Зелим помолчал, глядя на меня зелеными, слегка навыкате глазами. Несколько раз сглотнул. Большой кадык, чуть не разрезая горло, дернулся вверх и вниз, и я подумал, что как бы Зелим не подавился им. Ничего, обошлось... Парень хрипло кашлянул, пожевал губами:
— На заработки хочешь пойти?
— А куда?
Если саман делать, не пойду, решил я про себя, мне эта работенка ни к чему.
— В горы пойдем... Сено косить. Вчера встретил меня Несипбай, бригадир... Чем зря болтаться на улице, говорит, поработайте, помогите колхозу. Да и вам — польза, деньги еще никому не мешали. Не веришь? Голову даю на отсечение, если вру.
Он энергично полоснул ребром ладони по горлу. Клянется. А когда Зелим клянется, верить ему можно. Сердце мое забилось, предложение Зелима обрадовало меня. Поехать в горы, значит, оказаться в двух шагах от Назыкен... Я моментально полюбил Зелима, драчун в эту минуту показался мне очень приятным человеком и симпатичным парнем, хотя на самом деле Зелима красавцем не назовешь — уж больно велик у него горбатый веснушчатый и почему-то всегда синий нос.
— А в горы... куда пойдем?-спросил я уточняя.
— Только не в Балажайсан и не в Теректы... Повыше заберемся.
— В Кербулак?— я придержал дыхание.
— Точно... Туда поедем. Полтора трудодня на каждого — чем плохо?
— Не возьмут нас.
— Почему? Я что, Несипбая за язык тянул? Он сам сказал, что Жаппара сватал, да тот не хочет. Он пастухом пошел, личный скот гонять будет.
— Когда же поедем?
— В конце недели.
— Слушай, Зелим, а давай сегодня!
Нетерпение охватило меня. Надо сдать яички, мелькнула мысль, и купить Зелиму папирос. Он это дело любит, заядлый курильщик.
— Зелим, ты знаешь, приехал горючевоз Токбай. Вечером наверняка обратно в горы отправится. Пойдем к нему, он, наверное, не откажет, возьмет нас с собой. А до этого заглянем к Кульдары, я куплю тебе папирос. В подарок...
— Деньги есть?
— Найдем!
От радости Зелим взбрыкнул, как лошадь, и неожиданно пустил воздух. Замер, грозно вытаращив на меня зеленые глаза, в глубине которых сразу загорелся злой огонек. Я сделал вид, что ничего не произошло, и Зелим успокоился.
— Молодец, Аскер!-он с силой хлопнул меня по плечу.-Ты настоящий мужчина. Будем друзьями!
— По рукам!
Мы уплели пальцы и трижды, по-мужски, тряхнули друг другу руки. Вечная и верная дружба была, таким образом, установлена и скреплена пожатием.
2
Дом Токбая — на том конце длинной улицы, куда мальчишки нашей стороны в одиночку не захаживали. Пойдешь один — наподдают, а что делать? Не ходи коза в чужое стадо, не будешь битой.
Особенно настырен во вражеском стане мальчишка по прозвищу «кара макау»-черный немой. Он идет в драку, сдвинув фуражку козырьком назад, наступает яростно и в такую минуту очень похож на буйного драчливого козла. Когда бы его ни встретил, вечно он задается, вечно грозит кому-нибудь. Но он из тех, про которых говорят — молодец против овец, а на молодца и сам овца. С теми, кто хоть немного посильнее его, черный немой не дерется, напротив, ищет с ними дружбы.
И сейчас, завидев меня, драчун мигом повернул кепку козырьком назад и угрожающе двинулся навстречу, но, заметив Зелима, остановился и моментально присмирел. Угодливо улыбаясь, протянул чеченцу руку, но Зелим длинной, как кочерга, ногой дал черному немому пинка.
— Ай!-тот вскрикнул.— В чем моя вина?
— Не знаешь? А вон — поправь фуражку.
— Хорошо, поправлю... Сейчас.
Поспешно перевернул кепку и, пятясь, стал отступать. Зелим нацелился дать еще одного пинка, но мальчишка увернулся и рванул к дому, крича на всю улицу:
— Ойбой, мама! Убивают!
— Так тебе и надо!— Зелим весело смеялся, довольный случайной стычкой.
А мне было не весело, мне как-то не по себе стало. Черного немого я не жалел, ему, и вправду, так и надо, но и к Зелиму я внезапно почувствовал неприязнь. Нашел, кого бить... Не велика честь от такой победы.
В последнее время я старался избегать драк. Я не трус, но отчего-то незаметно и сразу потерял интерес к прежним и привычным забавам, отдалился от них, как отдаляется от нас, перевалившее гору, эхо кокпара. И вот теперь мне стало не по себе от шума и крика, поднявшегося по вине Зелима. Эх, собака, думал я, лучше бы с тобой не связываться... Хороши вы с черным немым оба, один другого стоите.
Неожиданная и глупая стычка взбаламутила мою душу — так баламутит тихую воду брошенный камень. Я так расстроился, что досада на Зелима мешала мне с прежней радостью думать о Назыкен... Ладно, главное для меня сейчас — добраться до гор, со всем остальным разберемся позже.
— Зелим, пошли скорее. А то плетемся, как ленивые ишаки.
— Пойдем... А этому... я еще покажу! Смотри, что делает, а?
Черный немой, чувствуя себя на собственном дворе в полной безопасности, корчил мне угрожающие рожи. Таращил глаза, стискивал руками горло, бил кулаками по лбу, махал руками, словно удары наносил. Все понятно — попадись, мол, ко мне в руки, изуродую, как бог черепаху, в песок разотру, хребет сломаю.
Я не боюсь, конечно, и мне до его угроз нет никакого дела. Пусть себе кривляется, когда встретимся, посмотрим — кто кого? А сейчас меня торопит к дому Токбая радость скорой встречи с Назыкен. Радость и еще... волнение. Неизвестно, как примет нас Токбай. Может и от ворот поворот дать, скажет, что в горы дорога дальняя, а кони — не двужильные... Ну, а если откажет, что делать? Пешком? Можно, конечно... Однажды Киргизбай пешком пришел в аул из Кербулака. Оставил там трактор, а сам на своих двоих притопал. Ну и мы дойдем... Самое многое — два дня пути. По дороге чабанов много встретится, с голоду умереть не дадут.
Да, но еще оставался Зелим — как он посмотрит, согласится ли? После того, как я купил ему две пачки «Севера», Зелим заметно подобрел ко мне, шутит, дружески похлопывает по плечу, да и взбучка, какую он задал черному немому, тоже знак приязни, хотя такое проявление дружбы мне лично не по душе. Но тут уж ничего не попишешь — Зелим таков, и переделать его трудно. В общем-то, он может и согласиться рвануть в горы пешком, но может и заартачиться. Нет у меня уверенности в том, что новый друг поймет и поддержит меня.
...Токбай был дома. Он полулежал на стеганом одеяле, разостланном в тени урючины, и пил чай. Завидев нас, сощурился:
— А, Залым2, шалопай, откуда явились? С чем пришли, гости дорогие, верно, опять напроказили?
Хозяин дома шутил, значит, подумал я с радостью и надеждой, у него хорошее настроение. В глубине сада я заметил и лошадей; животные лениво пережевывали зелень и били себя по бокам хвостами, отгоняя надоедливых мух.
Я незаметно огляделся — ага, и бричка здесь. Бочки, видимо, полнехоньки — я уловил свежий, резкий и приятный, запах керосина.
— Я не Залым, ага, а Зелим, — мой друг протянул Токбаю сразу обе руки: я тоже вежливо и почтительно поздоровался с хозяином.
— Как так не Залым? Разве не тебя весь аул клянет? Там одно натворил, здесь — другое... О добром человеке и молва добрая, А о тебе — худая.
— А, злые языки! — Зелим обиженно отмахнулся. — На каждый роток не накинешь платок.
— Какой шустрый, а... Хороши слова, да не к месту сказаны,— Токбай подвинул пиалушку дочке, и девчонка, откинув косички за спину, схватилась за чайник.— Так... ладно. Куда путь держите?
— Мы к вам, ага!
— Что, дочку сватать пришли?
— Нет... Возьмите нас в горы.
— Зачем?
— Сено косить?
— А?! — Токбай грязным поясным платком промакнул на лбу пот, допил чай и снова подал пиалу дочке. — Какая же от вас работа, сорванцы?
— Сам Несипбай просил.
— Нашел большеротый работничков... Ты тоже поедешь? — Токбай взглянул на меня.
— Да, — я снял фуражку, переступил с ноги на ногу, чувствуя, как замирает мое сердце — неужели откажет?
— Это ж... сколько тебе лет?
— Пятнадцать. Шестнадцатый даже, — я прибавил почти два года.
— М-мм... денег, значит, захотелось подработать?
— Да, ага...
Я хотел добавить, что маминых денег всегда не хватает, вот и решил, дескать, помочь ей, но Токбай опередил меня вопросом:
— Матери знают?
— Конечно! — чуть ли не в один голос подтвердили мы. — Они и посоветовали к вам пойти.
Не знаю, как у Зелима, а моя мама пока что ни сном ни духом не ведает о моем решении. Ой-ей, что завтра будет, когда узнает. Моя мама и в горы может прийти, хотя... нет, в такое горячее время едва ли ее отпустят. Поругается немного, поворчит и махнет рукой. Да и потом — не гулять же иду я в горы...
— Что ж, товарищи мужчины, повезу вас, но при одном условии. — Токбай важно поднял палец. — Работать у меня по-стахановски! А если шалость надумали, сразу признайтесь, иначе обоим уши оборву за обман.
— Не хуже других поработаем... Понимаем, раз взялись...
В эту минуту мы были готовы наобещать горы и даже больше, но Токбай жестом остановил нас и пригласил к дастархану. Девочка подала нам пиалушки с чаем, мы, не торопясь, как и положено взрослым людям, выпили его. Хозяин еще раз утерся платком и подал знак дочери убирать.
— Ну, хлопцы, — Токбай с кряхтеньем поднялся, — ведите коней. Выезжать, так засветло.
Мы с Зелимом вскочили и наперегонки припустили к лошадям. Неужели эти клячи, подумал я, оглядывая коней, довезут нас всех до самого Кербулака? Кожа да кости... Понурились, бедные, спят стоя, а у слезящихся глаз роем вьются синие мухи. Кони, как мне показалось, взглянули на нас не очень дружелюбно — догадались, наверное, зачем мы пришли.
Я повел гнедого Мерина, а Зелиму досталась рыжая лошадь. И двух шагов не прошли, как эта рыжая бестия изловчилась и цапнула меня за плечо, да так больно, что я не сдержался и вскрикнул. Ой, и здорово же тяпнула, проклятая, волкодав, а не лошадь, нож тебе в горло!
Охая, я держусь за плечо, кляну рыжую на чем свет стоит, а Зелиму хоть бы что, упер руки в бока и заливается, хохочет:
— Что, Аскербек, острые зубы у рыжей? Как она тебя!
В голосе Зелима — радость, а мне обидно, что он так радуется. Над чем смеется? Левое плечо у меня огнем горит, ломит — спасу нет. Но от Токбая я успел скрыть навернувшиеся на глаза слезы и, через силу улыбаясь, сказал:
— Пустяки... Совсем и не больно.
— Беда! — Токбай сокрушенно покачал головой. — Не любит рыжая мальчишек... Наверно, какой-нибудь озорник вроде тебя обидел коня, вот он и запомнил... Больно?
— Да нет.. Пройдет сейчас.
— Теперь остерегайся его... Видишь — уши прижал, скалится. Собака — не конь... Вон хомуты лежат — несите их...
Я поднял хомут, и острая боль пронзила плечо. Украдкой оглянулся — нет, Токбай ничего не заметил. Как бы ни было больно, нельзя подавать виду. Заметит Токбай — без разговоров дома оставит, не возьмет. А когда еще подвернется другой такой счастливый случай оказаться в горах. И я, стискивая зубы, терпел боль, стремглав бросался выполнять любую команду Токбая.
Втроем с подготовкой к отъезду управились быстро. Токбай тяжелой ладонью приласкал свою черноволосую молчаливую дочурку.
— Прибери, милая, дастархан, посуду вымой. Дверь в дом держи закрытой, чтобы собака не забежала. За скотом приглядывай... Ближе к вечеру вскипяти чай для мамы, она с работы придет усталая... Вот так, маленькая, все хозяйство на тебе остается, ты уж смотри получше...
Токбай разобрал вожжи. Кони поднатужились, и бричка, скрипнув колесами, выкатила на улицу. Мы отправились в путь.
3
Зной еще был силен; но заметно поредели золотистые ресницы солнца, и оно уже не так яростно поливало землю огненным взором. Еще дышала теплом мягкая пыль, но дело все равно подвигалось к вечеру, еще час-другой — и с гор повеет в долину спасительной прохладой.
Токбаевские лошади только на вид казались такими заморышами. Тяжелая бричка словно придала им силы, кони разогнали ее, разошлись и ровной рысью бежали по степной дороге. Рысаки наши, всхрапывая, прядали ушами, глаза их, что недавно слезились, очистились от болезненной мутной влаги. Рыжий злюка иногда, выворачивая голову, косился на меня, словно спрашивал — ну, как, Аскербек, хорошо идем?
Токбай с Зелимом устроились впереди, а я примостился на задке брички, стоял, держась за бочки. Можно было, конечно, сесть, но мне нравилось так — и трясет вроде бы меньше, и ветерком обдувает. Хорошо!
Едем быстро... И вот уже позади — канал, соскучусь, но которому и бросив на произвол судьбы колхозный трактор, ушел из Кербулака Киргизбай. Вода в канале — не быстрая, на ровной глади кружатся омуты — иной на спокойной воде и не заметишь сразу, такие вот скрытые смерчи очень опасны.
Для нас канал — любимое место, а для матерей — наказание, источник постоянных тревог и опасений. Но что мальчишкам мамины тревоги?! С утра, не успев открыть глаза, мчимся на канал и с ходу, толчком с берега, врезаемся в ласковую воду. И забываем обо всем на свете, плещемся до тех пор, пока хворостиной не погонят нас домой. А случается и так, что чья-нибудь мама, ухватив за вихры своего озорника, тут же на берегу устраивает ему публичную порку, приговаривая: «А, холера, смотри посинел весь... Изведет тебя вода, всю кровь высосет, а кому горе, паршивец, кому, как не матери...»
Порка еще не самое страшное. Вечерами приходится похуже. От воды, пыли и ветра ноги наши покрываются сплошными цыпками, густой коричневой паутиной глубоких трещин. Ой-ей, до чего же больно становится, когда мама смазывает ноги свежей сметаной. Словно тысяча раскаленных иголок впивается в ноги, слез никак неудержать, а мама втирает сметану и еще сердится, ворчит: «Так тебе и надо, неслушник... Не ори, разбойник, все равно ведь завтра с утра на канал завьешься. Нравится купаться — вот и терпи...»
Мама была права — наутро, сбегая на канал, и не вспоминаешь о боли и перенесенной пытке. Однажды я ваял и спрятал в камышах косынку Назыкен. Злого какого-то умысла у меня не было, просто хотел, чтобы Назыкен? разыскивая пропажу, заговорила со мной, пошутила. А получилось все наоборот — девочка обиделась и рассердилась. Глаза ее потемнели. Прикрыв платком маленькие, с урюк, груди и вздернув небольшой нос, ова бросила мне, как кипятком ошпарила:
— Зачем — чужое берешь? Я не собиралась играть с тобой... Смотри-ка, на что рассчитывает.
После этих слов я чуть от стыда не сгорел и, ковыряя пяткой землю, готов был, честное слово, сквозь нее провалишься. Даже сейчас, вспоминая ту глупую шутку, краснею, как будто сотворил тогда что-то постыдное и запретное.
...Позади нас, над аулом, опускаясь на него и рассеиваясь, клубится пыль. Ее взбивают коровы. Бредут медленно и над каждой из них словно белый платочек покачивается. Сверкая белизной, плывет в последних лучах заходящего солнца и стремится уйти за горизонт пушистый клочок облака.
Под железнодорожное полотно наша бричка нырнула в тот момент, когда по мосту, над нами, твердо постукивая колесами, мчался, как стрела, товарный поезд. Стрела пролетела, запах гари и железа недолго оставался в воздухе, ветром его отнесло в сторону. А перестук колес еще долго слышался, и долго еще подмигивал нам зажженный на последнем вагоне красный фонарь. Но вот и он погас, как будто, устав светить, решил отдохнуть и на время смежил ресницы. Только эхо, взрывая вечернюю тишину, широко летело по степи, и все пространство наполнилось гулом, похожим на гул разлившейся в половодье реки.
За железнодорожным полотном началась уже горная жесткая дорога. Она, то карабкаясь на большие и малые холмы, то ныряя с их зеленых склонов, раскручивалась под колесами нескончаемой лентой. Ни аула поблизости, ни даже чабанского домика. И до Кербулака еще далеко, а время не ждет, вот уже и ночь опустилась на землю и
все вокруг потонуло в темени. Но ненадолго. Вскоре опять посветлело — это зажглись одна за другой звезды, и с каждой минутой их становилось все больше и больше. Они так густо усылали небо, что в нем не нашлось бы места и для иголки. Теснясь и приветствуя друг друга, звезды улыбчиво мерцают и время от времени вспыхивают, как огоньки, раздуваемые ветром. Ничто, наверное, так не волнует меня, как эта незатихающая игра звезд, и я могу подолгу смотреть на них, весь охваченный какой-то безотчетной волнующей и немного грустной радостью.
— Эй, Аскер, ты жив?
Я вздрогнул — так неожиданно прозвучал в ночной тишине голос Токбая.
— Живой.
— Спишь, что ли?
— Нет, просто так сижу.
— Ну, сиди...
Токбай ничего больше не сказал, повернулся к Зелиму. От скуки, наверное, они всю дорогу болтают о всякой всячине. Больше говорит Зелим, а Токбай, слушая, хмыкает., не веря зелимовским россказням, похохатывает: «Ох, и мастер врать, сорванец, чтобы ты подох!» Зелим при этом горячится: «Ей-богу, правда, ага! Не сойти мне с места, правда. Да пропади моя голова, если вру...»
Потревоженный Токбаем, я от нечего делать тоже стал прислушиваться к рассказу Зелима.
— Ага, вы знаете старика Ахмета, аккойлинца, он живет рядом с Кульдары, — начал Зелим. — Хрыч и жадина, каких мало... День и ночь сидит на своей бахче, дрожит за каждую дыню. Спит и ест на огороде и намаз там же справляет. Скряга, что там говорить. Так вот, у старого хрыча прошлым летом такие арбузы выросли — закачаешься! Каждый с большой черный котел. А дыни — с теленка... Можно ли утерпеть и не забраться хоть разок на такую бахчу? Но как заберешься -старый скупердяй всегда начеку. Мы еще далеко, а он уже за палку хватается — и к нам. И орет так, что в Кербулаке слышно. Очень мы разозлились и поклялись — не будем спать до тех пор, пока не накажем вредного аккойлинца...
Зелим, переводя дыхание, помолчал, потом сплюнул в пыль и продолжил рассказ.
— Однажды в полночь мы вдевятером подкрались к огороду Ахмета. Залегли у дувала и выжидаем удобный момент. Но этому старику и ночь не в ночь. В белых штанах и в белой рубахе он бродит по огороду, поливает его. Мы, конечно, еще больше разозлились — старый козел всю ночь может эдак бродить, а мы лежи тут, уткнувшись носом в дувал, и жди понапрасну. Что-то надо было придумать, но что? Придумал Манарбек. Давайте, говорит, перекроем воду в арыке, отведем ее в сторону... Хитро придумал парень, и мы в один голос поддержали его. Разбились на две группы — одна ушла перекрывать воду, другая осталась на месте. Лежим и ждем, что будет... Смотрим — старик заметался по бахче, размахался руками. Потом, бранясь, двинулся вверх по арыку, а мы только того и ждали. Ворвались на бахчу, и пошла потеха. Срываем арбузы и дыни, на бегу раскалываем их, захлебываемся сладким соком... Больше, конечно, в такой суматохе разбили, чем съели. Вдруг — свист, а за ним вопль — полундра! Это Рахтай — он в карауле стоял — подал нам сигнал. Глядь — а старик, вот он, рядом. Мы, прихватив кто арбуз, кто дыню — врассыпную, как тараканы от света. Где там старому угнаться за нами! Отстал, только проклятьями вдогонку сыпал. Но от ругани еще никому больно не было, зато дыни оказались вкусными и сладкими, как мед. До сих пор забыть не могу...
— Шалопай, ты и есть шалопай... Что, рога у тебя выросли, или другой какой прибыток от хулиганства поимел?
— Хватит того, что наелись досыта! Животы, как барабаны, гудели.
— Чтоб ты подавился, дурень! Не скалься, проклятье старика еще найдет вас.
— Э, ничего не будет! Да мы каждый день, то есть, каждую ночь на бахчу идем и хоть бы что... Живем.
— Ишь, он еще и похваляется, холера!
Меня в набеге, о котором рассказал Зелим, не было. Я в то время с дедом Махатом уезжал на Чу сено косить. Не знаю, как Токбаю, а мне было неприятно слушать Зелима, его похвальба раздражала меня до неприязни. Обидел старого человека и гордится, как подвигом. Противно слушать...
Зелим достал пачку «Севера», щелчком выбил папиросу и закурил. Едкий дым ветром нанесло на меня, и я задохнулся, закашлялся, а Токбай недовольно проворчал.
— Чтоб ты сгорел когда-нибудь... Осторожнее, бричку запалишь. Забыл, что везем?
— Не бойтесь, я знаю, как надо. В кулак курю.
Зелим скорчился на сиденье, наверное, он прикрывал огонек ладонями, а когда затягивался, то склонялся головой чуть ли не до колес.
— Куришь с малых лет, — Токбай осуждающе покачал головой. — В носу свербит, что ли, то и дело за папиросу хватаешься.
Зелим промолчал.
Кони наши притомились и сменили резвую трусцу на медленный усталый шаг. Токбай не беспокоит их плеткой, лишь иногда, да и то по привычке, поддернет вожжами. Кони тяжело ступают по жесткой дороге, колышут гривами, порой чутко вскидывают головы, словно прислушиваются к звону кузнечиков.
Кузнечиков здесь видимо-невидимо. Еще на закате они завели свой бесконечный звон, с каждой минутой он набирает высоту и силу. Когда кони, задирая хвосты, ненадолго останавливаются и бричка перестает скрипеть, тогда ничего и не слышно вокруг, кроме этого звона, свободно гуляющего над степью. Мал музыкант, а смотри-ка — и степи заворожил своей игрой, и горы.
Заструился ветерок, щекочет дыханием лицо и шею, забираясь под рубашку, приятно освежает грудь. Наверное, где-то недалеко бежит ручеек — влажный воздух напоен сладким духом мяты и резкой горечью полыни.
Я спрыгнул с брички и пошел рядом. Приятно идти, утопая босыми ногами, занемевшими от долгого сидения и тряски, в прохладной пыли. Мягкая, как пушистое облако, пыль легонько покалывает ноги, идешь, словно по толстому туркменскому ковру.
Немного прошел, а все тело сразу налилось бодростью и силой. Я опять стал думать о Назыкен.
Сердце забилось сильно и часто, захваченный необыкновенным чувством, я ничего не видел вокруг; степь, дорога, — все исчезло. Даже звезды погасли и только одна из них, вон та, над горами, продолжала упорно и ярко светить.
«Дыханье мое для тебя, Назыкен, и сердце мое бьется ради тебя. Но сердце живое, познавшее плен, ответной любви ожидает любя...»
Что случилось со мной, что меня так взволновало — не знаю. Может быть, виной тому тихая звездная ночь или эта луна — не знаю, но чувство, пережитое только что, было необыкновенным и огромным, как весь этот ночной мир, объятый тишиной и покоем.
Я тревожно взглянул на Токбая и Зелима — сидят себе спокойно, не оглядываются. Тряхнув головой, я ухватился за борт и опять прыгнул в бричку. Наверное, Токбай почувствовал толчок и повернулся ко мне.
— Что молчишь, Аскер? — спросил он. — Рассказал бы что-нибудь, а мы бы с Зелимом послушали.
— Не знаю, о чем рассказать, ага...
— По матери уж соскучился?
— Не-е-т...
— А что же молчишь так?
— Просто молчу и все.
— Нельзя... В дороге надо разговаривать.
— О чем же?
Токбай, причмокнув, дернул вожжами, поднял плеть, и кони, уловив замах, прибавили шагу, перешли на рысь.
— Садись-ка рядом, Аскербек... Места хватит.
— Мне и здесь неплохо, ага.
Токбай кашлянул и снова взмахнул плетью. Лошади пошли быстрее, хотя это, подумал я, ни к чему, кони порядком устали.
— Эй, сколько лет твоей матери?
— Н-не знаю, — запинаясь ответил я; вопрос Токбая застал меня врасплох.
— И-й, пацан! Впервые такого вижу... Как же так — не знаешь? Мать все же...
Но откуда мне знать? Я никогда не спрашивал маму, сколько ей лет, и думать об этом тоже не думал. Зачем? А в самом деле — сколько? Как-то мама сказала, что ей было девятнадцать, когда отец ушел на войну. Я в то время в люльке еще лежал... Так, с того времени прошло... ага, маме сейчас тридцать два года.
Токбай ждал ответа, но я молчал. Меня всегда раздражает, если какой-нибудь мужчина что-нибудь спрашивает о маме, или, что еще хуже, смотрит на нее не так, как обычно смотрят люди друг на друга. В доме у нас иногда бывают и такие, которые противно заигрывают со мной, стараются чем-нибудь меня задобрить. Ничего у них, конечно, не получается, я волчонком встаю между ними и матерью, желая только одного — чтобы и этот гость поскорее убрался. В такие минуты лицо мамы темнеет, глаза становятся печальными, мне очень жалко ее, но с собой я ничего не могу поделать. Я, помню, даже бога просил, чтобы он отвадил всех мужчин от нашего дома. Часто шептал: «Не дай бог, если вдруг случится...» А чего именно боялся, толком не понимал, конечно. Этот вечный страх и время сделали свое дело — я расту, по словам мамы, совсем не таким, как другие мальчишки, не таким жизнерадостным, как они... И пусть, мне и такому, какой я есть, живется неплохо...
— Прошло время бедняжки, сгорело... Горечь одна только и осталась.
Токбай вздохнул, а Зелим неожиданно захохотал, и было в его смехе что-то нехорошее, липкое что-то и противное, как паутина. Сдерживаясь, я стиснул зубы, а Токбай что-то тихо и сердито сказал Зелиму, и тот умолк, в горле его булькнуло, как будто он захлебнулся смехом.
— Сынок, узнал бы своего отца?
— Я же не видел его.
— Да, конечно, ты еще сосунком на руках матери лежал . А я помню... Ой, и парень был! А как на домбре играл... Ты умеешь?
— Что?
— На домбре играть умеешь?
— Нет.
— Вот дети пошли... Нет, чтобы в отца вырасти! Плохо это, Аскербек, ох, плохо...
Может быть, и плохо, подумал я, но откуда мне знать это, если я никогда не видел своего отца, я... я как-то привык к тому, что его нет у меня. Мама иногда доставала из сундука отцовские письма с фронта и читала их вслух. Кое-что из писем я даже запомнил. В одном отец написал так: «Мы стоим сейчас в роще, и сосны гудят под ветром,, как струны домбры... Живы ли, здоровы ли сноха Раш, брат Махат. Всего несколько месяцев не видел я вас, а кажется, что прошла целая вечность... Аскер, любимый мой, вырос уже, наверное, стал большим...»
Меня, конечно, волновали эти слова, но не очень. Я старался мысленно представить себе отца, но образ его, неяркий, возникал тенью и тут же таял, не оставляя в душе ни тепла, ни ласки. И рассказ Токбая мало тронул меня, мое сердце, хотя в глубине его и шевельнулась радость, мне было приятно слышать о своем отце такие хорошие слова. Только странно — я не знаю отца и не помню его, а другие — знали его и помнят, Я чувствовал здесь какую-то жестокую несправедливость жизни вообще и моей личной судьбы, в частности.
Наш разговор на том и закончился. Молчал Токбай, молчали и мы с Зелимом. Лошади пошли еще тише. Заметно похолодало, уже и от близкой травы повеяло в лицо свежестью и влагой. Дорога то белела впереди, то вдруг исчезала на время, пропадая в неглубоких лощинах и балках. Здесь уже так холодно, подумал я, а в горах, наверное, еще холоднее, там я в своей одежонке пропаду, замерзну.
Ночь плотно окутала землю, и вдруг во тьме засияло, забрезжило что-то, я подумал, что сама ночь, одаряя путников приветом и лаской, улыбнулась нам. А в следующее мгновение понял, что это речка Багутты блеснула навстречу, вот уже ясно слышится, как в нешироких, заросших травой и камышом берегах шумит и плещется вода. Еще немного и наша бричка, как нож в тугое масло, с ходу врезалась в течение. Запаленные кони, вырывая из рук Токбая вожжи, потянулись к воде, но тот сердито прикрикнул на лошадей и, понукая, погнал их бродом. Колеса хрустели галькой, а мне казалось, что это разлетаются вдребезги попавшие под обода звезды.
От реки мы отъехали совсем немного. Свернув в сторону, остановились, выпрягли коней.
— Пусть отдохнут, просохнут,— сказал Токбай.— Сейчас им ни воды, ни корма нельзя давать... Привяжите их, но подальше от сена.
Он, кряхтя и охая, с наслаждением растянулся на траве, а мы с Зелимом занялись лошадьми. Ослабив подпругу, я заметил, что вожусь с рыжим мерином, который так злобно кусанул меня. Я хотел было обнять его за шею, приласкать, но не решился — кто знает, что у него на уме. Но погладить все-таки погладил — пальцы ощутили под головой горячую, взмокшую от пота, кожу. На удивление, рыжий стоял смирно, вздыхал, смешно шлепая губами, потом ласково, как теленок, ткнулся лбом в плечо. Понимает, значит, ласку и дружбу, благодарит по-своему.
Токбай в дорогу кое-что захватил из дому. Еды на троих было мало, и мы быстро управились с нею. Курт с маслом показался нам слаще меда, такой же вкусной была и сухая лепешка. Крепко проголодались, но все же заморили червячка, успокоились. Токбай, лежа на боку, ковырял спичкой в зубах, икал, изредка громко и с удовольствием отрыгивал, благодаря бога за ниспосланную пищу. Затем повернулся на живот, сказал:
— Эй, Зелим, разомни спину... Прямо деревянной стала, все мышцы стянуло.
Зелим только что закурил. Попыхивая папироской, поднялся, подошел к Токбаю.
— Где мять?
— Здесь... между лопаток.
— Здесь? — Зелим ткнул кулаком в спину.
— Нет, чуть выше. Ага... И-й... И-й... Бери правее. Да крепче топчи, двумя ногами. Так... Так... Вот-вот-вот... То самое место... Давай сильнее... Еще разок, еще... Ух, хорошо... Молодец, Зелим!
Зелим разошелся вовсю, сам повизгивая, яростно топтал Токбая, я слышал, как хрустели кости нашего возницы и невольно ежился, как будто это меня безжалостно разминал Зелим. А Токбаю хоть бы что — щурится, как кот на солнышке, кряхтит, постанывает с наслаждением.
— Молодец, Зелим! Хорошо стало... Аскер, — Токбай повернулся ко мне,— напои лошадей и пусти их на траву. Пусть подкрепятся и они... Теперь можно. Остыли...
И опять эти кузнечики... Неутомимые музыканты не в лад, но зато дружно водили смычками, все вокруг заливая бесконечными трелями. Их старались перепеть лягушки. Они беспрерывно квакали, словно из огромной бутыли с громким бульканьем лилась, лопотала вода. Иногда жалобно и горько вскрикивала иволга. Шарахаясь из стороны в сторону, метались летучие мыши. Появляясь отовсюду, они будто преследовали меня, еще удивительно, как это ни одна из них не шарахнулась о мою грудь или спину.
Я взял коней под уздцы и, прячась между ними, повел животных к реке. Кони, увлекая меня, охотно потянулись к воде и, громко фыркая, с удовольствием, жадно припали к ней. Но пили осторожно, словно процеживали воду от звезд; звезды срывались с мягких губ коней, ныряли в глубину и дрожали там, чуть покачиваясь от конского дыхания. Глубоко вздохнув, гнедой мерин с силой чихнул, и звезды на мгновение рассыпались во все стороны, похоже, они затаились на дне. Потом поднялись и вновь засияли радостно и безмятежно. И я был рад тому, что звезды остались на месте, а не пропали в темной утробе наших коней.
4
В Кербулак мы добрались на следующий день, к обеду. В ауле — семь-восемь небольших глинобитных домишек, рассыпанных по верху неглубокой балки. Даже не верилось, что это и есть тот самый Кербулак, куда я так стремился, при мысли о котором сжималось и сильнее билось мое сердце.
Выглядит аул жалко, он — как небрежно кинутая на землю горсточка никому не нужного лежалого курта. Ничто здесь не бросалось в глаза, разве что унылая бедность кое-как слепленных мазанок. И это о нем с таким восторгом говорят люди, сообщая, что едут в Кербулак, где воздух свеж, как дыханье утреннего ветерка, а вода в родниках такая сладкая, что и не хочешь, да напьешься.
Нет, честное слово, в первую минуту я расстроился, не то я ожидал увидеть, совсем не то. Настоящее захолустье, подумал, я, ничего особенного здесь нет... Вон пять-шесть телят бродят по лугу, который и лугом-то назвать нельзя — просто пустырь, до звона выбитая крепкими копытами земля.
И собаки здесь такие же, как и везде. Завидев нас, они кинулись навстречу с таким угрожающим лаем, как будто собрались немедленно разорвать нас на мелкие кусочки. Но, еще не добежав, мгновенно остыли, на мордах их читались глубокое разочарование и недовольство — дескать, мы думали, что это чужие, а это вы...
Псы, выполняя собачий долг, побрехали еще немножко и по одному отстали, разбрелись в разные стороны...
На зеленом берегу речки полным-полно кур. Вот две из них столкнулись и, обрадованные встречей, долго стояли клюв к клюву, кудахтали о чем-то, может быть, в гости приглашали друг друга. Куры все, как одна, белые, а гребешки у них такие красные, что кажется — тронь пальцем и сразу кровь брызнет.
С коновязи сорвался жеребенок. На лбу у него — звездочка, и ноги — в белых чулочках. Весело взбрыкивая и волоча за собой веревку, жеребенок перемахнул через речку на тот берег — там гуляла, пощипывая травку, его мать. А во дворе дома, у дымящейся печки, заметалась, замахала руками женщина.
— Торгай, Шимшик, дома вы? Ох, чтоб вам... Не видите разве — тот паршивец снова вырвался... Бегите, поймайте его... Как бы молоко у кобылы не пропало...
Женщина еще ворчала, а две маленькие девочки уже бежали вприпрыжку за жеребенком. Я догадался, что Торгай и Шимшик — имена девочек. Торгай — птичка, Шимшик — воробей... Интересно, каких только имен не бывает. А девчонки, действительно, как птички, с щебетом и веселым писком, гонялись по лугу за убегающим жеребенком. Кобыла, встревожась, подняла голову, но, узнав девочек, успокоилась.
Токбай повернул коней к дому женщины. Она, заметив нас, поправила платок на голове и подошла к воротам.
— Да исполнятся все твои желания, айналайын!— приветствовал ее Токбай.— Ну, Карлыгаш, принимай гостей. Большеротый Несипбай рабочих себе подыскал. Вот они и приехали... помочь колхозу на сенокосе...
— Несипбай найдет, он... Ойбой, а это кто? Смотрит-то, смотрит как, разбойник!
— Знакомься... Это шалопай Зелим.
— А второй... чей?
— Сынишка Кульпан... Подработать хочет. Надо же, что выдумал, шельмец?
— И-и, милый, что ж ему делать? Так-так, значит, малыш домбриста... Как мать, сынок, жива-здорова? Ну и хорошо, дай бог... Раз к работе потянулся, считай, что ты уже джигит,— она ласково обняла и поцеловала меня.— И то, на многое ли хватает одного заработка бедняжки Кульпан? Хорошо, что в доме наследник есть, мужчина... Вырос, заметно подрос, малыш. Ну, гости дорогие, проходите в дом, отдохните с дороги.
Токбай кивнул и, не торопясь, стал выпрягать коней. Зелим подошел ко мне и морща нос зашептал: «Слыхал? Торгай, Шимшик, Карлыгаш... Прямо семья пернатых, подохнуть можно от смеха...» Я вижу, что Зелим вот-вот закатится, надо бы его остановить, но как? Я незаметно наступил ему на ногу — дескать, не дури, неловко, что хозяйка о нас подумает. Зелим терпел изо всех сил, корчился, плечи его тряслись, нижняя челюсть отвисла и дрожала, глаза наполнились слезами. Смех душил Зелима, и видок у него был такой, что, глядя на него, и меня разбирало. Чтобы сдержаться, я прикусил палец и отвернулся, даже отошел от Зелима поближе к печке...
Вкусно пахло свежим, только что испеченным хлебом. Наверное, Карлыгаш — повар бригады, для одной семьи столько лепешек сразу печь не станут. Ну, конечно, повар... Вон в большом котле томится мясо, ароматный пар разливается по всему двору, щекочет ноздри... Где же люди? Как где — на сенокосе, конечно. Скоро ли придут? И что скажет Несипбай? Как встретит? А вдруг посмотрит на меня и скажет: «Э, нахлебников нам не надо, иди-ка, малец, домой...» При одной этой мысли в сердце мое опять закралась тревога, а настроение, хорошее с утра, испортилось.
Токбай кончил возиться с лошадьми и, помыв под жестяным рукомойником руки, пошел в дом, мы — за ним. Карлыгаш быстро, с привычной сноровкой, раскинула дастархан, подала кумыс. Аромат его мгновенно перебил все другие запахи в комнате. Токбай, залпом осушив большой зерен4, похвалил:
— Хорош кумыс... Слаще костного мозга.
Вторую чашку он пил не торопясь, смакуя каждый глоток. Зелим же, приняв из рук Карлыгаш зерен, долго дул на кумыс, как на горячее молоко, потом пальцем стал выбирать мелкие и черные, как змеиные глазки, соринки. Карлыгаш нахмурилась.
— Что непутевый делает, а? Это ведь жир.
— Не жир, а зола, — буркнул Зелим.
— Чтоб тебя, холера, дьявол задавил! Вы только послушайте, что он говорит, — Карлыгаш, стесняясь Токбая, удержалась от более сильных проклятий. — А я-то старалась, кумыс ему подала, чтоб ты век его не видел!
— Шалапуту и кислого молока довольно было бы, — отозвался Токбай. — Не велика птица.
— Воробей еще, а важничает,— Карлыгаш поджала губы, было видно, что Зелим крепко обидел ее.
Но тому — хоть бы что, как с гуся вода. Все так же дуя на кумыс, пил мелкими глотками. Опорожнил чашку и подвинул ее хозяйке. Карлыгаш и бровью не повела, как сидела, сложив на коленях руки, так и продолжала сидеть. Но не таков Зелим, чтобы растеряться.
— Апа, налейте еще!
— Зачем тебе грязный кумыс?
— Вкусный.
— Смотри-ка, не обидчив, проклятый,— Карлыгаш улыбнулась и подала ему наполненный зерен.— Пей, как люди пьют.
— Апа, вы хорошая!
Зелим сморщил синий нос и засмеялся. Глядя на него, добродушно рассмеялась и Карлыгаш:
— Ай, ничего этому холере не делается!
Когда немного утолили жажду, Токбай и Карлыгаш повели неторопливую беседу.
— Весь аул, считай, на свекле, — сказал Токбай. — Люди от зари до зари в поле, домой приходят только переночевать.
— Е-е, каждое лето так.
— Не знаю, не знаю... Может, план в этом году прибавили, но трудный год нынешний, трудный...
— Достается бедным женщинам, — вздохнула Карлыгаш.
— Всем хватает, ну. а женщинам, известное дело, потруднее, чем нам, мужикам, полевую работу ворочать.
— Хочу спросить, как там дела у нашего Жабека?
— Из больницы вышел... Здоров, кажется.
— Вот непутевый, каких бед натворил... А с Ошабаем — что?
— Пока освободили, но, поговаривают, дело все равно судом кончится.
— Напакостили, паршивцы, а слезы — матерям.
— Всем аулом мирить их пробовали. И так подступались и эдак. Толковали им, что стыдно людям от соседей — из-за девушки разодрались, а! Да так, что милиция вмешалась. Позор и стыд... Все бесполезно — не идут на мировую...
— Не мешало бы и дуреху ту, что за двоих парней сразу ухватилась, примерно наказать. Вся беда из-за нее получилась.
— Е-е, келин, что с нынешних девушек спросишь? Ни стыда у них, ни совести... Сыты, одеты и обуты, вот и бесятся с жиру. Ночь на дворе, а они — из дома. Ничего доброго не жди от девушки, если она дома не ночует.
— Верно, верно. И я была девчонкой, но вели мы себя скромнее, по улице идем — глаз не поднимаем. А сейчас, тьфу, девушка на глазах у всего аула чуть ли не в обнимку с парнем идет, бесстыжая. И нисколько не стесняется... Вот все и кончается дракой.
Не знаю почему, но этот разговор угнетал меня, мое настроение, и без того неважное, еще больше испортилось. Парней этих, Жабека и Ошабая, я хорошо знаю. Молодые совсем, в прошлом году школу закончили. А девушку их зовут Куляш. Парни поссорились и надумали решить спор дракой, как это делали в старину батыры. Они ушли из аула, отыскали подальше от него глубокую балку, там и схватились. Может быть, Куляш и виновата в чем-то, но я лично ее не виню. Если бы кто-нибудь встал между мной и Назыкен, я бы тоже дрался не на жизнь, а на смерть. Помню, в тот вечер я долго не мог заснуть — так разыгралось мое воображение. Всю ночь я дрался с кем-то, и то и дело просыпался от боли и ярости.
Разговор за дастарханом и то, что Токбай и Карлыгаш в один голос осуждали парней, все это смутило меня, все упреки и укоры я почему-то принял на свой счет. Самое лучшее сейчас, подумал, выйти на улицу. Я толкнул локтем Зелима и показал ему глазами на дверь. Зелиму, видно, самому не сиделось, мы поднялись и потихоньку вышли.
На улице — тихо и солнечно. И здесь, в горах, тоже довольно жарко, но такого зноя, как в ауле, конечно, нет. Легкий ветерок освежает лицо приятной прохладой, и веет он беспрерывно, на одном дыхании. Впереди, как море, волнуются озимые. Зеленые волны, догоняя друг друга и сталкиваясь, спешат куда-то, словно кто-то без конца покачивает огромным веером. Волны, как степные, залитые высокой весенней травой, барханы, плывут к вершине холма, а там, подталкивая друг друга, скатываются вниз, на ту сторону. Волнуются озимые, а мне кажется, что сам холм, как живой, дышит, радуясь свежести горного воздуха.
Почему-то украдкой, от кого-то таясь, я перевел взгляд на дома аула. Хмуро смотрели на меня небеленые старенькие мазанки... Не таись, пацан, словно говорили мне тусклые старческие глаза домов, нам все известно. Знаем, кого ты ищешь, знаем, зачем заглядываешь в окна... И набегал на стекла окон туман, а я все смотрел и смотрел, старался угадать порог того единственного дома, к которому так рвалась моя душа.. Кажется, я ожидал какого-то чуда, но правду говорят люди, что чудеса не по всякому желанию совершаются.
Поблизости от меня, в тенечке, тихо играли девочки, те самые, что гонялись по лугу за жеребенком. Я подозвал их, и они без слов послушно подошли. Только тогда я заметил, что девочки удивительно похожи — наверное, близнецы, подумал я. Шмыгая носами, сестрички в ожидании вопросов уставились на меня блестящими пуговками глаз.
— Какие же вы хорошие, — не зная, с чего начать, пробормотал я. — А как вас зовут?
— Меня зовут Торгай, а ее — Шимшик, — ответила та, что казалась повыше.
— И-й, хорошие имена, красивые... Подойдите ближе, не бойтесь... Вы... всех в ауле знаете?
— Кто живет здесь? — Торгай ткнула пальчиком в дома.
— Ага.
— Всех знаем... Вон тот дом тети Куляш, рядом — Шолпан-апы, а там живет хромой Искак, за ним — дядя Джунисалы.
— А вот и нет, — перебила сестру Шимшик, — это дом дедушки с большим носом.
— Постойте! — я остановил их. — Не надо спорить. Недавно к вам в аул... одна, — я умолк, заметив, что к нам приближается Зелим. — Ладно, вы хорошие девочки... Идите играйте.
— А, Торгай и Шимшик!— Зелим дурашливо захохотал. — А где еще... утка и курица?
— Оставь, Зелим, не смешно... Обидятся.
— А папу вашего петухом зовут? Или — беркутом? Девочки смутились, стояли, прячась друг за друга.
Глаза их медленно наполнялись слезами.
— Ворона и сорока! Так лучше, а?
Зелим хохотал, как сумасшедший, и малышки совсем перепугались. Бочком отступили назад, дружно повернулись и со всех ног припустили к дому.
5
И все-таки я родился, наверное, в счастливой рубашке. Несипбай, выслушав нас, кивнул головой, соглашаясь, и дал задание конюху:
— Завтра выдели им лошадей... Каждому по две.
Одна устанет, другую впрягайте. Послал бог помощников, поглядим — каковы? Этому, — Несипбай кивнул в мою сторону, — подбери посмирнее. Дай ему гнедого Кульдары и, пожалуй, жеребца белогривого. Остальные с норовом, могут и не послушаться пацана. Да еще, не дай бог, прибьют.
— У белогривого спина стерта. Рябой Рыскельды загнал беднягу на кокпаре5.
— Ничего с ним не сделается. Байга6, что ли? Да и нет больше смирных.
— Сначала бы надо спросить — держали эти герои когда-нибудь вожжи в руках?
— Погонять лошадей — наука нехитрая, — Несипбай улыбнулся. — Так, ребята?
— Конечно! — в один голос откликнулись мы. — Значит, ага, мы сено будем косить?
— На грабли встанете... Сгребать скошенное — работа нетрудная, как раз для таких, как вы.
— А нам все равно, где... Везде справимся.
Я, честно говоря, надеялся, что нас поставят сено косить. Люблю я эту работу, нравится мне стрекот плывущего по травам агрегата. Ну да ладно, и на том спасибо Несипбаю, хороший человек, просьбу уважил. А мог бы и отказать, не доросли, мол, до мужской работы, куда вам! Да, запросто мог бы указать на дверь, а тогда и думай, что делать...
Ночью, когда все улеглись, я один долго не мог заснуть. Дорога, приезд в Кербулак, согласие Несипбая и, наконец, то, что где-то совсем рядом со мной была Назыкен — все это, наверное, взбудоражило меня, начисто лишило сна. Да и лежать на мешках с мукой, где мне постелили, было не очень удобно. И тесно, и, как ни повернись, все кочки под боком и бугры.
В открытое окно беспрерывно тянуло свежим прохладным воздухом. Его легкое покалывание первое время было приятно телу, но очень скоро я пожалел о том, что отказался от предложенной Карлыгаш шубы. Возьми, настаивала она, ночью у нас холодно, замерзнешь... Ай-яй, напрасно я не послушался доброй женщины. У всех приезжих — свои постели, им тепло, один я от холода чуть ли зубами не клацаю. Тонкие брюки и бязевая рубашка греют мало.
А Зелиму тепло. Вместе со всеми спит себе спокойно, удобно свернувшись калачиком. Хотя нет, не очень спокойно спит Зелим. Вдруг ни с того ни с сего оскалится, начинает скрипеть зубами, как будто камень грызет, бормочет что-то спросонья. Потом успокоится, лежит, носом посвистывает. Весь сарай наполнен стонами, сонным мычанием и храпом спящих сенозаготовителей. В темноте и тишине сарая все эти звуки действуют на нервы, и мне становится страшно. Я, конечно, понимаю, что бояться нечего; люди наломались за день, устали, потому и спят так тяжело и беспокойно.
Под мешками заскреблась мыши. Их много, временами они пищат, как ужаленные, как будто кто-то запустил в них зажженной паклей. Пронзительный писк их, сливаясь, звенит в ушах, как ржанье жеребенка. Иногда писк затихает и сарай наполняется противным неумолкающим хрустом — жуют, проклятые, все подряд, чтоб вы подавились!
Чтобы как-то отвлечься и не слышать писка и хруста, я начал думать о завтрашнем дне. Когда же, наконец, наступит утро? И пригонят ли вовремя с ночного выпаса коней? А вдруг не найдут их? Чего-чего, а балок да глубоких оврагов в горах много, заберутся в одну из них — неделю искать будешь. Не знаю почему, но я подумал о том, что утром не найдут именно моих лошадей. Я еще и не видел их, но уже люблю своих коней, мне очень жаль белогривого. Спина у него сбита, он от боли, наверное, не может пастись спокойно, как другие. А все рябой Рыскельды — с конем управляться не умеет, а в кокпар полез. И угробил коня... Я, думая об этом, очень разозлился на Рыскельды и в одну минуту пожелал ему сто напастей.
Прикрыв глаза, я увидел грабли, те самые, на которых мне с утра работать. Грабли — новенькие, покрашенные в синий веселый цвет. Два зубца в середине выбиты. Кто и когда успел? Остальные — целы. Я пересчитал — оказалось сто двадцать два зубца. На коричневом дышле нет ни единой царапины. И сиденье красивое. Чуть великовато, но все равно удобное, а главное — я свободно достаю руками рычаги. Несипбай увидел это и успокоился — порядок, сказал, работать сможешь.
Перед тем, как лечь, я еще разок бегал взглянуть на свои грабли. Две коровы, навалясь, с удовольствием чесали о них бока. Я отогнал коров подальше, чтобы эти язвы не явились снова и что-нибудь не поломали...
Убаюканный приятными мыслями, я и не заметил, как задремал. И вдруг, будто от толчка, приподнялся. Тихонько смеясь, надо мной склонилась Назыкен.
— Ой-ей, Аскер, как ты лежишь, бедный? Совсем замерз.
— Да что ты? Я никогда не мерзну... Вот моя рука, смотри, какая горячая.
— И правда — теплая. И нежная, как у девчонки.
— Я к тебе пришел, Назыкен... Соскучился.
— А я? Думаешь, не вспоминала о тебе? Каждый день вспоминала и ждала, что придешь.
...Я дернулся, пытаясь приподняться. Не тут-то было — два мешка придавили меня. Кое-как отвалил их. В сарае посветлело -з аря заливала его сизыми сумерками. Рано еще... Глухо шумела на дне недалекой балки речка, и плеск ее волн сливался с частыми и гулкими ударами моего сердца.
Я снова лег.... Лежал, чувствуя себя так, словно кто-то обманул меня, высмеял, поиздевался, как хотел, и скрылся. Обида сдавила сердце и не отпускала его. И тогда, уже не сдерживаясь, я дал волю слезам. Плакал долго, сглатывая горькую солоноватую влагу...
Разбудили меня чьи-то легкие осторожные шаги. А, это Карлыгаш... В руках женщины — большая чашка, наверное, за мукой зашла. Я лежал тихо, не подавая виду, что проснулся. Карлыгаш остановилась рядом.
— Ойбой!— прошептала она .— И как он, бедняга, спал? Совсем замерз...
Она вышла, но тут же вернулась и заботливо укутала меня шубой, наверное, той самой, которую предлагала с вечера.
— Нельзя ребенку без матери, никак нельзя, — Карлыгаш вздыхала. — Как только он до зари пролежал... И я, старая, не зашла раньше, не догадалась.
Короткий треск заглушил ее голос. Я догадался — Карлыгаш вспорола мешок. Набрав муки, она ушла, а я с удовольствием поворочался под шубой, устраиваясь поудобнее. Приятное тепло охватило меня, я стал засыпать. И тут — громко заржала лошадь, совсем рядом послышался твердый перестук копыт и голос табунщика. Нет, теперь-то мне не уснуть... Откинув шубу, я поднялся и вышел из сарая. Часть коней уже толпилась на берегу, другие еще только спускались к реке. Завидев меня, кони как по команде вскинули головы, словно испугались чужого человека. Но не разбежались: успокоясь, пошли своей дорогой. А табунщик, поудобнее перехватив длинный шест, подъехал ко мне.
— А-а, это ты?— сказал он, как будто сразу не узнал. — Не спал, что ли?
— Спал.
— Кто же тебя в такую рань поднял? — Сам проснулся.
— А, понятно... Пока жениха не увижу, огнем горю... Слыхал такое? Так и ты... Своих лошадей увидеть хочется?
— Хочется, ага!
— Сказано — ребенок... Погоди, хлебнешь работы — отмахиваться будешь. Где уздечка?
— Там.
— Как же ты своего белогривого поймаешь? — он спрыгнул на землю, хлопнул коня по крупу и тот, оглянувшись на хозяина, понял его, побрел к водопою.
— Я сейчас принесу уздечку.
— Не терпится? Эх, детство, молодо-зелено.... Табунщик, скрипя кожаными штанами, опустился на колено, стал не торопясь расстегивать пуговицы. А я по тропинке, утонувшей в зелени, бегом бросился к дому. Мелкая роса, иголками впиваясь в ноги, добавляла прыти. Мне так стало хорошо и легко, как будто у меня вдруг выросли крылья. Вспомнился сон... Так вот откуда взялось оно, необыкновенное чувство радости и счастья!
Внезапно я замедлил шаг, и дрожь, как озноб, охватила меня.
Словно ударился на бегу о невидимую стену, словно услышал над собой, а может быть, в самом себе, чей-то предупреждающий строгий голос — не торопи, Аскер, своей надежды, не торопи...
Я нашел уздечку и вернулся к реке. Пока бегал, табунщик, оказывается, уже поймал моего гнедого; конь стоял неподвижно, как бы придавленный к земле тяжелой рукой хозяина.
— Ага, у меня только одна узда.
— Зачем тебе две?
— А белогривый... Его как?
— Е-е, после обеда возьмешь.
— А можно сейчас... Я бы его с собой...
— На сенокос?
— Да.
— Стоит ли? Пусть с табуном ходит.
— Я бы нашел ему хорошее пастбище.
— Где?
— В балках... Там знаете, какая трава!
— Сейчас трава везде хорошая... Голодным твой белогривый не останется, не беспокойся. На, держи гнедого. Можешь не зануздывать пока...
Я принял поводья... Наконец-то! Мой конь в моих руках. Правый глаз гнедого слезится, весь затек. Ударили его, что ли? Ишь, как боится — пригибает голову, отворачивается... В одном месте на боку — плешь, была, значит, язва, а зажило — кожа рубцами взялась и волос здесь белый, как будто седой. Жаль, что табунщик не разрешил взять и белогривого, жаль... Я шевельнул поводьями, и конь послушно направился за мной к граблям.
Все вокруг залито солнцем. Еще не жаркие лучи, отражаясь в росе, слепили глаза. Скользя по голубому небу, они как будто высекали целые снопы серебряных искр. Все пробудилось — и аул наш, и ближние холмы, и дальние хребты гор; с каждой минутой, буквально на глазах, сжимались, становились короче тени.
Великих трудов стоило мне надеть хомут на большую, как ведро, голову моего гнедого. Хотя конь стоял смирно, я только с третьей попытки протолкнул хомут, и гнедой, мотнув головой, шумно и, как мне показалось, с облегчением вздохнул. И тут словно легким порывом ветра толкнуло меня в спину, чьи-то мягкие горячие ладони плотно закрыли мне глаза, и голос, заставивший вздрогнуть от радости, спросил:
— Угадай — кто?
— Назыкен! — вскрикнул я.
— Тише ты! Чего так кричишь? — она убрала ладони. — Людей напугаешь...
Едва ли в то мгновение я понимал ее. Я видел Назыкен, но о чем она говорит, понять не мог, я просто ничего не слышал. И так велика была радость встречи, что сердце мое чуть из груди не выскочило, а к горлу подкатил, перехватывая дыхание, горячий комок. Боясь взглянуть на нее, я с трудом выдавил:
— Вот... вчера приехал.
— Знаю... Вечером Уркия-апа говорит — сын Кульпан приехал. Я спрашиваю — как зовут его? Она не знает. Ну, я догадалась, что это ты. Как наши, живы-здоровы?
— Все живы и все здоровы.
— А ребята как, девочки?
— Хорошо.
— Вечерами собирались, наверное, играли... Ой, как я соскучилась, сил нет!
В глазах у меня потемнело. Все ясно — она скучала, но не обо мне. Обида жестко царапнула сердце, радость встречи сразу как-то померкла, даже утро уже не казалось мне таким чудесным, как полчаса назад.
— Сколько же раз играли без меня?
— Два или три вечера. Но было не так весело, как раньше, — я хотел сказать «как при тебе, Назыкен», но не смог. — Шолпанбай не дает играть.
— Почему? Чего ему, такому большому, надо?
— А спроси у него... Раза два из ружья палил, разогнал всех.
— Вот негодяй! За сестер боится, точно... Гульжан дома?
— Дома.
— О, тогда порядок! Гульжан организует, она умеет. Может быть, и сегодня соберутся...
У Назыкен от волнения, что ли, нежным румянцем порозовело лицо. Тоненькая, как веточка, она показалась мне в эту минуту намного взрослее меня. Даже ростом повыше... Последняя мысль мне не понравилась, обидной она мне показалась — даже кровь бросилась в голову.
— Еще есть новости, Аскер?
— Больше, кажется, нет.
— Кстати, ты-то зачем приехал?
— Да так... Несипбай попросил,
— Ого! Сено, что ли, косить?
— Я сгребать буду.
— О, джигитом стал! Эти грабли — твои?
— Да... Лошадь тоже моя.
— А чего она такая... сонная? Не выспалась?
— Глаз у нее болит. Видишь — камчой кто-то ударил.
— А я люблю машину водить. У отца Мухтаркула хорошая машина.
— Газик у него... Новенький.
— Он нас с Мухтаркулом покатал в кабине. До самой фермы. Хорошо!
— А что, Мухтаркул приезжал сюда?
— Был... Дней пять назад. Он, знаешь, куда поедет? В Джамбул на соревнования... Говорил, что сюда еще разок заглянет.
Мухтаркул — высокий мальчишка с длинными ногами и такими же длинными руками. Он каждое утро бегает, как заяц, вдоль канала, тренируется. Он старше нас — лет, пожалуй, на пять, этой весной в десятый класс перешел. Единственную в колхозе машину водит его отец, может быть, потому Мухтаркул так задается и всегда задирает перед нами нос. Вредный мальчик и мне кажется — злой. Как-то раз, когда я хотел просто посидеть в кабине машины, он дал мне пинка. За что? С тех пор я ненавижу его, как собаку, видеть его не могу. А вот Назыкен... Ну, что хорошего нашла она в нем? Когда заговорила о Мухтаркуле, даже голос у нее изменился и взгляд тоже. Я почувствовал себя обиженным и оскорбленным.
— ...Ты его видел?
— Кого? — вопрос не сразу дошел до меня. -А! Нет, не видел. И видеть не хочу!
— Да он с вами и не играет, наверное.
— Нужен он нам, как верблюд.
— Зато он станет спортсменом...
Мечтательная дымка заволокла ясные улыбающиеся глаза Назыкен, и я с горечью почувствовал, что сейчас она от меня далеко-далеко, как та звезда, что светила вчера ночью высоко над горами.
— И верблюд тоже быстро бегает. Ну и что?
Злость кипела во мне, голос срывался обидой, но в своих мечтах Назыкен, казалось, ничего не видела и не слышала. И вдруг, как бы избавляясь от упорной неотвязной мысли, она тряхнула головкой и весело дернула меня за рукав.
— Аскер, ты знаешь, что принеси мне?
— Что?
— Ежевики принеси. — Ладно.
— А ты изменился, Аскер.
— Как? .
— Вежливым стал...
— И ты изменилась. — В чем?
— Подросла. Выше стала.
— Где там! Давай померимся, — она схватила меня за руки, притянула к себе; наши тени, падая в балку, наплывали там друг на друга. — Э, так не получится... Не упирайся, не отводи голову, — ладошка Назыкен скользнула по моей голове, дыхание ее, казалось, обжигает мне лицо. — Вот видишь, мы с тобой как были, так и остались одного роста... Не беспокойся.
От волнения и неожиданно вспыхнувшей нежности я чуть не задохнулся. А Назыкен, отступив, спокойно поправила волосы, лукаво улыбнулась и спросила:
— Мукой еще торгуешь?
— Нет... Ну ее!
Я покраснел. Понимал, что Назыкен шутит, а все равно стало неловко. Я иногда ходил на станцию Бирлик и кое-чем торговал там, выручая небольшие деньги, так, на чай и сахар. А в одно из воскресений надумал поторговать с размахом — повез муку. В дороге меня застал дождь, ливень в полчаса превратил мою муку в тесто — хоть лепешки пеки. Вот об этом случае и вспомнила сейчас Назыкен.
— Аскер, я так скучаю по дому! А помнишь, как у тебя в носу кукурузинка застряла?
— Два дня ее таскал, А мама послала меня к вам за ситом. На обратном пути я упал и так трахнулся, что зернышко само выскочило. Думал — все, останется в носу, ростки пустит.
— Грустно... Не надо ничего вспоминать!
— Ты же первой начала.
— До конца каникул останешься?
— Наверно...
— Хорошо... И мне веселее будет.
— Ты в аул поедешь — и я с тобой.
— Ты хороший парень, Аскер, добрый.
— А ты... ты красивая.
Она вспыхнула, быстро и благодарно взглянула и тихонько стукнула меня пальчиком по голове.
— Я побегу, Аскер... Корову надо подоить.
— Ты?
— А что я — белоручка?
— Ты еще ребенок, маленькая девочка.
— Вот как?! Будь здоров, парень!
— В обед дома будешь?
— Ага, дома.
Она махнула рукой и вихрем припустила по тропинке. Назыкен убегала, а длинная тень ее фигурки еще долго качалась возле меня. У дома она оглянулась, и я опять почему-то вспомнил сон... Как бы там ни было, а я все-таки счастлив. Наверное, счастлив...
6
Несипбай едет немного впереди нас. По склону холма, обросшему коде, как бородой, спускаемся вниз. Сидеть неудобно и жестко. Грабли на кочках кидает из стороны в сторону, кажется, что вот-вот слетишь с сиденья. А сейчас на спуске и вовсе опасно. Не удержи коней — покатишься до самого дна, костей не соберешь.
Старая неширокая дорога хороша для лошадей, а граблям она узка, высокие колеса так широко расставлены, что грабли катят не по дороге, а по ее обочинам. Колеса подминают густую темную зелень, она на миг прижимается к земле, потом медленно выпрямляется. Мы уже далеко, а репейник все еще качает ворсистыми фиолетовыми головками — кажется, что он перепугался до обморока и теперь никак не может прийти в себя.
Угодья, куда мы направляемся, богаты травами. Собственно, ими и славится Кербулак. Об этом за утренним чаем шел у мужчин разговор. Они говорили, и это верно, что таких трав, как здесь, нигде нет. Зелень, как поднимется, так все лето и сохраняет свою свежесть и сочность. Не ленись только, не теряй время — и будешь с добром, обеспечишь скот на зиму кормами вдоволь, с запасом. Все казахи, считай, с малых лет чабаны, а кому, как не чабанам, знать, что зимы бывают разные. Иная так закрутит, что о зимних пастбищах и думать не смей. Тогда и выручает скотовода сено, заготовленное весной и летом. Вот обо всем этом и вели утром неторопливую беседу сенозаготовители. Я слушай, и мне было приятно ощущать свою причастность к такому важному делу.
И настроение у меня хорошее — ни тени на душе, ни облачка. Захваченный восторгом, я совсем позабыл про опасный крутой спуск и чуть-чуть, понукая лошадь, отпустил вожжи. И тут же весь похолодел... Что я делаю? Понесет лошадь — и сама убьется, и мне несдобровать. Спуск долгий, тянется далеко, до самой мельницы, а ее и видно-то отсюда едва. С трудом я сдержал гнедого и облегченно перевел дыхание. А тут и Несипбай, натянув поводья, остановил своего коня, повернулся к нам:
— Как, ребятки, сами спуститесь?
— А чего там! — ответил Зелим. — Запросто.
— А ты как?
Я молчал. Хотелось мне ответить так же бодро, как и Зелим, но я решил не лгать Несипбаю. Тот понял, что я побаиваюсь, и приказал:
— Давай-ка поменяемся.
Он передал мне своего оседланного коня, а сам сел на мое место. Тронулись. Я видел, что Зелим, изгибаясь, отчаянно тянет на себя вожжи, но коню трудно — грабли, стуча колесами и подпрыгивая, заметно набирали скорость. Разобьется, дьявол! С замершим сердцем я следил за ним, казалось, ничто уже не остановит понесшую лошадь. К счастью, немного ниже уклон оказался не таким крутым, и Зелиму удалось-таки из последних сил перевести коня на шаг. А Несипбай спустился хорошо, да это и понятно — рука у бригадира потверже. Все обошлось, но сердце мое от пережитой опасности еще долго и сильно колотилось в груди.
— Так, ребята, — Несипбай спрыгнул с граблей, передал мне вожжи. — Видите вон тот выступ? Правьте на него... За ним равнина есть, плоская, как доска. Начинайте с левой стороны, сгребете — переходите на правую. Поняли? Не бойтесь, не заблудитесь. Держите на вербу, вон стоит она под утесом... Работы хватит вам на сегодня и завтра. Сгребайте хорошенько, лучше меньше сделайте, да лучше. Позже загляну к вам — проверю... Ну, в добрый путь!
Несипбай кивнул нам и направил коня по-над речкой вниз, туда, где шла косовица трав.
Долина, куда мы спустились, очень похожа на огромное корыто, на дне которого было свежо, даже холодно, словно именно здесь скопились остатки резкой ночной прохлады. Берега речки густо и ровно поросли молодым зеленым камышом; из-за реки, с лугов, доносит ветерком аромат трав. Вид, что открывался взгляду, был необыкновенно красив. В белый наряд курая вплетены нити шириша.8 Издали кажется, что тут и там сидят и покачиваются на тоненьких травинках желтые птички; лишь всмотрясь пристальнее, понимаешь, что это колышутся ветром бурые, как перепела, головки семенников.
А вот еще интересные травы. Они увенчаны мягкойпушистой метелкой, что делает траву похожей на коровий хвост. А стоят они как-то настороженно, что ли, готовые в любую минуту пуститься наутек. Рядом с ними, вскинув желтый зонтик, прямо, немного угрюмый в своем одиночестве, стоит одуванчик. Редкие красные цветочки, словно стыдясь и смущаясь своего любопытства, взглядывают на нас из-под еркек-травы. Зато белоголовый шалфей, светясь семилинейной лампой, стоит гордо и независимо. Под стать ему и каракуйрык, который, изогнув к небу свою лебединую шею, на всех поглядывает свысока; временами он, пьянея от густого аромата кикоты — душистой травки, низко склоняется к земле.
Поляна, поразившая меня своей красотой, совершенно не тронута. А почему — кто знает? Может быть, эти травы оставлены хозяину того ветхого домишка, что сутулится на краю луга? Может быть, может... А вот дальше широко раскинулось то поле, на которое и направил нас Несипбай, уже хорошо видны копны и зеленые строчки валков.
Нам еще предстояло перебраться через Кербулак. Самой реки, пока не подъедешь к ней вплотную, не видно за высокой стеной камыша, только мощный гул выдает близкое присутствие стремительной воды. В такую с ходу страшновато сунуться, и мы на минуту придержали коней. Старая дорога, срываясь с берега в воду, на той стороне как бы выныривает из нее. Осторожно, уже не понукая лошадей, въехали в речку и сразу почувствовали, насколько сильно и неудержимо здесь течение. Грабли наши идут тяжело, с трудом одолевая яростный бурный поток. Вода, встретив сопротивление, вскипела пеной, ей стало тесно привычное русло, и она мокрой нечесаной гривой волн широко хлестнула по берегам. Казалось, разъяренная река совсем' выйдет из берегов, но тут наши грабли выбрались на сухое, и вода, отхлынув, успокоилась.
— С какого края начнешь, Аскер?
— А ты?
— Мне все равно.
— Мне тоже.
— Тогда я с этого начну.
— Согласен.
Хотя я и старался говорить спокойно, но все во мне так и дрожало, я страшно волновался, и волнение это, наверное, передалось гнедому — конь тревожно прянул ушами и оглянулся. Как бы успокаивая меня, качнул большой головой — все, дескать, будет хорошо, зачем так переживать...
«Бисмилля, дай нам бог удачи!» — я прошептал часто слышанное мною присловье. Опустив зубья граблей, направил коня вдоль ровного валка сваленных накануне трав, и гнедой, легко взяв с места, привычной размеренной поступью двинулся вперед.
Работа так увлекла меня, что я совсем не замечал бега времени. Оглянулся — высятся позади аккуратные и округлые, как юрты, копны. Ага, опять пора выгружать... Нажал на рычаг — и еще одна копна крутой верблюжьей спиной застыла на ряду. Хорошо! Если дело и дальше так пойдет, травы этой поляны надолго не хватит. Увлеченный безостановочным движением, я не сразу заметил, что гнедой подустал — бока его высоко вздымались и стали влажными, горячее дыхание коня иногда прерывалось легким храпом. Но умное животное, словно не желая показывать усталости, все так же упорно, не сбиваясь с шага, двигалось вперед. Сильный конь у меня, подумал я, молодец... До приезда Несипбая можно все сгрести здесь, до травинки, а потом перейти на другую сторону. И ночью даже можно работать, при луне... Нет, бригадир, наверное, не разрешит, и лошадям, скажет, тоже отдыхать надо.
Я взглянул в сторону Зелима — как он там? Мои копны казались повыше, чем его. И междурядья вышли ровнее, протянуты, как по нитке. Все поле лежало позади, как чисто прибранная комната — такой работой, сказал я самому себе, можно гордиться. Я ликовал в душе, представляя, как вечером все станут хвалить и поздравлять меня. Усталости я не чувствовал, одна только радость жила во мне, яркая, как факел.
— Ах ты, х-холера!
Сердитый возглас Зелима разом оборвал мои мечтания. Что это с ним? Зачем спешит так? Я вижу, как Зелим зло дергает вожжами, хлещет ими по крупу коня, и тот то идет шагом, то, дергаясь, сбивается на рысь. Низко и в сторону склонив голову, животное, словно от огня бежит, стараясь идти все быстрее и быстрее.
Не прошло и пяти минут — снова крик Зелима. Голос его полон ярости и злобы — так он вопит, когда дерется с кем-нибудь. Грабли его остановились... А, понятно. Конь каким-то образом выбрался из оглоблей, и теперь стоял, понурив голову и тяжело дыша. А Зелим, перекосив рот, хлестал его плетью и орал на весь Кербулак:
— Я горло у тебя вырву, кляча несчастная! Смотри, упирается, а? И-й, кость собачья, пошла вперед! Но-о-о!
Зелим надрывается, орет, хлещет коня, а тот — ни с места, только пятится. Ой-е, так и грабли поломать недолго!
— Чтоб ты подох, дьявол! Клянусь, высосу из тебя кровь!
Он отшвырнул плеть и кинулся к морде коня, навалился на него всем телом. Они мерялись силами, ворочаясь, как дикие звери. Не знаю, что там случилось и как, но Зелим вдруг, отчаянно вскрикнув,— ой, мама! — метров на пять отлетел в сторону и распластался на земле без движения, как мертвый. Подбежав, я в испуге склонился над ним, но Зелим, изловчась, больно пнул меня:
— Уйди с глаз!
— Что случилось, Зелим, а?
— Сказал — уйди!
— Да ты что, очумел? Скажи, в чем дело?
Зелим, лежа, прикрывая руками левый глаз, попробовал еще раз пнуть меня. Я отскочил в сторону — не драться же с ним.
— Все из-за тебя! — он сверкнул глазом.
— Почему?
— Почему-почему? — Зелим скривился, передразнивая меня. — Зачем гонишь лошадь? На пожар спешишь, да?
А, вон в чем дело!
— Разве плохо, если быстрее закончим? Нам же лучше.
— Держи тогда, если лучше! — он дрыгнул ногой, но не достал и вдруг притих, попросил. — Дай руку... Я не я буду, если не высосу кровь этой проклятой лошади.
Вскочив на ноги, он, дико озираясь, крутанулся на месте и, схватив подвернувшийся под руку камень, с силой швырнул им в голову коня. На миг онемев от боли, конь вскинулся, попробовал, обрывая постромки, встать на дыбы. Ничего у него, конечно, не получилось, только совсем запутался в упряжи. От гнева и злости у меня потемнело в глазах, кровь бросилась в голову, и я, не помня себя, рванулся к Зелиму.
— Ты что делаешь, сукин сын! Оставь коня!
— Ах, так! Я тебе покажу сукина сына! Схватились мы яростно. Зелим с ходу ударил меня головой — метил в нос, но, к счастью, промазал, удар пришелся в плечо. От второго удара я увернулся, сгреб его в охапку, оторвал от земли. Потный и вонючий, как козел, Зелим рвался из рук, молотил меня кулаками по чем попадя и орал так, как орет ишак на закат солнца. Если швырнуть его на землю, подумал я, тогда все, тогда, считай, драка пойдет не на жизнь, а на смерть. Пока я думал, как поступить, Зелим изловчился и коленом съездил мне по носу. Хлынула в три ручья, заливая рубашку, теплая кровь. Я отпустил Зелима, шатаясь, отошел в сторону и опустился на траву. А он встряхнулся, как мокрый пес, но в драку больше не полез, только ворчал:
— Получил сукина сына? То-то... Впредь не распускай язык, вырву вместе с глоткой.
Я промолчал, умышленно ничего ему не ответил. Так лучше, пусть успокоится, остынет малость... А драться с ним до конца — бесполезное дело, он только в том случае утихомирится, если я проломлю ему голову. Или он мне. А зачем? Худой мир лучше доброй ссоры...
Рассуждал-то я правильно, а все равно оставался на душе какой-то неприятный осадок. Что ни говори, а нос-то мой разбит, и не Зелим, а я первым прекратил драку, уклонился от нее. Испугался? Ну и пусть...
Я поднялся и пошел к реке. Вода манила к себе чистотой и свежестью, волны плескались у ног и словно бы успокаивали меня своим плеском. Мелкие камешки на дне блестели осколками бриллиантов, сверкал крупицами золота чистый песок. Весь подводный мир как бы освещался ровным и чистым пламенем. Горькая обида, которую я долго сдерживал в себе, здесь, у реки, где царили покой и нежность, прорвалась и затопила сердце. Я с трудом проглотил подступивший к горлу комок, склонился к прохладной воде и быстро омыл кровь с лица и рук. Поднялся — рядом стоит, понурясь, Зелим.
— Ударь меня, Аскер! Бей... Бей, сколько влезет.
Я ничего ему не сказал и молча повернулся, чтобы уйти. Но Зелим схватил меня за руку и придержал.
— Нет, ты бей меня, говорю же. Бей дурака, — он моими руками хлестнул себя по голове.— Вот так бей! Не жалей...
— Брось, Зелим... Зачем?
Не знаю отчего, но я чуть не заплакал. Злость на Зелима не прошла, но к ней добавились еще раздражение и жалость и еще какое-то непонятное чувство. Я растерялся, не зная, что делать — злиться, шугануть ли его, куда подальше, или...
— Аскер, ты извини меня... Я виноват.
— А лошадь почему не пожалел? За что ты ее?
— За что?! Вот, смотри — он ткнул пальцем в свой левый, заплывший огромным синяком, глаз. — Видишь? Уперлась и не идет... Ну, я взял и укусил ее за ухо, а она, собачье отродье, ка-а-к двинет меня головой. Думал — убила совсем... Как теперь людям на глаза покажусь, не знаю...
Он сокрушенно крутил головой, то и дело щупал пальцем синяк, зрачок подбитого глаза покраснел, зато правый, здоровый, горел сатанинским зеленым огнем и стал, кажется, еще больше. Я смотрел на Зелима и с трудом сдерживался от смеха. Вот как получилось все — и смех, и слезы... А молодец конь, подумал я, хорошо постоял за себя... Вслух же сказал:
— Ничего, Зелим... Приложим подорожник — мигом пройдет.
— А, синяк — ерунда! — Зелим махнул рукой. — Из-за нее, проклятой, я на тебя руку поднял... Ты уж извини, ладно...
— Ну, а как же иначе? Конечно...
— Не обижайся, друг! — он обнял меня за плечи. — Обоим крепко досталось.
Зелим сказал — друг, но дружба у нас, настоящая крепкая дружба началась несколько позже. Мы немного полечили свои ушибы подорожником и отправились искать ежевику... И коням надо было дать отдых, да и я ни на минуту не забывал о просьбе Назыкен. Вечером принесу ей ягод, много принесу, она, конечно, обрадуется, а для меня видеть ее радость — уже счастье.
Невесть откуда пробился к солнцу, зазвенел маленький ручеек. Силенок у него маловато, но бежит ручеек, дрожит и дрожь его, завиваясь, похожа на драгоценный каракуль новорожденного ягненка. Вот он свернул вправо и устремился по склону вниз, к реке. Завидев большую воду, обрадовался, припустил еще быстрее, вприпрыжку, а там — нырнул и словно пропал в ласковых объятиях доброй реки. Так дитя после дня разлуки, ликуя и радуясь, бежит навстречу матери, с восторженным лепетом бросается к ней на руки и замирает, прильнув к материнской груди.
Дно реки в этом месте заросло водорослями. Воздух у реки напоен мятой, таким воздухом всю жизнь дыши — не надышишься, каждый глоток его вливает в тебя новые силы и бодрость.
И цветов здесь много, но еще больше, наверное, бабочек. Нарядились бабочки, как наши девушки на праздник, и каждая, перелетая с цветка на цветок, словно красуется перед ними своим нарядом. Взлетит бабочка с повилики, и бледный невзрачный цветок ее, дрожа лепестками, как бы устремляется за ней, красивой и гордой. Но не дано цветку полететь, как бабочке, а порыв его понятен — это ветерок налетел, вот и взмахнул цветок лепестками, как крыльями.
От реки мы пошли по ручейку. Вела нас, вела серебряная нить и привела к пестрому камню, а у камня — оборвалась. Отсюда, из-под этой пестрой глыбы и берет свое начало ручеек. Камень тяжел, и слабая струйка воды с величайшим трудом выбивается на волю. Я чувствую жалость к ручейку и уважение к его упорству, я восхищен его неудержимым порывом к солнцу и свету, к свободе и движению.
А вот родник у камня почему-то кажется безжизненным, жалким и подавленным. Наверное, потому так кажется, что родник на первый взгляд совершенно спокоен, не вода, а слезы несчастного пленника скопились в неглубокой чаше.
Я осторожной ладонью коснулся глади воды; родник вздрогнул, обжег руку холодом и как бы оттолкнул ее. Прохлада воды и ее чистота вызвали жажду. Склонясь, я припал к роднику сухими губами и долго, жадно, до ломоты в зубах, пил. Я еще пил, а на лбу уже выступили крупные капли пота — вот так же взмок и старый Токбай, выпив вчера у Карлыгаш зерен кумыса. Не вставая с колен, я окатил водой грудь и шею.
— Аскер, эй Аскер!
Громкий возглас Зелима встревожил меня. Что у него там опять случилось? Не змея ли ужалила?
— Аскер, топай сюда... Погляди, красота какая!
Я двинулся к высокому утесу. Вокруг него синело ледком озерцо воды, местами покрытое мхом. И широко вокруг утеса, огибая его, тянулись лохматые плети ежевики. А где же Зелим? Куда пропал? Кричал-то он, я был уверен в этом, отсюда.
— Ого-го, Аскер!
— Ого-го, Зелим!-ответно прокричал я. Понятно — он на той стороне утеса. Ладно, а я буду собирать ежевику здесь, вон ее сколько прячется под листьями, не сосчитать. Ягоды пружинят под пальцами, вырываются, а перезревшие — чуть к ним прикоснись, падают на землю. Я собираю ежевику в кепку и спешу, как на пожаре. Вроде бы чисто подбираю, а оглянусь — на том месте, где только что был, ежевики полным-полно, горит она в зелени, поддразнивает.
Зелима не слышно; я тоже молчу, быстро обрываю ягоды, словно боюсь, что Зелим наберет больше меня. Наверное, и он так думает, потому и молчит в своем углу. Сколько же здесь добра пропадает, мелькнула мысль, куда люди только смотрят... Вот это и называется — не видеть под носом. Не приди сюда мы, пропала бы вся эта ягода, сладкая, как мед. А что другие не пришли — им же хуже... Слепой — он и верблюда не увидит, пока на него не наткнется.
Мысли мои прервались глухим перестуком копыт. Долетел звон узды. Зелим, мы уже почти сошлись с ним, резко выпрямился и стал крутить головой, выглядывая — кого это несет к нам? Смешно... Все лицо у Зелима соком ежевики перепачкано, губы красные, как у волка, когда серый, задрав ягненка, только что позавтракал им.
— Пропали, Аскер! — Зелим, совсем как волк, облизнулся. — Несипбай прется.
И точно — вылетел к утесу Несипбай, крутится на коне, взмахивая камчой, кричит, страшно разевая большой рот:
— У, сукины сыны, работнички! Я, старый дурак, поверил им, а они ягоды собирают. Сладкого захотелось? Гнать вас в три шеи, сорванцы!
Мы с Зелимом переглянулись и, что есть духу, припустили к граблям. Бежать по высокой траве нелегко, хлещет, она по ногам, путает их, но мы бежим без оглядки, рискуя на любой ямке, выбитой копытами скота, сломать себе ногу. Зелим отстал и, наверное, Несипбай настиг его — тонко свистнула плеть, грозный голос бригадира словно ударил меня в спину.
— Вам что, работа — игрушки, чертовы дети?!
— Ага, помилуй! — Зелим завопил. — Мы лошадям дали отдохнуть. Устали лошади.
— Чтоб тебя конем придавило! Загнали скотину?
— Нет... Они сами устали.
— Вот я вас!
Я зайцем метнулся к берегу и юркнул в камыши. Замер. Разрывая грудь, сильно и часто билось сердце. А речка плещется волнами и словно подсмеивается надо мной. Когда перебранка Зелима с Несипбаем затихла, я, раздвинув камыши, осторожно выглянул из своей засады. Бригадир и Зелим идут рядышком, мирно, как будто ничего и не случилось. У граблей остановились. Несипбай спрыгнул с коня, сказал:
— Позови... этого... друга своего.
— Аскер!— заорал Зелим. — Иди сюда, не бойся!
Надо идти... С опаской поглядывая на бригадира, подошел, но, на всякий случай, остановился от него подальше.
— Сукины дети! — Несипбай оглядел нас. — Вам что, тесно в долине? Почему подрались?
Я взглянул на Зелима — может быть, знак какой подаст. Но у Зелима на лице полное спокойствие, как будто вопрос бригадира не имеет к нему никакого отношения.
— Ну, чего молчите? Или отвести вас в Шокпар да сдать в милицию?
— Ага, извините нас, — тихо попросил Зелим.
— А ты — молчи... Я тебе сказал — запрягай! Придется вас развести от греха подальше.
— Не надо, бригадир... Разрешите нам с Аскером вместе.
— Эй, заткнись! Лезь на грабли, работай.
Зелим, направляясь к граблям, моргнул глазом. Я понял, что настала пора мне просить Несипбая.
— А я что, один буду работать, ага?
— Один... Или думаешь, что тебя съест кто-нибудь? Поработали вместе, фокусники, хватит. Ишь, у одного нос расквашен, у другого — фонарь под глазом. Красавцы! Не морочь мне голову! А ты, Зелим, погоняй! — он подождал, пока тот отъехал подальше и повернулся ко мне, сказал, понизив голос: — Эй, малыш, зачем тебе с ним оставаться? Этот придурок и убить может.
— Мы больше не будем драться, ага.
— Брось болтать! -он строго прикрикнул и вновь понизил голос. — Работал ты, в общем, хорошо... Так и продолжай, а я напишу за день три трудодня. Только коня не загони, посматривай. Когда и отдых дай... Ну, приступай!
Мне совсем не хотелось расставаться с Зелимом. Вот он оглянулся, спрашивая взглядом — вышло что-нибудь? Я покачал головой. Зелим понурился, весь сгорбился и оттого стал похож на большую печальную птицу. Несипбай окриками поторапливал его, но Зелим словно и не слышал бригадира, все оглядывался и вскидывал вверх руки. Радуется он или тоже жалеет? Еще немного, и они скрылись из глаз, а я остался один-одинешенек. Как плохо одному, подумал я, скучно сразу стало, и уже не так радостно стучит сердце...
Я пошел к граблям, думая о том, почему же Несипбай ни слова не сказал о ежевике, хотя вся неприятность случилась из-за нее.
7
— Ты почему на обед не пришел? О боже, целый день терпел. Зачем?
Такими словами встретила меня вечером Карлыгаш. Добрая женщина, упрекая и сетуя, то и дело всплескивала руками:
— Бедное дитя, так мучить себя разве можно? И заболеть недолго... А что будет с матерью, ты подумал? У нее, бедняжки, нет другой надежды и опоры, кроме тебя. Больше так не делай, приходи на обед, как все... Колхоз одним человеком не держится, жилы из себя тянуть не надо. Чего сегодня не успеешь, завтра сделаешь. Все равно Несипбай большеротый не озолотит тебя, как бы ты ни старался, дворца тебе не построит... Вон, смотри, другие давно уже здесь, ходят вокруг меня, только о еде у них и разговор... Почему так поздно?
Я не знал, что и ответить, сказал первое, что пришло в голову:
— Дядя Несипбай велел сегодня же закончить делянку... Вот я и работал.
Мое объяснение не успокоило Карлыгаш, напротив, она разошлась и стала ругаться пуще прежнего, обрушив гнев своего доброго сердца на ни в чем не повинного Несипбая.
— Ах он, окаянный, что делает? Со своим сыном так не поступил бы, безбожник большеротый. Заставить бы тебя самого без еды целый день на граблях трястись, так нет, он на пацана навалился...
Карлыгаш еще долго ругала и Несипбая и всех, кто в эту минуту случайно подвернулся ей под горячую руку. Ее внимание и заботы были приятны, они согревали мне сердце, как мамина ласка. Еще утром, когда я взгромоздился на сиденье граблей, Карлыгаш подошла и сунула мне лепешку, завернутую в чистую тряпицу.
— Бери, бери, — говорила она. — Хлеб спины не ломит, а на свежем воздухе лепешка слаще меда покажется. Да смотри, сам съешь, а та холера,— она кивнула на Зелима, — и так не подохнет, здоров, как бык.
Лепешку я съел в обед, макал куски в воду, как в сметану, и ел. Все, до крошки, подмел. Вкусно... Карлыгаш забыла, наверное, о лепешке, вот и ругается, что на обед не пришел. Так и мама моя ругается... Все мамы в этом похожи друг на друга.
Есть я и сейчас не хочу. Как пришел на стан, так с той минуты и жду чего-то и все поглядываю на дом тетки Кулии. Выпряг коня, отнес под навес упряжь и все — делать было больше нечего. Оставалось только слоняться туда-сюда. Вот я и ходил и ждал, не спуская глаз с заветного дома. Несколько раз распахивалась дверь, то один, то другой из домочадцев выскакивал. Когда дверь открывалась, на улицу от зажженной лампы падала длинная полоса света; захлопнут двери и свет исчезает, словно дом тетки Кулии, спохватившись, что наболтал лишнего, поспешно прикусывает язык. Вот снова с коротким скрипом открылись двери... Нет, опять не она, пацан какой-то вышел и, посвистывая, направился в огород.
В воздухе повеяло влагой, с ближних лугов донесло резкой и всегда волнующей меня горечью полыни. Далеко-далеко, в глубине киргизских гор, сверкнула молния, словно рыбешка, играя, серебром чешуи блеснула. На лугу за речкой громко заржали лошади, и ржанье их долго поднималось в темное безлунное небо. Я встрепенулся — надо и мне отпустить на волю своего гнедого. Я довел его до спуска к реке, снял уздечку. Конь, почуя свободу, всхрапнул и исчез в темноте разыскивать своих товарищей.
— Акжолтай, Акжолтай, на, на!
Верный пес, как дьявол, вынырнул из темноты; он едва не сшиб меня с ног и, рыкнув, бросился к дому Кулии. Я глянул — двери открыты, а у ворот кто-то стоит, но кто — не узнать, темно.
— Тише, ты! Куда торопишься так?
Это — она, ее голос я узнал бы из тысячи других. Сердце на мгновение замерло, а потом забилось в груди, как птица в силках. Как ни темно было, я все же увидел, что Назыкен повернулась, чтобы уйти.
— Назыкен!
Она остановилась. Наверное, удивленная окриком, не сразу отозвалась:
— Кто там?
— Это я, Назыкен... Не узнала?
Теперь-то она узнала, конечно, но еще постояла немного, чутко прислушиваясь к чему-то, потом со звоном поставила на камень железную чашку и, приговаривая: «Акжолтай, дурачок, ну, чего распрыгался?» — подошла ко мне.
— Ты, Аскер? Чего бродишь ночью?
Я схватил Назыкен за руки. Она не отняла их.
— Утром же виделись...
Не отвечая и плохо соображая, что делаю, я прижался губами к ее руке.
— Что с тобой?— в голосе ее зазвучали тревога и нетерпение. — Перестань же, а то уйду! Когда пришел?
— Давно...
— Ой, неправда! Не было тебя... Я дважды прибегала к Карлыгаш-апай.
— Я позже пришел... Пока добрался, солнце село.
— И-й брехунишка! Ударником хочешь стать?
— Как?
— А так... Работай от темна до темна, вот и станешь у нас передовиком... Гляди, и орден получишь.
— Мне он не нужен.
— А что же тебе нужно?
— Ежевики хочешь?
— Принес? Много?
— Полную фуражку.
— Ой, какой молодец... Только давай отойдем отсюда, как бы сестра не увидела. Где же она?
— Спрятал... Там, на берегу речки.
— Пошли.
— Не замерзнешь?
— Летом., замерзнуть?
По невидимой в темноте тропинке мы стали спускаться к реке. Идти по мокрой траве было трудно, ноги скользили, а довольно крутой спуск так и увлекал вперед.
Поддерживая Назыкен, я помог ей сойти.
— Аскер, иди потише!
— Уже пришли... Здесь спрятал.
— Подальше не мог?
— Для тебя старался.
— Ой, обиделся, хвастунишка... Когда успел научиться?
— А как родился, с первого дня.
— Серьезный парень... Совсем взрослый. Ты и в самом деле молодец... Глава очага! Так тебя мама моя зовет.
— А тебя?
— Меня? Воровкой сладостей — вот как.
— Ты невеста уже.
— Да исполнятся все твои желания.
— Я у судьбы мало прощу. Пусть она подарит мне твой смех.
— Ой! Да возьми его, возьми... Помнишь, директор школы целый час распекал меня за то, что очень громко смеюсь на уроках. Возьмешь мой смех и уже не меня, а тебя ругать станут.
— Тише!
Наверху послышались голоса — наверное, рабочие перед сном вышли подышать воздухом. Голоса звучали то громче, то тише, вспыхивали огоньки — прикуривали. Двое спустились к реке и пошли было прямо на нас, но потом свернули в сторону. Заметили или нет? А те двое постояли недолго, переговариваясь, и ушли наверх.
— Ух! — Назыкен глубоко вздохнула. — Думала, сердце выскочит, агатай!
— Я тоже испугался.
— А если увидели?
— Не-ет. А что мы? Ежевику кушаем.
— Все же... одни.
— Сладкая?
— Ага... Где собирал?
— Возле утеса, за мельницей.
— А-а, знаю... Там каждое лето полно ягоды.
— Завтра еще принесу.
— Будешь меня каждый день ягодой кормить. А какой завтра день?
— Среда... Зачем тебе?
— Просто... К слову пришлось.
Но я насторожился. Мне отчего-то показалось, что Назыкен неспроста спросила, есть у нее на уме что-то, чего сказать мне она не хочет.
— Аскер, не скучаешь по дому?
— Не успел еще... Вчера же только приехал.
— Интересно, что там сейчас девочки делают?
— Я о них не думаю. Что они мне? А тебе нравится здесь?
— Что хорошего? Скучно, — она сорвала травинку. — А тебе?
— Сейчас... да, нравится.
— Мальчишки мало мечтают, не умеют они мечтать. Так, Аскер?
— Почему?
— Не знаю... Не умеют и все.
Она замолчала, а я неожиданно разволновался. Открыться бы ей сейчас, но как объяснить одним словом все, что чувствую? И есть ли они, такие слова?
— Каждый мечтает по-своему и о своем, — пробормотал я не очень уверенно. — Кто как умеет...
— Не о тебе говорю, я о другом... Других понять никак не могу.
Опять загадка! От такого разговора хорошего не жди... Меня, значит, поняла? Нет, Назыкен, не поняла... Вот ты и не догадываешься, что меня сейчас немного разозлил твой тон — говоришь со мной, как с малышом, вроде бы знаешь такое, чего мне никогда не понять...
— Кого же ты не понимаешь?
— Не кричи, говори потише.
Злость моя прошла, я почувствовал себя в чем-то виноватым и, как бы спрашивая прощения, прикоснулся к ее руке. Я уже давно заметил — как бы ни было тяжело моему сердцу, а долго обижаться на Назыкен я не могу. Ну, а упрекать — тем более.
— Не замерзла?
— Разве тебе не все равно?
— Нет.
— Ты хороший, Аскер. Чистая у тебя душа.
— И ты хорошая. Я...
Мне показалось, что звезды на небе словно их подхватило ветром, закружились и одна за другой стали осыпаться, пропадая за темным холмом.
— ...Поцелую тебя, Назыкен... — я с трудом шевельнул пересохшими губами.
Потом мы оба замолчали, боясь взглянуть друг на друга, а звезды опускались все ниже и ниже, но, не долетев до земли, замирали, качаясь над чернеющим вдали холмом.
Наверху скрипнула дверь, блеснули и потянулись к нам по мокрой траве лучи слабого света. Из дома Назыкен — отсюда, от реки, он был хорошо виден — вышла ее сестра, стала у порога вглядываться в темноту.
— Прямо сквозь землю провалилась попрыгунья, — заворчала она. — Ушла и пропала... Назыкен, эй, Назыкен!
Мы затаились.
— Теперь пропали, — тихо прошептала Назыкен.
— Подожди... Ничего...
Кулия обошла дом кругом, увидела и взяла оставленную Назыкен чашку, еще раз оглянулась и, продолжая ворчать, скрылась в доме.
— Побегу я, Аскер.
— Назыкен, думай обо мне, пока не заснешь.
— И ты... думай.
8
Прошло еще несколько дней. Похолодало. Ветер, прохладный днем, к вечеру усиливался, становился холодным и, рыская по горам, протяжно завывал в ущельях. На глазах желтели степные травы. Сохраняли свежесть, играя всеми цветами радуги, только луга в низинах.
И сегодня с утра — ветер. Его беспокойные порывы с каждой минутой набирали силу. Появились облака. Лохматые, они угрожающе росли и ширились; расстилаясь над холмами, вскоре затянули все небо. Тучи так низко опустились над землей, что, казалось, их запросто можно достать вилами.
Запрягая гнедого, я нет-нет да и поглядывал на небо. По всему видно — будет большой дождь. «Верблюжий» лист, срываясь ветром с копешек сена, ястребиным крылом пластался в воздухе и то чиркал о землю, то вновь взмывал кверху.
Подошла Карлыгаш, встала рядом и, неодобрительно покачивая головой, смотрела на мои сборы.
— Не ходил бы сегодня, Аскер... Видишь — непогода. И холодно... Прямо зима в середине лета.
— Если дождь пойдет, вернусь?
— И чего ты, малыш, такой беспокойный? Сидел бы дома, поспал бы еще... И-й, упрямый мальчик, послушайся меня. Все равно обратно придешь.
Карлыгаш, видя, что я уже разобрал вожжи, поджала губы и, продолжая ворчать на погоду, в какую хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит, ушла в дом. Добрая женщина, наверное, обиделась на меня, подумал я, может, и вправду надо было послушаться ее совета и остаться. Я еще раз взглянул на небо, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, ветер утих, и сразу стало теплее. Правда, тучи, плотно затянув небо, не рассеялись, наоборот — они, клубясь и дыша влагой, еще ниже опустились над землей.
Только-только успел я добраться до сенокоса, как пошел дождь. Невеселый, нудный, он сеял и сеял тонкими слабыми струями, его монотонный шелест вызывал в душе какое-то глухое раздражение. Некоторое время я упрямо погонял гнедого, но с каждой минутой работать становилось все труднее и труднее. Сухая земля быстро раскисла, конь тяжело и неохотно тянул грабли. В конце концов, я придержал его и долго сидел, опустив голову. Конечно, самое лучшее — вернуться домой, но сразу с этой мыслью я не мог согласиться. Что, скажет Карлыгаш, вернулся? Говорила тебе — оставайся, не послушался, вот и промок до нитки... Подожду еще, может быть, дождь перестанет.
Но дождь не унимался. То затихал, и тогда казалось, что он лениво и сосредоточенно, как сытая овечка, пощипливает траву, медленно подвигаясь с одного угла поляны на другой, то усиливался и лил, как из ведра.
Отчего-то вспомнился Зелим. Мой товарищ рассорился с мужиками и сбежал домой. На станцию Шокпар, говорят, пешком ушел, а там сел на поезд. Я не осуждал Зелима, но мне было жаль, что он так неожиданно исчез. Ну, погорячился — с кем не бывает. Ссора забылась бы, работай себе и работай. Я понял, что не случайно вспомнил Зелима — за эти несколько дней я успел привязаться к нему, да и все началось с того, что Зелим, а не кто-то другой предложил мне отправиться в горы.
Из аула Кербулак, что ни день, кто-нибудь да приходил. И каждый по просьбе мамы разыскивал меня.
«Ей, милый, передай моему единственному — пусть домой едет. Не надо мне его денег. Видано ли дело -с таких лет по свету скитаться! Скажи ему, если он хочет, чтобы я спокойно спала, пусть возвращается. Похудел, наверно, светик мой...»
Люди, передавая наказ матери, с упреком смотрели на меня, да я и сам в такие минуты мучился. Милая мама, шептал я про себя, ты ведь не знаешь, почему я пошел в горы. Я не мог не пойти, это выше моих сил и моей воли. Я скучаю по тебе, вот и сейчас мне жалко и тебя, и себя, но прости, приехать немедленно я не могу...
...Дождь разошелся не на шутку, и я понял — надо возвращаться. Гнедой, понимая, что едем домой, бежал весело, потряхивал мокрой гривой, звучно и бодро месил копытами грязь. Подъезжая к стану, я вдруг увидел на дороге след машины — две четкие узорные ленты обрывались у дома Кулии и начинались снова, но уже в обратную сторону. Сердце мое сжалось. Машина, конечно, отца Мухтаркула, другой в Кербулаке оказаться не может. Но зачем она пришла? А Мухтаркул сам — тоже здесь?
Все эти мысли вихрем промелькнули в голове. Не выпрягая гнедого, бросился к дому. Нетерпение и предчувствие чего-то нехорошего, недоброго подстегивали меня, я торопился, совсем не соображая, зачем и куда так спешу?
Рванув двери, чуть не сшиб с ног Карлыгаш.
— Ох ты, бедняга! — теплые руки женщины обхватили меня за плечи. — Говорила тебе — сиди дома. Смотри, промок до нитки... А смены нет. Заболеешь теперь.
— Приезжал кто-нибудь на машине? — Я с трудом перевел дух.
— Да.. Барменкул приезжал. Забира попросила дочку привезти. Вот... увезли ее.
— Назыкен?!
— Назыкен... кого же еще? А ты что? Тоже по матери соскучился?
Я опустил голову и так, не глядя на Карлыгаш, спросил:
— А дядя Барменкул... он один был?
— Нет, сын с ним приезжал. Стройный джигит, а такой раньше неуклюжий да нескладный был... Ко всем заглянул, со всеми поздоровался...
Слушать дальше, как она нахваливает Мухтаркула, я не мог, молча повернулся и вышел. Дорога под белым дождем, змеясь, как чья-то усмешка, взбегала на холм и там пропадала. Следы машины, то расходясь, то сплетаясь, раскачивались перед глазами, напоминая мне черные косы Назыкен.
А дождь, серый и нудный, лил, не затихая, весь день и всю ночь.
9
Через два дня и я вернулся в аул. Первым делом прошел в огород, где меня встретила, как почетный караул, шеренга мною же посаженных и теперь заметно подросших подсолнухов. Ни дать ни взять — солдаты в красных фуражках выстроились, поглядывают радушно и приветливо. Часть из них, склонив отяжелевшие головы, смотрит с откровенной обидой, словно упрекает за то, что надолго оставил их здесь одних.
И кукуруза налилась силой. Я сорвал початок, раскрыл его — белозубо сверкнули ровные плотно посаженные зерна. Попробовал ногтем выковырнуть одно — не поддается. Почти созревшая кукуруза напомнила мне, что лето кончается, что еще день-два и пора по третьему разу снимать клевер. Вон как поднялся он — его кудрявые голубоватые головки, качаясь, как бы обнимаются друг с другом.
А вечером меня позвал дед.
— Э-э, батыр, вернулся... Джигит, настоящий джигит. Много трудодней заработал?
— Не знаю.
— Как? Работал и не знаешь?
— Я не спрашивал.
— Э-эх, и в кого ты несмелый такой... Ладно, что заработал, все твое... Вон выпей айрану и готовь бричку. За сеном поедем.
Выехали мы с дедом по вечерней прохладе. Дорога в Косарал, что на берегу Чу, не близкая, но сенокос там хороший. Конечно, не то, что в Кербулаке, но все же... Угодья и в Косарале — колхозные, их охраняют. Каждый год так — сенокос на общественном поле заканчивается, и люди начинают все больше о своем личном скоте беспокоиться. Вот и мой дед вслед за всеми спохватился, боится, что ни с чем останется.
— Как работал?— он подтолкнул меня сухоньким плечом.— Тяжело?
— Нет, не очень.
— Как люди, старался, или спустя рукава?
— Работал, как все. Не хуже.
— Кто же у вас за бригадира был?
— Несипбай.
— Да кто же его непутевого поставил? Пальцы на руках пересчитать не может, как он трудодни начислять будет?
— Сказал, правильно все записал.
— Ах он бедняга большеротый, — дед вздохнул, то ли жалея Несипбая, то ли осуждая его. — Он еще с отцом твоим работал. Помнит его, вот и тебя жалеет.
Я промолчал.
— Все убрали сено?
— Нет... В Теректах только начали.
— Понятное дело... Горы. А ты что рано вернулся?
— Так... Отпустили.
Я солгал деду. Не сказал, что причина совсем в другом, что я просто не мог больше там оставаться. Но дед, занятый своими мыслями, не заметил в моем ответе заминки.
— Решили, чтобы ты отдохнул перед школой. Тоже правильно люди подумали.
Обычно дед неразговорчив, а сегодня с ним что-то случилось — говорит и говорит. Может быть, потому у него настроение хорошее, что друг его Федор обещал накосить ему сена. Вот и весел человек, много ли надо старому для радости.
Дед повозился, устраиваясь поудобнее, откашлялся и запел. Хоть и стар он, но голос у деда совсем не старческий, сильный еще голос, мягкий и приятный. Мама рассказывала, что в молодости он на всю округу славился, очень уважали его люди за умение петь и новые и старые песни, особенно — старые, их в нашем ауле только мой дед знал и помнил.
Да что там в молодости! Я и сам слышал, как дед на тое пел от зари до зари. А однажды, лет пять-шесть назад он вступил в песенное состязание с одной женщиной. Тогда еще дед крепок был, работал, отару гонял; выпить немного, если случай подворачивался, тоже был не прочь. В тот вечер принял дед вызов женщины и пел, как никогда, хорошо. Айтыс сразу набрал высоту и силу, не простое дело — на ходу сочинять и петь, но дед был в ударе и на один язвительный куплет соперницы отвечал тремя. Женщина пела громко, но мне лично голос ее не понравился, у деда лучше — у него не голос, а морская волна, льется, и нет ей удержу, нет конца. Все уже решили, и я тоже, что дед победил, но женщина не отступила и под конец пропела:
Ой, богат Курамбай, не считает овец.
Но любому богатству приходит конец.
Водки лишку хватил знаменитый певец
И орет, как чабанский орет жеребец!
Низко склонил дед седую голову, а все, кто слушал их, дружным смехом встретили злой выпад женщины, окружили ее и увели с почетом. Почему? Я не согласился с людьми и до сих пор считаю, что победил мой дед. В тот вечер я от стыда и злости готов был сквозь землю провалиться.
...Уже за полночь отправились в обратный путь. Сена навалили столько, сколько могли уложить, сидим наверху, еле держимся, из-за сена даже коня не видно. Бричку заметно тянет на сторону, а казалось — хорошо уложили, ровно. На спусках сердце мое замирает, и я шепчу про себя — все, теперь-то перевернемся. Кажется, что сено, как живое, сдвигается вперед и вот-вот рухнет на спину лошади.
Наконец случилось то, что и должно было случиться. Одолевая неглубокий, но широко размытый арык, перевернулись. Я был начеку, и, когда бричка начала клониться, спрыгнул на противоположную сторону в рыхлую пыль. Земли в темноте я не видел, и потому, не спружинив вовремя ногами, так ударился подбородком о колени, что из глаз искры посыпались. Волнуясь за деда и не обращая внимания на боль, я быстро вскочил и огляделся. Вижу — невредим дед, стоит, белея рубашкой, на той стороне опрокинутой брички и клянет ни в чем не повинного коня.
— Собачье отродье, куда глядел?! — дед в ярости машет руками перед мордой коня. — Зачем потянул в эту сторону, а?
Развязывая веревки, я про себя смеюсь и думаю, что сейчас, наверное, пойдем домой, а сено заберем утром. Но я плохо знал своего деда. Продолжая клясть лошадь и бричку, он быстро отвалил сено в сторону и один поставил телегу на колеса. Сказал:
— Полезай наверх... Складывай хорошо, а не как попало. Ровнее клади по всей бричке и не выводи верх так круто, как давеча... Не воз был, а могила шамана. Вот и перевернулись потому.
Дед упрекал меня, но я не обижался, пусть поворчит — быстрее успокоится. На этот раз уложили хорошо, да и дорога дальше пошла прямая и ровная. Дед поторапливал коня, и тот, разогнав бричку, шел деловитой упорной рысью...
Близилось утро. Предрассветный ветер стал свежее и, налетая, обжигал лицо острым холодком. Закинув руки за голову, я лежу на спине и смотрю в небо. Лучики крупных звезд застыли маленькими иглами весенних сосулек, играют светом иголочки льда, дрожат и как бы медленно-медленно исстаивают, роняя на землю сверкающие капельки.
А вот, далеко-далеко, над Кербулаком, поднялась и засияла особняком ото всех горсточка звезд. Когда я увидел их, что-то толкнулось в сердце, может быть, радость, а может, и грусть — не знаю.
— Дедушка, — я оперся на локоть, — ты не знаешь, как называются эти звезды?
— Какие? — дед обернулся. — Те, что на востоке?
— Да.
— И-й, милый, это Стожары.
Я закрыл лицо руками. Почему эти звезды смотрели на меня с таким удивлением, что хотели сказать? И почему они, разыскав меня, затерянного, как песчинка, в необъятной настороженной степи, напомнили вдруг о недавних днях в горах, о тех днях, когда счастье казалось таким возможным и близким.
Скорее бы в школу, скорее бы...
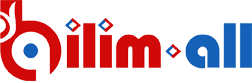


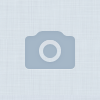
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі