Беглец
1
Шел урок математики. Катира Хамитовна, объясняя правила тысячных делимых, по нескольку раз, чтобы крепче все запомнилось, повторяла одно и тоже и, слов-но боясь, что буквы и цифры вдруг возьмут и разбегутся, говорила не сводя с доски глаз.
Чудно! Продолговатые нули взяты в скобки и потому, наверное, среди остальных цифр выглядят они наказанными виновниками. Учительница особенно внимательно следит за ними, не позволяя ни одному нулю вырваться из окружения и оказаться на месте, ему совсем не положенном. Впрочем, и остальным цифрам тоже не сладко — чувствуют они себя, наверное, как шалуны в строю.
Все это ладно, тут еще разобраться можно. Но когда учительница стала усаживать одну цифру на плечо другой, да еще иногда меняя их местами, все в голове Калмаша смешалось и, как он ни старался, понять происходящее на доске не мог. Даже буквы, знакомые и привычные, в компании с цифрами вдруг потеряли свою простоту и стали такими важными, что и не подступись к ним. Вот буква «а», которую Калмаш давным-давно знает и от которой никакой хитрости не ожидал, взяла и забралась в скобки и, важничая, нахально спрашивает: «А чему я равна?» Другое дело — икс. К нему глаза давно привыкли, но что понадобилось в тетрадях по математике всем этим «а» и «б»?
Калмашу стало скучно. Все эти цифры, эти тысячные делимые и квадратные корни мало его интересуют. И даже раздражают. Ну, чего они пялятся на него? Если сощуриться, то все на доске оживать начинает. Вон та стайка цифр стоит ровно и дружно, словно за руки взялись. Зато эти — как друзья, поссорившиеся на перемене, отвернулись друг от друга, разбежались по сторонам и теперь выжидают — кто подойдет первым. Хмуро и неодобрительно косится на них квадратный корень. Он, если в него хорошо вглядеться, чем-то похож на ухо, цифры и буквы, выглядывая из него, могут, пожалуй, и с ума свести.
Обижен Калмаш на математику. Нельзя, конечно, сказать, что они с ней заклятые враги, но случая поспорить Калмаш не упускает. То ли дело, ворчит он, арифметика. В арифметике все просто и понятно. У такого-то кладовщика было, скажем, тридцать тонн зерна. Десять тонн роздано колхозникам. Вопрос — сколько зерна осталось на складе? Чего проще? Можно даже с места отве тить... А попробуй понять математику!
Калмаш, одним глазом глядя на учительницу, медлен-но потянулся рукой к сумке и осторожно вытащил из нее вчетверо сложенный лист, по виду очень старый, обветшалые края его стали уже осыпаться. Калмаш без шелеста развернул лист и облегченно перевел дыхание — кажется, апай ничего не заметила.
Та-а-ак... Теперь надо заполучить в союзники соседа по парте. Иначе измученный трудным уроком товарищ, заметив, что Калмаш не слушает объяснений, возьмет и неожиданно ущипнет его, или просто вскрикнет на весь класс, привлекая внимание учительницы — самый верный, тысячу раз испытанный способ прервать до тошно— ты надоевший урок и вволю повеселиться. Но кому смех, а ему-то, Калмашу, слезы.
Калмаш придвинулся к соседу, толкнул его коленом — видишь, дескать, но молчи, держи при себе... Тот зажмурился, как сладко дремлющий кот, и чуть заметно кивнул головой — ладно, мол, делай, что хочешь, только меня не трогай.
А Калмаш уже ничего не видел и не слышал. Перед ним, развернутая, лежала небольшая карта земного шара. Вся она была испещрена условными знаками,точками, кружочками, даже рисунками разных зверей, причем, каждому знаку — свой цвет чернил, отчего карта была похожа на красочный и загадочный рисунок, сотворенный вдохновенной рукой кладоискателя, или, наоборот, пирата, захоронившего на неизвестном никому острове свои несметные сокровища. Посторонний человек, взглянув на карту, не сразу и разберется — где море, а где суша? И места свободного от всевозможных обозначений не осталось — иголку, и ту воткнуть негде.
Есть у Калмаша на карте особенно любимый рисунок, он может часами, позабыв обо всем на свете, любоваться им. Играя на ветру парусами, белый, как лебедь, корабль смело рассекает высоким форштевнем могучие волны океана. Куда он летит, куда стремится? Чья смелая и твердая рука направляет его к неизведанным, опасным и заманчивым берегам?
Сердце мальчика сжалось от восторга, мысли и чувства, как две реки, питающие океан воображения, охватили все его существо, картины, одна другой фантастичнее, ярко и красочно вспыхивали перед его мысленным взором. Эх, Калмаш вздохнул, оказалось бы рядом со школой море, голубое и бескрайнее, и чтобы волны были во-о-от такие, высокие-высокие, как скирды в степи. Выскочил на перемене из класса и сразу — в море. Пока второй урок начнется, можно до того берега доплыть и обратно вернуться.
А рядом с морем — от берегов его и до самого-самого края земли — густой, непроходимый лес, а в лесу этом полным-полно диких зверей. С могучим рыком, сотрясающим землю, забредали бы иногда в школьный сад львы и визжали бы от страха девчонки, и бежали бы с криком: «Ой, агай, апай, спасите...»
Да нет же, не бывать такому! И снова Калмаш вздохнул, на этот раз огорченно. Если бы и вправду появился вдруг лес, так не долго бы он простоял, бедный... Люди вокруг, как с ума посходили, все стали что-нибудь да строить. И до того старательные, в заботах с коня не слезают и любому встречному, знакомому-незнакомому, жалуются: «Э, почтенный... решил вот сарай слепить, да куда мне — то одного нет, то другого. С ног сбился! Ты, почтенный, не слыхивал часом, где лес продают? Сухого бы, соснового...» И таких строителей — пропасть, пусти их в тайгу, они и ее под корень изведут.
А коровы... Вон их сколько развелось. Ой, и дурная скотина! Хоть и молоко дает, а вредная, так и тянет ее к колхозному саду. Живот у нее вздуется, что ли, если спокойно пройдет мимо дерева? Нет же... И почешется об него, и рогами покачает, да еще и листву обгложет. Управы на них, беспризорных, не найти никакой.
С водой — тоже беда... Сколько помнит Калмаш, воды в колхозе всегда было мало, вечно из-за нее драки случались, шум-гам, пыль до небес. А зачем драться — экономить надо, а то дорвется какой-нибудь хозяин до воды и до тех пор заливает свой огород, пока жена караул не закричит. Тонем, кричит бедная женщина, а муж даже ухом не поведет, сидит себе на арыке с кетменем в одной руке и с камчой — в другой и близко никого к воде не подпускает.
Странно, конечно, и непонятно, куда же все-таки вода подевалась? Полноводный когда-то канал, широкий, как река, совсем обмелел, не канал, а полоса луж, и каждая не больше лошадиной почки. Вот что получается, когда люди только о своих огородах думают...
Погруженный в мысли, Калмаш совершенно позабыл о том, что идет урок и потому отчаянно вздрогнул, когда вдруг долетел до слуха его строгий голос учительницы. Вопрос прогремел для Калмаша, как гром среди ясного неба, сердце его испуганно замерло и оборвалось куда-то в пугающую холодную пустоту.
— Итак, чему равна сумма под корнем?
Калмаш открыл рот, пискнул, как мышонок, и... оглох — весь класс хором, в тридцать веселых голосов грянул ответ. От радости Калмаш чуть не подпрыгнул — оказывается, вопрос задали всему классу, а не лично ему. Если сегодня не спросят, подумал он, тогда, считай, повезло, а завтра — посмотрим...
И Калмаш, совершенно успокоясь, вновь вернулся к карте.
Он берег ее, как берегут люди свое самое заветное и дорогое, прятал от посторонних глаз в сарае, и не было дня, чтобы он не взглянул на нее, а если такой день все же случался, настроение у Калмаша портилось, он становился хмур, раздражителен, неразговорчив. Страстное увлечение целиком захватило мальчика, и, наверное, не было на свете человека более преданного своим мечтаниям, чем он невероятные и дорогие сердцу картины, созданные игрой воображения, с каждым днем становились все реальнее, и, наконец, наступил тот час, когда сказочный и яркий мир, сотворенный в мечте, стал более реальным, чем сама реальность. Юная душа Калмаша отважно и доверчиво устремлялась навстречу мечтам, и он трепетно и строго верил в существование своих островов сокровищ.
Фантазируя и мечтая, Калмаш жаждал немедленных действий, он ощутил потребность хотя бы на шаг приблизиться к цели, столь же заветной, как и сама мечта. Ради этого он отказался от игр и уличных забав с ровесниками и день-деньской, уединившись в сарае, строгал, выпиливал, резал. Десяток кораблей и столько же лодок смастерил своими руками. Они ему нравились, но и только — сердце его молчало, и он снова брал в руки недвижное и безмолвное дерево, снова упрямо и надолго склонялся над ним и, наконец, холодком восторга замерла мальчишечья душа — на ладони Калмаша задрожала белоснежными парусами, готовая к дальнему плаванию, крылатая, сказочно-прекрасная бригантина.
С того дня Калмаш, как батыр, обретший крылатого тулпара, больше не был одинок в своих мечтах, да и сами мечты его стали смелее и как бы, доступнее, что ли. Как батыр на сказочном скакуне в мгновение ока мог облететь всю землю, так и Калмаш на своей бригантине, стоило ему только взглянуть на нее, в считанные секунды оказывался далеко-далеко от родного аула, и очень скоро не осталось на земле и на море ни одного уголка, где бы ни побывал отважный путешественник из казахского аула, затерянного на берегах Чу. Однажды на рассвете его бригантина отошла от Индийского полуострова, благополучно пересекла океан, прошла в виду берегов Австралии и смело углубилась в необозримые просторы Тихого океана. Никто не знает — а жаль, конечно! — какие опасности, какие удивительные приключения пришлось пережить смелому мореходу, пока его бригантина, обогнув Мадагаскар, приблизилась к берегам Африки. Чего стоит одна только схватка с пиратами, что случилась недалеко от Ямайки! Если сказать по совести, пираты — смелый и отчаянный народ, но в этот раз, напав на беззащитную, как им казалось, бригантину, они встретили суровый отпор и поспешили убраться восвояси. Ах, если бы поближе было море, он бы, не медля ни минуты, отправился в путешествие.
Кстати, о путешествиях... Сегодня ночью приснилось ему, будто стоит он на берегу Чу, реки так хорошо знакомой, и удивляется — что-то новое, волнующее видится ему в ее серебристых, играющих силой, волнах, в могучем и плавном стремлении вод. И вдруг он понял — река призывала, река была готова доставить его в любой уголок земли. Но если это так, то почему бы не довериться быстрому и вольному, как ветер, течению, зачем же ждать другого удобного случая отправиться на край земли? В путь, немедленно в путь! Где его верная бригантина?
Не успел Калмаш подумать о своем крылатом корабле, а он — глядь — тут как тут, стоит у берега и, покачиваясь на волне, сверкает белыми, как снег, парусами. Не мешкая, мальчик взбежал на мостик, встал к штурвалу и направил корабль на стремнину реки. И вдруг... мама... Машет ему рукой с берега: «Сынок, куда же ты? На урок опоздаешь...» — «Не волнуйся, мама!— крикнул он в ответ.— Я мигом... Я успею вернуться к уроку...»
И тотчас все исчезло — не стало ни мамы, ни речки Чу, ни аула. На три стороны вокруг лениво-мощными валами дышал океан, а впереди, рукой уже подать, лежала земля. Он вгляделся в очертания берегов и ахнул — да это же Африка! На его карте, да и на всех остальных картах мира, она похожа на созревший корень свеклы.
Только ступил он на землю, как из джунглей, что начинаются почти у самого берега, вышел огромный лев с роскошной густой гривой. За ним, резвясь и играя, выбежали на золотистый, сверкающий под солнцем песок два львенка. Лев и не взглянул на Калмаша, он, широко раскрыв пасть, зевнул, потянулся и развалился на песке, но львята, заметив мальчика, веселой смешной припрыжкой подбежали к нему, стали ласкаться, терлись с добродушным урчанием о его ноги, повисали на нем, словом, всячески предлагали порезвиться с ними. Да какие же это хищники, подумал Калмаш, не без опаски поглаживая загривки львят, это не хищники, а ягнята, любая собака в ауле злее их.
Грозный и тяжелый, предупреждающий рык потряс воздух. Не иначе, как львица, подумал Калмаш, оглядываясь, стараясь угадать, с какой стороны появится разгневанная мама этих симпатичных львят. Громоподобный рык раздался вновь, и Калмаш... проснулся. Сердце его так сильно стучало, что, казалось оно вот-вот выскочит из груди.
Он еще долго лежал, мечтая, крепко завидуя тем ребятам, что живут в Африке. Хорошо им! Вышел со двора — джунгли... Прошел немного — море, волны бьются о скалы, чайки кричат...
Он хотел было снова уснуть, чтобы увидеть продолжение чудесного сна, но, как ни жмурил глаза, сколько ни ворочался с боку на бок, сон не возвращался. Тогда он встал, неслышно оделся и вышел из дома.
Только-только занялась заря. Калмаш взглянул на Чу, река, смутно белея в мягком рассветном тумане, бежала себе, как бежала вчера, третьего дня, десять лет назад. И не было у этой реки ничего схожего с той, что привиделась ему во сне. Дрожь охватила Калмаша, ему стало вдруг грустно и обидно, мечта, которой он жил, всего на один миг, да и то во сне, поманила его, а когда он, обрадованный, шагнул ей навстречу, она обернулась синей птицей и пропала...
Печально вздыхая, Калмаш осторожно приоткрыл скрипучую дверь сарая и проскользнул вовнутрь. В сарае было еще темно, но Калмаш, боясь отца, не стал зажигать огня и на ощупь добрался до стола, на котором и мастерил свои корабли.
Не ладится у них что-то, очень уж не нравятся отцу его занятия. Даже то, что Калмаш, мечтая, разрисовал карту, страшно рассердило отца. «Брось ты заниматься пустым делом, учи уроки и не убивай дни безделушками, с эдаким богатством ты и надгробья мне не поставишь. Разве я не хочу, чтобы ты был первым из первых? Хочу, но... барахлом этим ты ни себя, ни меня не прославишь...»
Обидно Калмашу слушать такое, но отцу что скажешь? Ничего... И Калмаш молчал, а молчанье только подливало масла в огонь.
В сарае посветлело. Калмаш оглядел стол и заволновался — книга о племенах и народностях Африки, самая интересная книга, какая только попадала ему в руки, исчезла. Тетради, учебники, сумка и дневник лежали на столе. Дневник... раскрыт. Так, все понятно... Отец обнаружил двойку по математике и наказал его, забрал книгу. А... карту? Нет, она здесь. Как лежала в углу, рядом с бригантиной, так и лежит. И бригантина целехонька...
Калмаш бережно свернул карту, сунул ее в сумку, и в ту же секунду двери сарая широко распахнулись, вошел отец. «Все, пропал!»— мелькнула в голове мальчика отчаянная мысль, он согнулся, ожидая шлепка, но отец сдержался, не поднял на этот раз руки. С ног до головы оглядев сына, сказал грозно и властно:
— Опять... с утра за свое? Ладно, делай, что хочешь, но, если еще хотя бы одну двойку принесешь, пеняй на себя... Все сожгу, все брошу в огонь, так и знай. Тогда не плачь и не жалуйся, что не предупредил...
Он взял кетмень, вскинул его на плечо и, с силой хлопнув дверью, ушел. А Калмаш понял — дела его плохи... Отец не ругался, не кричал, как всегда, не читал морали, просто сказал и — все. Значит, совсем злой...
Быстро затолкав учебники в сумку, он почти вслед за отцом выскочил из сарая, но за порогом остановился — у него было такое ощущение, что, вернувшись из школы, он ничего из своего богатства уже не найдет. Так, с беспокойным сердцем, словно здесь, за его спиной, оставался враг, Калмаш побрел со двора и всю дорогу до школы думал об отце, на сердце его каменела горькая обида. С неприязненным чувством вспомнил он и слова матери: «Ох, сынок-сынок,— говорила она,— разве отец плохого желает тебе? В заботах о твоем счастье не покладая рук трудится он... Не перечь отцу, слушайся его, мой жеребеночек...»
— Куралбаев, чем занимаешься?
Калмаш вздрогнул, отсутствующим, ничего не понимающим взглядом посмотрел на учительницу.
— Что там у тебя?
Калмаш попытался спрятать карту, но не успел — учительница уже стояла рядом.
— Так... Мы все математикой занимаемся, а Калмаш — географией. Видно, в математике он уже все превзошел. Так, Куралбаев?
Калмаш молчал.
— Ого! Карта мира... Ну-ка, дай и мне полюбоваться,— учительница взяла карту, всмотрелась в нее.— Скажи, пожалуйста, и крест... Что он означает?
В классе наступила тишина.
— Ну что, в молчанку будем играть?
— Крест означает остров,— Калмаш с трудом выдавливал из себя слова, — где прячутся морские пираты.
— Замечательно! А тебе не кажется, Куралбаев, что твое поведение на уроках...
Класс весело и дружно зашумел. Перекрывая шум, кто-то выкрикнул с ходу сочиненные стихи: «Наш Калмаш безумно рад, что сегодня он пират!»
— Стыдно, Куралбаев!-учительница повысила голос. Она свернула карту и хлопнула ею по ладони:— Мое терпение лопнуло... Пока не приведешь отца, на уроки не являйся. А сейчас выйди из класса.
Сдерживая закипевшие на глазах слезы, Калмаш, опустив голову, выскочил в коридор. Отбежал от школы немного и остановился, не зная, куда идти и что делать. Домой он не пойдет... Теперь-то отец, без сомнения, уничтожит его бригантину, бросит ее, как обещал, в огонь... Пусть!
С тяжелым сердцем медленно брел он куда глаза глядят и опомнился лишь тогда, когда перед ним тусклым серебром блеснула спокойная гладь реки.
Что же делать?
Калмаш присел на камень и вдруг весь напрягся — далеко-далеко, приглушенный расстоянием, послышался тревожный и призывный гудок тепловоза...
2
То, что Калмаш не явился из школы к обеду, в доме Куралбаевых никого не встревожило — заигрался мальчуган и позабыл обо всем на свете. Проголодается — прибежит... Но проходил час за часом — Калмаша все не было. И вот уже вечерние сумерки, окутывая землю, просочились в комнаты. Тревожно сгущаясь, они как бы предупреждали хозяев о беде, и первой, конечно, забеспокоилась мать. Она несколько раз выходила к воротам, пристально вглядываясь в дальний конец улицы, потом ее опять отвлекали хлопоты по хозяйству, и она на время забывалась. Но когда, наконец, управилась со скотиной, когда не вечер, а, считай, ночь окутала темным покрывалом маленький аул, сердце матери, переполненное тревогой, не выдержало ожидания:
— Эй, Куралбай,— окликнула она мужа,— что ты сказал утром своему единственному? Ты видишь, что его нет, и сидишь спокойно... Иди ищи мальчика.
Куралбай, однако, и ухом не повел. Только дернул досадливо плечом и сказал:
— Есть захочет — сам придет. Разбаловали негодника, больно много нянчимся с ним... Пора научить его послушанию.
— Куралбай, да что с тобой? Что ты такое говоришь? Неужели сердце твое окаменело?
Муж и на этот раз не шевельнулся. Куда ему идти, думал он о сыне, куда? Да некуда... Зашел, наверное, к кому-нибудь из товарищей и отсиживается там. Нет, хватит гладить его по головке да потакать всем его желаниям и капризам, так можно и сбить человека с пути правильного. Сегодня он делает то, что захочет, а завтра... Нет, надо хладнокровно и без жалости выбить дурь из его головы.
— Что ж,— он услышал, как жена всхлипнула,— так и будем сидеть сложа руки...
У Куралбая дрогнуло сердце, как будто в него с маху всадили шило. Он в гневе повернулся к жене, бранные слова едва не сорвались с губ, но вид совершенно убитой горем жены остановил его. Посверкал глазами Куралбай, но сказать ничего не сказал.
Замерли в тяжелом молчании оба — он и она. Все. чаще, услыхав случайный шорох, она вскидывалась и с надеждой оглядывалась на дверь, ожидая, что та распахнется и войдет он, ее сыночек. Но дверь не открывалась, беспокойство и страх с новой силой овладевали ею. Взглянув на мужа, она вдруг почувствовала к нему, неподвижному и невозмутимому, острую неприязнь. Что же он сидит, думала она, глядя на его чуть сутулую спину и тяжелые плечи, почему он так спокоен? Либо знает что-то, но таит про себя, либо сердце его позабыло, что такое доброта и жалость. Опомнись, хотелось ей крикнуть, ребенок пропал...
Ресницы ее дрогнули, блеснули и медленно скатились по щеке слезинки.
— Упрямец... Железный человек! — не сказала, а почти простонала она.— Сходи же куда-нибудь... Зайди к ребятам, с которыми учится малыш... Лучше уж худое узнать, чем вот так, в неизвестности, мучиться...
И снова ничего не ответил Куралбай, только досадливо, как от мухи, отмахнулся от нее, лег на диван, повернулся лицом к стене и затих.
«Боже!— подумала она в страхе.— Что же это с ним? Так и веет недобрым от него, не глядит даже... Мыслимо ли это — на родного сына рукой махнуть. Быть горю в доме, не уйти от беды».
Теряя рассудок, почти не осознавая того, что делает, она поднялась, бесцельно покружила по комнатам и вдруг, побледнев, как ветром подхваченная, выбежала на улицу, даже не набросив на плечи жакета.
Соседка была дома. Насмерть перепуганная видом матери Калмаша, она вышла с ней, и они, уже вдвоем, пошли по аулу, стучались в каждый дом, в котором, по предположению несчастной матери, Калмаш мог бы остаться на ночь.
Ни в одном из таких домов мальчика не нашли. Не было его и в других домах. Встревоженный, поднялся на ноги весь аул. Искали долго, но тщетно — Калмаш как в воду канул.
И всю ночь, до самого рассвета, бродила по аулу и вокруг него несчастная, потерявшая голову от нежданного горя, мать, всю ночь тревожил округу горестный голос женщины, утратившей в сердце всякую надежду:
— Калмаш, мой Калмаш! Сыночек мой, отзовись!
Взрывалась криком густая темнота, но ничто, кроме короткого эха, не отзывалось в ночи. Взошедшая холодная луна слабым мерцанием осветила степи, реку, аул и маленькую, сгорбленную фигуру женщины.
3
Искали Калмаша всем классом, всей школой, всем аулом. Подняли на ноги районную милицию, объявили даже всесоюзный розыск. Но проходили дни, однако никому так и не удалось выйти на след пропавшего. Десятки опрошенных людей в ответ только пожимали плечами — нет, к сожалению, не видели, не встречали.
Хуже всех, наверное, чувствовала себя Катира Хамитовна. Куда только подевалась, исчезла уверенность в себе, с какой молодая учительница обычно держалась в классе и на людях, она в один день изменилась в лице, осунулась и выглядела так, словно только-только поднялась с постели после тяжелой болезни. Более того, она вдруг с ужасом поняла, что и работать, как прежде, уже не может, страх сковал ее душу и волю, она боялась своих учеников, боялась быть с ними строгой и требовательной и даже не решалась иному шалуну поставить двойку, хотя лучшей оценки проказник своим ответом и не заслуживал.
Наутро после исчезновения Калмаша Катиру Хамитовну пригласил директор. Предложил ей стул, а сам долго мерил широкими нервными шагами кабинет, наконец, остановился, как бы навис над нею, и, сдерживая гнев, сказал:
— Плохо, Катира Хамитовна, очень плохо...
— Да я....
— Подождите, — директор остановил ее движением руки. — Формально вы, может быть, и правы, но мой, смею надеяться, немалый опыт работы подсказывает мне, что в этом. случае вам не достало обычной человеческой чуткости...
— Но простите, агай...
— Еще раз прошу, не перебивайте. По-моему, тут мы столкнулись с фактом превышения власти и оскорбления личности. Мне очень жаль, но если человек не найдется...
Директор не договорил, но она поняла, что кроется за этим многозначительным «если...». Слова директора окончательно лишили учительницу сил и покоя.
А тем временем из района прибыл в аул следователь Каирбек Кусаинов. Опытный юрист, он распутал немало сложных дел, но с таким столкнулся впервые. Поразмыслив, следователь решил прежде побеседовать с родителями пропавшего мальчика. Но что могла сказать ему потрясенная горем мать? Она говорила, что Калмаш — мальчик смирный, драться не любит, чужого вовек не возьмет, младшего не обидит. Учится, правда, не совсем ровно, но такой уж он мальчишка... немного странный, что ли... Выпадет у него свободная минута — бежит на канал, лодки пускает там, корабли разные, которые сам же и мастерит, своими руками. И еще Калмаш всегда волнуется, когда поезд заслышит, смотрит всем поездам вслед, только что вдогонку не бросается...
И с отцом малыша Каирбек Кусаинов тоже поговорил, и с первых же слов Куралбая понял, что тот очень упрямый, жесткий и несговорчивый человек. Не знаю, сказал Куралбай, чего ему не хватает? Живем не хуже людей и все, что надо, у него есть. Для него одного и работаем, ни в чем ему не отказываем. Ну, правда, ругал я его за то, что пустым, никчемным делом занимается, игрушками своими, будь они неладны... Зачем это? Мы сами — люди простые, рабочие, иной раз за целый день и горячего не похлебаешь, крутишься, как белка в колесе... Образования у нас с матерью нету, воспитываем ребенка, как разумеем, как нас родители воспитывали. Мы, ладно... А вот куда учителя смотрят? Почему не видят, чем занимаются дети? Сами же приохотили мальчишку к глупостям, сами учили его вырезать из дерева всякую ерунду и сами же потом вытурили из школы. Пиратом обозвали... Смеялись над ним.. А теперь голову мне морочат— он и такой, он и сякой... Какой такой? Знать ничего не хочу, пусть найдут и вернут мне сына.
Немногого, беседуя с родителями, добился следователь, но все же кое-что для него прояснилось, во всяком случае, мотивы бегства Калмаша — если это бегство, конечно, а не что-нибудь похуже — в какой-то мере стали ему понятны. Мальчик жил как бы в двух мирах. Первый из них, соткан из малозаметных серых будней. Люди взрослые, и те иногда тяготятся однообразностью бытия, а что говорить о впечатлительном эмоциональном мальчишке, который спит и видит во сне море? Детским воображением он создал себе другой мир, солнечный и многоцветный, населенный мужественными и великодушными людьми, мир, в котором добро всегда одерживает верх над злом, мир, в котором даже хищные звери по отношению к детям мудры и снисходительны... Увы, в своем увлечении мальчик не то что мудрости — простого понимания со стороны не встретил, никто не помог Калмашу уравновесить в душе два мира, как-то увязать их друг с другом, никто не подсказал ему, что мечта, оторванная от жизни, всего лишь пустой и бесплодный звук, красивая, но бесполезная и даже опасная картинка... Нет, взрослые люди мудрости предпочли свое право на грубое насилие, они отрывали мальчика от созданного им мира, совсем не замечая того, что делают ему больно... Никто, ни отец, ни учительница...
На этом месте следователь прервал свои размышления, поскольку в строгой логической цепи его рассуждений появилось новое звено, вернее — новое лицо, а именно — Катира Хамитовна, классная руководительница Калмаша. Каирбек Кусаинов имел, конечно, право на догадки и рабочие гипотезы, но предпочитал все-таки больше опираться на неумолимость фактов и хорошее знание характеров действующих лиц. Вот почему он не стал делать преждевременные выводы, попрощался с Куралбаевыми и направился к директору школы, чтобы там, в его кабинете, встретиться и поговорить с Катирой Хамитовной.
...Учительница предполагала, что следователь станет беседовать с нею с глазу на глаз, но, шагнув в кабинет, была поражена множеством находящихся там людей. Кроме самого следователя, в кабинете сидели директор Нургиса Тойболдиевич, преподавательница русского языка Валентина Петровна и еще трое или четверо аулчан члены штаба ко розыску Калмаша, те, кто с первого дня суматохи не знал, пожалуй, и минуты покоя.
— Катира Хамитовна?— следователь приветливо улыбнулся.— Проходите, присаживайтесь...
— Чем могу быть полезна?— она задала вопрос больше для того, чтобы справиться с волнением.
— Расскажите нам о Калмаше Куралбаеве... Я понимаю — вы расстроены... Пропал, можно сказать... ваш собственный ребенок.
Учительница, сцепив пальцы рук, помолчала.
— Не знаю, что именно вас интересует... В классе — двадцать девять ребятишек, все разные, на каждого угодить трудно. Но я старалась никого особо не выделять и перед всеми ставила одну задачу — знать предмет... Математика — предмет сложный, не всем дается, кому-то и трудно... С такими мне, как пастуху с хромыми овцами, приходится дополнительно возиться, где и подстегнешь кого, а где и пристыдишь...
— Катира Хамитовна, я просил вас рассказать о Калмаше Куралбаеве... Как учится он, как ведет себя?
— На мой взгляд, мальчишка ведет себя грубо и вызывающе. Математика его, как я заметила, интересует мало, точнее сказать — вовсе не интересует. Я старалась увлечь его, но куда там. Он занимался на уроках чем угодно — только не математикой. Возился, смотрел в окно, читал какие-то книги. А его тетради? Сердцу больно смотреть на них... Все обложки в рисунках зверей. Там тебе и змеи, и тигры, скалящие зубы, и раки, и лягушки... К тому же Калмаш — избалован, непослушен, упрям... А книги? Вы бы посмотрели, какие он читает книги? О ворах-разбойниках, о бродягах, о пиратах.
— Кто не грешен...— следователь улыбнулся.
— С Калмашем случай особый. Его увлечение морями и пиратами становится просто нездоровым.. Недавно класс писал сочинение. Тема «Мой любимый герой». И кого же, вы думаете, выбрал Калмаш? Робинзона Крузо! Господи — дикаря в герои. Нет-нет, я не посягаю на авторитет Валентины Петровны, но воспитание детей наше общее дело, и я не могу сказать, что Валентина Петровна поступила правильно, поставив Куралбаеву за такое сочинение пятерку. Разве советскому человеку такие герои нужны? Первоцелинники, правофланговые пятилетки, космонавты — вот герои, вот с кого надо брать пример молодому поколению...
— Простите, Катира Хамитовта,— директору все, что говорила. учительница не совсем нравилось и он воспользовался паузой, чтобы вмешаться в разговор. — Мы не на педсовете... Человек пропал, вы понимаете это?
— Чего же не понять?
— А у меня такое впечатление, что вы всячески пытаетесь предстать перед нами... как бы это сказать... в благоприятном свете. Да-да. От вас ждут объективной характеристики, а вы рисуете нам портрет эдакого злостного шалопая. Так ли это?
— Зачем же? Зря наговаривать я не стану... По другим предметам мальчик занимается неплохо. Не чурается он и общественной работы, по его инициативе оборудован живой уголок. В мальчике, я заметила, сильно развито стремление к самостоятельности, давления со стороны он не терпит, может, потому скрытный такой и держится так, особняком...
— А что вы скажете,— следователь повертел в пальцах карандаш, — о семье Калмаша, о родителях?
— Дружная, кажется, семья, хорошая... Отец — поливальщик, передовик... Мать — свекловод.
Потом долго и обстоятельно говорила Валентина Петровна. Она сказала, что обвинить Катиру Хамитовну в исчезновении мальчугана, конечно же, нельзя, что в своей требовательности Катира Хамитовна, как педагог, была права, что строгость учителя всегда, или почти всегда, исходит из благородных побуждений, но... применяя строгость как сильнодействующее средство, мы иногда перегибаем палку. В душе каждого ребенка есть струны, которые так просто не заденешь, касаться их надо очень осторожно, исподволь, незаметно, я бы сказала, ласково. Учитель, если он настоящий учитель, должен чувствовать душу ребенка и знать его характер лучше, чем свой...
— Вот и Калмаш,— Валентина Петровна помолчала, переводя дыхание.— То, что Катира Хамитовна относит к разряду пустопорожних и даже вредных интересов, я склонна считать здоровым и нормальным увлечением мальчишки. От нас требовалось только помочь Калмашу определить меру своего увлечения, сделать так, чтобы ребенок, мечтая, всегда чувствовал под ногами землю. Помогли мы? Нет... Катира Хамитовна поступила неверно. Можно было сделать самое строгое внушение ученику, но смеяться над тем, что бесконечно дорого сердцу ребенка, нельзя. Здесь и завязан узелок, товарищ следователь, здесь... И не такой уж он распущенный баловник, он и шалит-то меньше других. Он, если хотите, просто беспомощный пленник, угодивший в сети собственного живого воображения...
А мы сами, подумал следователь, слушая Валентину Петровну, разве мы сейчас не барахтаемся в сетях собственного живого воображения? Столько слов и ни единой нити, которая указала бы — где, в каком месте искать мальчика? Не имея под рукой шкуры, мы, тем не менее, с самым серьезным видом кроим шубу.
Разбежались мысли у следователя, он устремлялся за ними вслед, ловил и выстраивал их, но то одна мысль, то другая ломали строй, и он, в погоне за ними, сам то и дело уходил в сторону и тогда с тоской думал о том, что розыск, кажется, затянется, что желание всех этих людей помочь ему остается всего лишь желанием, а многословие и обстоятельность рассказов оборачиваются вдруг дремучим лесом, в дебрях которого очень даже просто заблудиться.
И еще о том подумал следователь, что мальчишке сейчас, наверное, здорово икается, имя его не сходит с уст доброй сотни людей. Где ты, Калмаш, а? И какой же ты большой проказник, раз заставил серьезного человека, следователя, беспомощно барахтаться в странных воспоминаниях и он, этот серьезный человек, уже и не знает, где кончаются картинки собственного детства и возникают образы твоего. Сейчас бы только слушать, что говорят собравшиеся в кабинете люди, а он и слушает их, и видит перед своим мысленным взором твое море, Калмаш, твою бригантину и те удивительные земли, где живут совершенно незнакомые миру племена, где бродят, никому не причиняя зла, хищные звери...
4
Заслышав шаги, Майлыаяк поднял голову, в его глазах, раскосых и мутных со сна, вспыхнул зеленый угрожающий огонек, а черный нос, с силой втягивая воздух, нервно сморщился. Не узнал? На всякий случай он окликнул его:
— Майлыаяк, это я... Я... Забыл, что ли?
Пес, настороженно поглядывая, неуверенно вильнул хвостом, не вставая потянулся к его ногам, шумно обнюхал и только тогда, радостно заскулив, рывком поднялся. Узнал все-таки...
Мальчик ласково погладил пса, осторожно касаясь пальцами кончиков обрезанных еще прошлым летом ушей. Вырос Майлыаяк, рыжая прежде шерсть потемнела, стала на загривке и грубее и гуще, грудь раздалась, и трудно было узнать в этой взрослой собаке того рыженького кутенка, который с такой забавной отчаянной храбростью облаивал все, что ходит по земле и летает над ней.
Майлыаяк терся головой об ноги, скулил и заглядывал в глаза, но, странное дело, что-то робкое и виноватое угадывалось в невеселой радости собаки, пес не прыгал, не кидался с лаем к дому, чтобы голосом предупредить хозяина о госте. Значит, дедушки нету дома... Сейчас сезон, ушел, наверное, на охоту... — Майлыаяк, где дедушка, а? Он дома?
Пес, жалобно заскулив, бросился к дверям, на полпути оглянулся. Нетерпеливо повизгивая, он как бы приглашал идти за собой. Уже предчувствуя неладное, мальчик медленно пошел за псом, моля бога, чтобы дверь оказалась запертой. Но дверь легко подалась под рукой и, заскрипев, распахнулась.
В комнате царил полумрак, и он не сразу разглядел старика, лежавшего на бостеке1. Мальчик опустился на колени, пристально вгляделся в лицо спящего и невольно содрогнулся — старик так похудел, что его с трудом можно было узнать. Лицо пожелтело, под закрытыми глазами мертвенно разлились синие круги, заострился большой с горбинкой нос...
— Дедушка!
К горлу горячим комком подступили слезы, голос осекся. Он тронул руку старика, коснулся ладонью лба и ощутил еле уловимое тепло.
— Дедушка, проснись, это я...
Ресницы дрогнули, веки приподнялись, но в глазах, наполненных мутной болезненной влагой, не промелькнуло и малой искорки жизни, и мальчик понял, что сознание еще не вернулось к больному. Но Калмаш и этому был рад, теперь он убедился, что дедушка просто болен, а болезнь — еще не самое страшное.
Он быстро скинул пальтишко и вновь вернулся к старику, поправил под головой сбившееся в комок одеяло, волчьей дохой укутал его ноги. Под руку попался чайник, старик, заболев, наверное, сам поставил его у себя в изголовье. Приподнял крышку — чайник пуст, дно его совершенно сухое. Значит, вода давным-давно выпита... С чайником в руках он шагнул к порогу и остановился — ему показалось вдруг, что старик что-то проговорил. Калмаш вернулся и, сдерживая дыханье, напряженно всмотрелся в лицо больного. Губы старика шевельнулись, слабо дрогнули, взгляд, на этот раз осмысленный и ясный, остановился на Калмаше.
— Кто ты?
— Я, дедушка! Это я, Калмаш...
— Калмаш, милый...
Слабая улыбка тронула обескровленные губы старика, а сердце мальчика радостно забилось — дедушка узнал его...
— Вы заболели?
Старик не ответил. Небольшое усилие совершенно исчерпало его силы, глаза снова закрылись, голова неловко и безвольно опустилась на плечо. И тогда Калмаш, не в силах больше сдерживаться, заплакал, рыдания сотрясали его, он, всхлипывая, стискивал зубы, но, как ни старался, не мог остановить слез. Его душа не желала смиряться с тем, что дедушка, которого он любит больше всех на свете, лежит перед ним такой беспомощный, и ветер смерти веет над его головой. Трудно поверить в такое — здоровым и сильным был дедушка еще прошлым летом, целыми днями с коня не слезал, а теперь вот...
Прошлое лето... О нем Калмаш всегда вспоминает с радостью. Каникулы только-только начались, и отец однажды вечером объявил ему:
— Завтра отправишься в Кербулак, к дяде Даулетияру. Все лучше, чем здесь болтаться на улице... Там и кумыс, и воздух свежий...
Побывать в горах — давняя и заветная мечта Калмаша. Воображение рисовало перед его мысленным взором чудесную картину — домик на джайляу, горы, что подпирают своими вершинами синее небо, степь внизу, очень похожую на море... Что и говорить — неожиданное предложение отца пришлось Калмашу по душе.
А на утро второго дня, как он приехал, Калмаш первым заметил всадника, что приближался к дому табунщика со стороны Сарыозека. Воздух раннего утра был прозрачен и звонок, и Калмашу казалось, что он слышит нежный и несмолкаемый серебряный цокот копыт, а крылья зари, как широкие полы алой бурки, пластались за всадником и в такт движению, то взлетали вровень с плечами наездника, то опадали вниз, и тогда скакуна от копыт до гривы накрывала красная, струящаяся на ветру мантия.
В ломком прозрачном воздухе, пронизанном лучами и всадник, и конь его казались сказочно огромными, такими огромными, что Калмаш, когда от сердца отхлынуло первое изумление, восторженно и громко вскрикнул. На возглас высыпали на лужайку все домочадцы во главе с дядей. Так уж в степи ведется издавна — все, и стар и мал, выходят посмотреть на всадника, встретить его.
Первой узнала конника жена Даулетияра, и радостная улыбка осветила лицо доброй женщины:
— О, смотрите, да это же дядя Бурлибек! Дай бог, чтобы с добычей...
— Эй! Чему радуешься?— муж сердито посверкал глазами.— Дядя!-передразнил он жену.— Просто выживший из ума старик. Борода уже седая, а все хвалится — я, дескать, моряк, на большой воде воевал. А по мне те, кто воевал на воде, самые глупые люди...
— Эй, Даулетияр, постыдился бы...
— А что? Я ему такого жеребенка за его ружье пятизарядное предлагал, а он уперся — не могу, говорит, память... Что он ее, эту память, в могилу с собой унесет? Не-ет, умный человек не станет за прошлое цепляться, будь оно хоть трижды прекрасным...
Дядя продолжал ворчать, но Калмаш уже не слушал, в его память запало одно-единственное слово — моряк... Значит, этот незнакомый ему человек был моряком, плавал по разным океанам и даже воевал... Но дядя назвал его стариком... Это странно.
— Дядя,— Калмаш кивнул на приближающегося всадника,— а он моряк или просто охотник?
— Ай, непутевый он... Как там получилось, не знаю, но воевал он на Дальнем Востоке, а домой вернулся после контузии. С той поры, чуть что, бьет себя в грудь — я матрос, дескать... А я так думаю, что у бедняги голова как закружилась на море, так до сего дня и кружится. Укачало. Да ты что, не знаешь его?
— Не, не слыхал,
— Тогда, — дядя засмеялся,— потерпи немного, сейчас узнаешь.
А всадник — вот он, рядом уже... Конь незнакомца, видимо, разгоряченный скачкой, не стоял на месте, всхрапывая, прядал ушами, туго натягивал повод, и старик, успокаивая, похлопывал скакуна по круто изогнутой шее. И только тут все заметили, что впереди старика перекинут через седло убитый громадный волк. Калмаш впервые в жизни так близко видел волка, сначала подумал, что это собака.
Дядя Даулетияр, как только разглядел волка, сразу перестал ворчать и первым подскочил к охотнику с приветствием:
— Ассаломалейкум, старина! Давненько у нас не бывали, я уж думал, не случилось ли что... Все ли живы-здоровы? Сами как себя чувствуете?
Лицо и вся фигура дяди дышали таким радушием, что Калмаш даже рот открыл, удивленный внезапной переменой в настроении дяди. Но сам Даулетияр, видимо, знал, что делает, левой рукой он жестко ухватил мерина под уздцы, а правой, помогая старику спешиться, придержал стремя.
— Ай-яй!— дядя, жадно оглядывая волка, чуть ли не приплсывал от возбуждения.— Ведь это тот самый серый, из-за которого я сна и покоя лишился. Недавно он, проклятый, задрал молоденького жеребца. Как же вам удалось взять его?
— А так и взял... тепленького. Объелся он, бедняга, мясом твоего жеребчика, даже подняться не мог. Стреляй, говорит, Бурлибек, в меня, а Даулетияру передай рахмет, добрые у него коняшки, жирные и сладкие...
Даулетияр тонко как-то, с провизгом, засмеялся шутке, а охотник, заметив Калмаша, весело, с хитрецой, подмигнул ему лукавым глазом. Старик — высок и крепок, черты лица — крупные, резко очерченные, В глазах охотника светились тепло и ласка, а улыбка, по-детски ясная и открытая, говорила о его добром сердце и душевной щедрости, о его нерастраченной и за долгие годы любви к людям и жизни.
Калмашу сразу стало ясно, что встретился он с человеком необыкновенным, они еще и слова не сказали друг другу, но уже почувствовали взаимное расположение, а то, что охотник, добродушно посмеиваясь над суетливостью дяди Даулетияра, подмигнул Калмашу, как бы призывая его в союзники, наполнило сердце мальчика восторгом. Как только аксакал сошел с коня, Калмаш шагнул ему навстречу и, сияя глазами, вежливо поприветствовал охотника. Старик живо, с улыбкой, повернулся к нему, и маленькая ручонка Калмаша вся утонула в широкой и теплой ладони аксакала.
— Здравствуй, милый, здравствуй... Что-то я тебя сынок, признать не могу. Чей ты?
— Куралбая.
— Вот оно что... Расти большим, милый...
— Старина, заходите в юрту,— Даулетияр с поклоном широко повел рукой в сторону дома,— Отдохните, кумысу нашего отведайте...
— Ай, с чего бы такая забота? Мягко стелешь, Даулетияр... Уж не волк ли тому причиной, а?
— Редкая удача выпала вам, старина... Одно слово — моряк.
— А моряк-то здесь при чем?— охотник рассмеялся.— Ох, Даулетияр, не крути вокруг да около, лучше... сымика зверя. Твой он, с твоей горы...
С того дня и началась их дружба. Калмаш, совершенно очарованный стариком, ни на шаг не отходил от него, крутился возле — так крутится у ног путника, случайно забредшего в старый, оставленный жителями аул, щенок-несмышленыш, которого, может быть, в спешке, а может, намеренно, люди, откочевав, бросили здесь одного. Старик, конечно, заметил, что мальчишка, как завороженный птенец, ходит и ходит возле него, заметил охотник и то, с какой затаенной жадностью поглядывает Калмаш на его ружье. Охотник, улыбаясь, подозвал Калмаша к себе, снял карабин с плеча и, разрядив, протянул ему ружье вместе с биноклем и стальным красивым кинжалом. Дядя Даулетияр, глядя на охотника, молча и неодобрительно покачал головой, Калмашу отчего-то стало неловко и стыдно, он покраснел и опустил голову, но старик, ласково взъерошив его волосы, сказал:
— Пусть посмотрит, пусть поиграет... Ребенок ведь. Крепко Калмаш подружился со стариком, полюбил его, да и охотник всем сердцем привязался к нему, разгадав мальчишечью бесхитростную и доверчивую душу. Разница в возрасте, и немалая, почти шестьдесят лет, нисколько не мешала их дружбе, она день ото дня крепла, и старый Бурлибек благодарил судьбу и бога за то, что они на старости лет одарили его такой радостью.
Вскоре охотник вновь оказался гостем Даулетияра. На этот раз старик привез в подарок архара, и табунщик кинулся было благодарить, но охотник остановил его движением руки и сказал, что дарит архара Калмашу. Даулетияр немного скис, но быстро сообразил, что, поскольку Калмаш живет у него, то и архар, естественно, так или иначе достанется ему. Это соображение сразу привело табунщика в хорошее расположение духа, потому-то он, когда старик обратился к нему с просьбой отпустить с ним на некоторое время Калмаша, не стал возражать, отпустил.
Эти несколько дней, проведенные вместе, старик и мальчик были счастливы, как никто на земле. Целыми днями они охотились, ходили, распутывая следы, тайными звериными тропами, поднимались на высокие-высокие горы. Иногда вечерами располагались на берегу быстроводной говорливой речушки, собирали костер, готовили ужин и до утра оставались на полюбившемся месте. В такие вечера Калмаш изнывал от желания расспросить охотника о его службе на флоте, о боях на море, но всякий раз смелость изменяла ему, и Калмаш отступал, оставляя разговор до другого, более удобного случая. Наконец, совершенно измученный любопытством, он решился, но старый Бурлибек сказал:
— Малыш, зачем тебе знать то, о чем я и сам хотел бы позабыть? Дай бог людям никогда не знавать таких дней.
И, не добавив больше ни слова, бледный, как полотно, замолчал. Молчал и Калмаш, страдая от мысли, что своим вопросом причинил дедушке боль. И совсем он не хвалится, думал мальчик, вспоминая речи дяди Даулетияра, не бьет себя в грудь, не кричит, что воевал на море... Не знал Калмаш, какую страшную и еще не затянувшуюся в душе рану растревожил он.
Наутро все пошло своим чередом. Снова бродили они по тропинкам, и снова Калмаш задавал свои бесчисленные вопросы, а старый Бурлибек, сам доверчивый, как ребенок, искренне удивлялся его незнанию и начинал объяснять, а объясняя, входил в азарт, горячился, как мальчишка. Случалось, Калмаш задавал вопросы, которые ставили в тупик старого Бурлибека, заставляли его глубоко и надолго задумываться.
— Дедушка, а у змеи есть сердце?
— Надо же!— охотник смущенно улыбался.— Столько лет живу и ни разу такая мысль в голову не приходила... Есть ли у змеи сердце, не знаю, а вот ноги, люди говорят, есть. Человек, увидевший у змеи ноги, никогда не изведает горя.
— А вы... видели?
— И не хочу врать... Чего не видел, того не видел. Незаметно, как один день, пролетели каникулы, пора было возвращаться домой. Прощаясь, старик подарил мальчику несколько чучел птиц и зверей, и в их числе чучело улара — священной птицы. Сейчас улар не водится в их местах — либо вымер, либо в другие земли переселился, а этого старик добыл давно, еще в молодости, добыл и долгие годы хранил, как талисман.
— Возьми, Калмаш, и поделись радостью с товарищами.
Калмаш так и сделал — передал подарки дедушки в школьный уголок естествознания. Все было хорошо, если бы не отец... Выслушав восторженные рассказы сына, Куралбай страшно разгневался:
— Безумный старик!-отец кричал, яростно потрясая руками.— Дать пацану ружье — да о чем он думает? А этот глупец, смотрите, еще и радуется... Уйди с глаз моих!
Калмаш ушел с таким чувством, словно у него на глазах избили плеткой ни в чем не повинного человека. Отец, шептал он про себя, ну что плохого сделал тебе дедушка Бурлибек? Он хороший, он очень хороший...
5
Старый Бурлибек медленно открыл глаза. Сознание было ясным, по во всем теле ощущалась противная слабость, такая, что ни рукой пошевельнуть, ни ногой. Тяжко, как камень, давила ноги доха, хотелось сбросить ее, но как, если он и головы повернуть не может, не то что руки поднять.
День сейчас или ночь? Наверное, ночь, иначе зачем бы горела лампа-десятилинейка... То ли фитиль в лампе привернут, то ли керосин кончается, но горит она так, словно вот-вот мигнет в последний раз и погаснет. Слабый язычок пламени как бы втягивается лампой в себя — так робкий человек, вечно боясь чего-то, втягивает в воротник шею.
Так день сейчас или ночь?
А не все ли равно ему?
Но кто... зажег лампу?
Бурлибек, напрягая память, пошевелил темно-синими запекшимися от жара губами. Сколько он лежит? Нет, пожалуй, не вспомнить... Может быть, неделя уже прошла с того дня, как он потерял счет времени, а может, и меньше, он не знает; знает только, что все это время он находился между жизнью и смертью и всякий раз, теряя сознание, успевал подумать — все, теперь уже точно конец... И очень удивлялся тому, что опять как бы выныривал из беспросветного омута, вновь ощущал себя живым, но только очень слабым и совершенно беспомощным. Наступила и та минута, когда он не смог уже дотянуться до чайника. Все его попытки добраться до воды кончились тем, что он в очередной раз провалился в забытье.
Но так было только несколько последних дней... А раньше? Что было раньше, когда болезнь подкрадывалась к нему, но еще не обрушилась всей своей неотвратимой тяжестью? Была... да, была бессонница... жестокая и неотвязная. Натягивались, как струны, нервы, голова тяжелела, как будто наливалась свинцом, ее разламывал на части неумолчный и мерный, похожий на музыку прибоя, шум. Порой этот шум усиливался, и тогда острая внезапная боль пронзала мозг, и он, еще не теряя сознания, бредил наяву.
Временами боль отступала, стихал в ушах разламывающий голову свист, и его охватывала глубокая и легкая тишина. Но покой и безмолвие продолжались недолго. Где-то далеко-далеко возникал неясный и еще безмятежный плеск моря, постепенно плеск усиливался, приближался, и вот уже не шум, а неистовый рев разгневанной стихии слышался больному, уже не легкие волны, а громадные валы мчались на него и со страшной силой обрушивались на голову. В одну из таких минут он и потерял сознание и перестал ощущать время.
Да, но кто зажег лампу?
Старый Бурлибек с трудом повернул голову, опасаясь, что опять провалится в черное, зыбкое, как болото, забытье. Нет, слава аллаху, этого не случилось, только легкий шум в ушах да слабость напоминали о болезни.
Он обвел взглядом комнату и... глазам своим не поверил — в трех шагах от него, беззаботно посвистывая носом, спал мальчишка, которого он, конечно же, сразу узнал. Калмаш лежал ничком, одетый, и поза его подсказала старому Бурлибеку, что малыш, видно, долго крепился, но сон в конце концов сразил его, и он упал, обессиленный, сжимая в левой руке бинокль. Рядом лежали патронташ и морской компас в деревянном футляре, белела тарелка — значит, мальчуган что-то ел. Что? Он дотянулся до тарелки, придвинул ее к себе — на ней оказалась поджаренная на масле каша...
Хм... странно... Как оказался здесь баловник? Вроде бы — не время, школа у него... Ладно, завтра спрошу, будить не стоит, пусть отдыхает. А может, это и к лучшему, что он пришел, одному худо. А так, с его помощью он пошлет телеграмму дочери. Дочь в Чу живет, пусть приедет хотя бы на время, пока он малость окрепнет.
Слабыми непослушными пальцами он подцепил в тарелке кусок остывшей каши. Вкуса ее не почувствовал совершенно, так — трава и трава. И ничего не почувствовал — ни голода, ни мало-мальского аппетита. Плохо дело, подумал он, совсем отвык от пищи... Понимая, что пища сейчас ему необходима, он заставил себя проглотить два-три кусочка каши.
Вызвать дочь... Он считает своей дочерью дочку родной сестры. Кроме нее нет у старого Бурлибека никого больше — ни близких родственников, ни дальних. Так уж сложилась жизнь. Уезжал на фронт — четверо взрослых сыновей оставалось, но и они, один за другим, попрощались с матерью и ушли, чтобы никогда уже не вернуться к родному порогу. В боях за Отчизну, вдали от родного очага погибли его орлята, а он... он уцелел, не тронули его ни пуля вражеская, ни осколок, но зачем... зачем он живет и как еще может жить с подрубленными корнями?
В сорок шестом году вернулся он с Дальнего Востока и испытал новый удар судьбы — умерла жена, не выдержало материнское сердце тяжкого горя, а для него навечно погасла последняя горсточка света над крышею его маленького жилища. Одиноко и холодно стало в доме, а заново разжечь остывший очаг не было ему суждено. С тех пор и вдовеет, живет, не ропща на судьбу. Одни жалели его — на одинокое дерево, дескать, все ветры наваливаются, другие восхищались — столько ударов человек принял, а не сломался, другой на его месте давно бы в могилу сошел.
Некоторое время он еще жил внизу, среди сородичей. Но душевное одиночество, а пуще того годы, что пошли под уклон, сделали свое дело — его неудержимо потянуло в Коскудык, на родину предков. Пора, решил он, собрал немудреные свои пожитки и поднялся наверх, в родное и милое сердцу урочище.
Коскудык — зимовье, затерянное в горах Кербулака, местах живописных и все еще малодоступных. А внизу, там, где горная цепь изгибается дугой, лепится к подножию Кербулака железнодорожный разъезд в пять-шесть домиков. От зимовья разъезд не так уж и далеко, километров семь-восемь, если идти прямиком. Старый Бурлибек ходит на разъезд за чаем и сахаром, за мукой и солью и, конечно, за новостями. Сходит, поговорит с людьми, словно на мир в окошко глянет. Мал разъезд, но мощное дыханье огромного мира и здесь чувствуется. Да что там разъезд, если и до его, затерянного в горах гнезда, долетает гул тяжеловесных составов. Беспрерывно идут они, след в след, наступая друг другу, как говорится, на пятки.
Первое время, откочевав в горы, он работал в колхозе объездчиком, охранял скирды заготовленного сена. Тогда люди не обходили его дом стороной. Подарки привозили, гостинцы... Дело простое — у каждого скот имеется, а сену в горах, хотя оно и колхозное, он хозяин. Но как только вышел на пенсию, сразу стало ясно — кто искренний друг, а кто так, выгоды себе искал, а потом напрочь позабыл тропинку к дому...
Издалека, приглушенный расстоянием, долетел мягкий гудок тепловоза, даже слабый перестук колес тяжелого состава было слышно. И это не бред, хотя, он теперь припомнил, болезнь его началась как раз вот с такого перестука колес проходящего там, внизу, поезда. Состав прошел, а музыка движения его осталась в нем и давила, давила так, что, казалось, вот-вот лопнут в ушах перепонки. Он не придал этому значения, думал, что отзывается давняя фронтовая контузия. Когда же слег, отрывочный перестук колес, звенящий в ушах, сменился неумолчным и грозным гулом морского прибоя.
Теперь же надо ждать... И не думать ни о чем, не бередить попусту душу. Наверное, снова подскочило давление, врачи ему говорили, что оно у него всегда повышено... Предупреждали, чтобы остерегался. А чего тут остерегаться, если дело, как видно, само собой к концу идет.
Чтобы отвлечься, стал смотреть на спящего мальчика... Ишь, кутенок востроглазый, свернулся себе в клубочек и горя мало, спит... Каким же счастливым ветром занесло тебя сюда, баловник? Или ты ангел, посланный мне богом-защитником?... За нос бы тебя сейчас, озорника...
Думал успокоиться, а вышло наоборот — расстроился, разволновался до слез — сколько уж дней и ночей живого человека не видел, голоса человеческого не слышал. Но... нельзя ему волноваться, никак нельзя, болезнь может вернуться... Пусть спит спокойно, баламут. Завтра его можно послать в Анракай за киргизом-знахарем. Ловкие у киргиза руки, он уже не раз пускал ему кровь, и всегда после этого становилось легче.
Здоровье, здоровье, знать бы тебе цену раньше! Еще вчера мог бы в байге с джигитами поспорить, а сегодня слег, как верблюд, фалангой ужаленный. Он бы сейчас все отдал, все, что у него есть, лишь бы снова подняться в седло...
А что у него есть? Какое такое добро накоплено? Богатства не сколотил — это верно. Но жил честно, не проклинал судьбу, хотя последние годы и прошли, как одна долгая, глухая осенняя ночь. Зато нет на его душе позора и грехов, а если и есть какие, что ж, он готов ответить перед людьми.
Э, старый, одернул он самого себя, никак помирать собрался? Или забыл, что человек, пока жив, о живом должен думать. А ты — человек, честь и совесть твои — чисты, ты любишь жизнь. Вот и не хнычь, не жалуйся, а живи и утешься любовью.
...Тоскливый и долгий, леденящий душу вой ворвался в тишину ночи так неожиданно, что старик вздрогнул. Нет, не волчья песня напугала его, к такому полуночному вою, то жалобному, то грозному, он давным-давно привык. Дело в другом... В тот день, когда он окончательно свалился, в первом бреду стал его преследовать образ больного волка. Сначала зверь виделся неподалеку от дома, ему казалось, что волк, зная о его болезни, следит за ним, караулит каждое его движение. И чем большее беспамятство овладевало им, тем ближе к порогу, шаг за шагом, подкрадывался изможденный недугом хищник. И однажды, когда стояла глубокая ночь, волк осмелился переступить порог. Раскачиваясь и словно волоча за собой свою собственную тень, хищник медленно приближался к его постели, а он не мог отогнать его — не было сил крикнуть.
Но... пока он был в беспамятстве, волк так и не решился приблизиться, а потом и вовсе отошел. Он и сейчас где-то в неглубоком овражке, на дне которого вот уже два столетия бьется бессмертное сердце горного родника. Это его жалоба минуту назад потревожила тишину ночи. Подняться и выйти бы с карабином... Одного выстрела довольно, чтобы надолго отвадить серого от дома...
Попытка подняться лишила старика последних сил. Он лег так, чтобы все время видеть спящего мальчика, и затих.
6
До самой зари старый Бурлибек так и не сомкнул глаз. Не было сна, но бессонница нисколько не страшила старика, не поспать ночь-другую — дело для него привычное. Главное — он чувствовал себя лучше, мог бы наверное и встать, но в глубине души побаивался — а вдруг тихий лепет ручейка, что бежит по камушкам в двух шагах от дома, вдруг этот лепет, стоит ему только подняться с постели, снова обернется грозной музыкой бушующего моря. Но, слава богу, все пока тихо — тихо там, на улице, тихо здесь, в доме, благостная тишина и покой разлиты и в нем самом, болезнь отступила, однако измученная душа еще помнит о ней и потому так робко радуется спасительному покою.
В свои права вступала заря, ласковая и кроткая. Зоревые волны, похожие цветом на чай с молоком, вливались в комнату через мутное стекло окошка, и отступали прочь, жались по углам, раздраженные светом, хмурые полуночные тени. Сплетаясь, играли на стекле окна первые лучи, тонкие, но еще не очень яркие — наверное, солнышко, щурясь, невзначай зацепилось ресницами за высокие уступы восточных гор.
Как по сигналу, невидимые, рассыпали над горами свои трели жаворонки. Запрокинь голову в небо — малахай свалится, а певца в прозрачной голубизне так и не увидишь, только песня его, не смолкая, льется и льется над просыпающейся землей. Мал певец, но его крохотное сердце переполнено такой любовью к солнцу и жизни, что он и петь-то ни о чем другом не может и, наверное, поэтому песни жаворонка — бессмертны. Сколько помнит себя Бурлибек, столько и звучат они — вечные и вечно волнующие сердце звонкие трели.
...Издали, со стороны джайляу Майты, донеслось ржание коня. Старик улыбнулся — это его пегий с лысиной подает о себе знак. Бурлибек уверен, что конь знает о его болезни. С того дня, как он слег, умное животное каждое утро подходит к дому, кружит вокруг него, всхрапывает, роет копытом землю, ждет, наверное, что вот сейчас откроется дверь и выйдет хозяин. Но сколько ни ждал пегий, хозяин не выходил и тогда звучало в тишине утра такое же, как и сейчас, печальное тревожное ржание, и эхо его долго и тоскливо билось в ущельных теснинах.
С утренним холодком в оконные щели проник запах мяты, ласкающий и мягкий, старому Бурлибеку показалось, что он весь погрузился в парные воды удивительно теплой реки, волны подхватили его, наполнив мускулы утраченной силой, а душу весельем и восторгом жизни, с которой уже было распрощался насовсем. Нет, воскликнул он про себя, болезнь прошла и ночь прошла, а день наступивший и белый свет — прекрасны!
Заворочался, бормотнул во сне Калмаш. Прохладно на заре, и малыш замерз, наверное, не открывая глаз, съеживаясь, полез в старикову постель, забился под одеяло и притих, согревая Бурлибека теплом своего тела и дыхания. Старик был счастлив. Судьба на старости лет наказала его одиночеством, но и она же одарила его любовью, которую он уже и не чаял встретить и о которой боялся даже мечтать.
И свое сегодняшнее счастливое исцеление связывал старый Бурлибек с неожиданным появлением мальчика. Это сам бог послал его мне, шептал он, вспомнив четырех своих сынов, погибших в трижды проклятую войну. Погибли сыновья, легли в сырую землю... Давно бы уже собрался, давно бы проведал их, если бы знал, где находятся, дорогие его сердцу, горестные могилы.
Калмаш шевельнулся снова, и старик заботливо прикрыл его одеялом. Спи спокойно, малыш, прошептал он, пусть твоя звезда всегда горит высоко и ясно.
Старый Бурлибек почувствовал, как повлажнели его ресницы, и он, чтобы не заплакать, сдвинул седые брови, сдержался, словно защищаясь от чего-то, что поднималось в душе душной тяжелой волной.
Калмаш проснулся, резко вскинулся на постели, сел и, щурясь спросонья, пытался сообразить, где же это он находится. Если дома, то почему не слышно листьев вербы под окном? Он взглянул в окно и увидел вершину невысокого зеленого холма. Странно... Откуда холм? Калмаш обвел взглядом комнату и только тогда все вспомнил, а вспомнив, порывисто потянулся, как жеребенок к матери, к Бурлибеку:
— Дедушка... Дедушка мой! Вы заболели?
Вчерашняя обида, с которой еще не справилась его душа, и беспомощный вид ослабевшего старика переполнили сердце Калмаша болью и жалостью, он, всхлипнув, задохнулся горячими неутешными слезами.
— Дедушка... я пришел к вам... Не болейте, пожалуйста... Я так соскучился.
Волна нежности затопила и душу старого Бурлибека. Он готов был заплакать, но, понимая, что сейчас надо прежде всего успокоить малыша, сдержался. Слабой рукой Бурлибек притянул к себе Калмаша, широкой ладонью ласково погладил его по голове:
— Калмаш... Ты же у меня джигит, а джигиты не плачут. С чего ты взял, что я болен? Успокойся, милый...
Трудно давалось старику спокойствие, и, чтобы подавить в себе нервную дрожь, он говорил нарочито громко, делая вид, что сердится:
— Ай, малыш, получишь у меня, если не перестанешь плакать. Я-то думал, что ты — настоящий джигит, а ты еще, оказывается, ребенок. Ну-ка, батыр, говори, каким счастливым ветром занесло тебя ко мне? Куда шел? Откуда?
— Из дома я...
Голос Калмаша пресекался дрожью, слезы продолжали душить его, но старик делал вид, что ничего не замечает.
— Дома все живы-здоровы? А зачем пришел в такое время?
Калмаш всхлипнул и, пытаясь успокоиться, судорожно перевел дыхание. Сказать или не сказать? Так и так плохо...
— Я из дома сбежал, дедушка.
— Те-те-те! — Старик удивленно поцокал языком.— Как это сбежал?
— А так... Насовсем. Я теперь в школу не пойду, с вами жить буду.
— Так-так...
Старый Бурлибек очень хорошо знал, что искренний порыв детской бесхитростной души легко погасить, и потому, сдерживая улыбку, проговорил:
— Вот это да... Здорово придумал. Такого не совершал и Карадау.
Едва ли Калмаш понял слова старика, но они его все же насторожили, и он, сдвинув брови, снова всхлипнул. А Бурлибек подумал, что не случайно появился у него Калмаш, привела его сюда если не беда, то обида.
— Калмаш, ты не плачь, не расстраивай деда. Как в ауле? Все тихо?
— Да... Наверное.
— Так домочадцы здоровы?
— Здоровы.
— Так-так... Что же мы теперь делать будем, Калмаш?
Губы малышка дрожали, рассказывая, он вновь переживал обиду. В эту минуту ему казалось, что весь мир, все люди восстали против него, а чем он виноват перед ними, что он такого сделал?
Старый Бурлибек, раздумывая над рассказом малыша, понял, что мальчик сейчас свою опору и надежду видит только в нем одном. Как же тут поступить? Отправить Калмаша немедленно домой — нельзя, малыш пришел к нему со своим горем, доверился ему. Но и здесь оставить — тоже, конечно, не годится. Надо с ним по-хорошему поговорить, мальчик умный, должен понять и правильно оценить свой поступок.
— Сынок, ты немножко не так поступил, но это ничего... Отдохни, успокойся и иди домой. Будет очень хорошо, если уедешь сегодняшним поездом. Подумай сам... У тебя — горе, а родителям твоим — каково сейчас? Но раз уж ты здесь, помоги мне. Сходи, сынок, на разъезд, еды принеси и телеграмму дочке моей, в Чу, отправь. Договорились, батыр?
Калмаш, низко опустив голову, молчал, и молчание это угнетало старика:
— Баловник ты мой, пойми деда, он добра тебе желает. Сделай как я прошу, ладно?
— Ладно, дедушка.— Калмаш вздохнул.
— Расти большим, мой мальчик. И спасибо тебе — ты меня из рук смерти вырвал.
Старый Бурлибек говорил искренне. В эту минуту он окончательно поверил, что болезнь отступила.
7
От дома старика до разъезда и в самом деле было не очень далеко. Стоило Калмашу выбраться из глубокого оврага, как впереди, казалось, рукой подать — забелели стенами, заблестели крышами домики разъезда. Хорошо был виден длинный-предлинный, похожий на старинную черно-красную изогнувшуюся гусеницу, товарный состав. Сощурясь, мальчик разглядел у тепловоза фигурки людей. Машинисты, наверное, подумал он, чувствуя, как поднимается в сердце болезненная зависть. Им, машинистам, хорошо, куда они только не водят свои поезда, чего только не видят на свете.
Стояла та пора, когда весна, как заботливая хозяйка, расшивала живыми цветами свои одеяла и ковры. Травы, пригретые солнцем, выбросили метелки. Все вокруг — земля и небо, степи и горы — дышало добротой и лаской, нежностью и любовью.
Калмаш шел по бездорожью, напрямик. Стлался под ноги упругий зеленый ковер, раскачивались на ветру, ало вспыхивали на солнце цветы — нежные лепестки их, как веснушками, усыпаны черными точками, всюду крупным жемчугом горела на цветах и травах холодная роса. Мальчик шел, и ему было жаль ступать по нежно-зеленому и, казалось, живому ковру. Нет-нет, да и попадал под ногу цветок — склонится до земли и тут же быстро выпрямится, и долго, как обиженный ребенок, качает головкой вслед.
А это что такое впереди? Очень похоже на уставшего и прилегшего отдохнуть ягненка. Дышит ягненок, и вздрагивают колечки его мягкой шелковистой шерсти. Только подойдя ближе, понял Калмаш, что это в невысокой траве зеркально мерцала чаша степного родника, бил из-под земли животворный ключ, и на поверхности чаши расходились, угасая и вновь возникая, неширокие круги. Прячась и извиваясь в траве, убегал в открытую степь ручеек. Хотя Калмаш и не испытывал жажды, он все же остановился и, пригоршней зачерпнув холодной и прозрачной воды, напился. Потом постоял немного, провожая взглядом тоненькую серебряную нить ручейка, и на миг представил его себе могучей полноводной рекой. Как хороша была бы река здесь, в неоглядно-широкой степи.
Чуть ли не на каждом шагу попадались Калмашу птичьи гнезда, и в каждом из них он находил яички, пестрые и теплые — наверное, птичка, издали заметив Калмаша, при его приближении покидала гнездо и пряталась неподалеку.
Вышмыгнула из-под кустика полыни юркая ящерица, заметила Калмаша и бросилась наутек. Он — за ней. Слышал Калмаш, что ящерицу, если она на тебя посмотрит, надо догнать и придавить, иначе не миновать беды. В последний момент, когда уже собирался схватить ее за хвост, ящерица успела юркнуть в норку. Ладно, махнул он рукой, наверное, не успела она посмотреть на меня.
Насвистывая, Калмаш двинулся дальше. Когда поднялся на взгорок, перед ним во всей своей причудливой красоте раскинулось урочище Ушкызыл. Разбежались во все стороны, как ручейки, овражки, волновалось, как безмятежное море, зеленое, расшитое цветами разнотравье, покачивался на его волнах высокий и вытянутый в длину, очень похожий на корабль, холм. Нос корабля нацелен в открытое море, еще немного, и отправится он в неведомые дали, навстречу необычайным приключениям. Калмаш, взволнованный, даже шаг придержал и, вспомнив свою бригантину, глубоко вздохнул. Как она там? Цела или нет? Сердце его сжалось, он шел, стараясь не смотреть в ту сторону, где за холмами и оврагами лежал его родной аул.
Неподалеку от разъезда, по левую руку — кладбище. Сам аул на разъезде мал, пять-шесть домиков, а могил на кладбище — множество и на каждой тяжело и неподвижно высится надгробный камень. Странно, подумал Калмаш, с чего это здесь столько могил? Или в этих местах случилось когда-то великое побоище вроде Калмыцкого? Да нет, если верить надписям на камнях, все усопшие расстались с жизнью мирно, без насилия. Странно... Но раздумывать было некогда. Калмаш вспомнил старого и беспомощного Бурлибека и прибавил шагу.
С покупками ему сначала повезло. У одной старушки, и не чаявшей найти своему товару такого покупателя, взял он оптом четыре десятка яиц. Он любил их, но дома яйца были на строгом учете, много ли их снесет одна-единственная курица.
Потом зашел в магазин, где в глаза ему сразу бросились пряники. Их он тоже любил, но еще ни разу досыта не наедался. На вопрос продавщицы — сколько взвесить? — махнул рукой,— давайте побольше! Та недоуменно пожала плечами и, пряча улыбку, столько отвесила, что одна сторона пестро-зеленого курджуна оказалась полнехонькой. Калмаш попробовал пряник — он был твердым, как железо. Ничего, в горячем чае подержать — мягким станет.
Прихватив еще две пачки чая, Калмаш отправился на почту. Настроение у него было хорошее, ему казалось, что купил он все очень удачно, и дедушка останется доволен. Улыбаясь, Калмаш достал из кармана листок и вежливо обратился к молоденькой девушке:
— Пожалуйста, отправьте телеграмму вот по этому адресу.
— Мальчик!— девушка подала ему темно-синий бланк.— Заполни, а вот здесь, внизу, напиши обратный адрес. Понял?
Калмаш разволновался, словно взял в руки не бумагу, а что-то живое и противное, вроде сороконожки. Отправлять телеграммы ему еще не приходилось, и он боялся, заполняя бланк, что-нибудь напутать. Стараясь не выдать своей неопытности и растерянности, изучил бланк, облегченно вздохнул — ничего, справится.
Телеграмма вышла, как и положено, короткой, в три слова: «Болею, приезжай срочно».
— Имя больного?— спросила девушка.— Телеграмму подписывать надо.
— Дед Бурлибек.
— А живет где? Адрес?
— В Коскудыке. Так Называют зимовье, что находится выше Буркылдака.
— Ладно,— девушка улыбнулась.— Пиши фамилию деда.
Калмаш моментально взмок. Накажи его бог, ему и в голову не приходило спрашивать у дедушки фамилию. Сгорая от стыда, готовый провалиться сквозь землю, Калмаш признался, что знает только имя дедушки.
— Ох, беда с тобой, мальчуган... Давай, так отправим...
На полпути Калмаш вспомнил, что забыл взять хлеба. Повернул было назад, но остановился — очень уж не хотелось возвращаться. Далеко все-таки. А, что горевать, есть же пряники... Хорошо, что взял много, надолго хватит.
Старый Бурлибек лежал в постели, но не спал. Вид у него был неважный, но глаза смотрели бодро и весело. Надо поскорее приготовить еды, подумал Калмаш.
— Милый мой, пришел! Жив и здоров вернулся? Быстро ты...
— Я спешил, дедушка.
— Телеграмму отправил?
— А как же... Все сделал, как вы сказали.
— Помощник ты мой!
Калмаш, ободренный лаской, взялся за приготовление еды. Продуктов, кроме яичек и барсучьего, оставшегося с зимы, сала, не было никаких. Можно зажарить яичницу, решил Калмаш. Он вихрем слетал к родничку, разжег во дворе старенькую печь, поставил чайник и, пока вода закипела, занялся яичницей. Дело оказалось довольно простым, хотя до этого жарить яичницу Калмашу не доводилось. Барсучье сало на раскаленной сковородке сердито пузырилось и постреливало. Как бы там ни было, с яичницей он справился, а к тому времени и чайник закипел. Не долго думая, Калмаш всыпал в кипяток добрые полпачки — пусть заварится покруче, пусть дедушка пьет досыта и в удовольствие. Сколько дней ни еды не видел, ни чая.
Старый Бурлибек с ласковой и грустной улыбкой наблюдал за хлопотами мальчика. Когда тот развернул у постели дастархан, старик попытался сесть, но, приподнявшись, беспомощно откинулся на подушку.
— Смотри, как ослаб, — Бурлибек тяжело перевел дыхание.— Ай, какой же ты молодец! Вкусно приготовил...
Калмаш покраснел и с сомнением глянул на дело своих рук. Яички, безусловно, пережарились, и вся яичница, подостыв немного, почернела. Но старый Бурлибек и виду не подал, ел себе да нахваливал.
А вот с пряниками вышел конфуз — закаменевшие, твердые, как потрескавшийся от долгого лежания курт, они не поддавались слабым старческим зубам. Калмаш, заметив, как мучается дедушка с пряником, опустил глаза. Вот же дурак, ругал он себя, не пряники, а булки мягкие надо было брать. Мальчик так расстроился, что яичница, которую за минуту до этого сам уплетал с великим аппетитом, застряла в горле.
— Дедушка,— еле слышно прошептал он, — а вы пряник в чай... он сразу мягче станет.
— И верно, малыш... Так и сделаю.
Старик долго пил густой чай, ощущая, как с каждым глотком ароматного напитка тело его наливается приятной легкостью.
— Малыш, а скажи-ка мне правду — зачем пришел? Соскучился или надумал спрятаться здесь, поскольку другого, более укромного места нет?
— Я скучал, дедушка.
— Доброе сердце у тебя, мальчик. Живи долго.
Оживление старика, его приподнятое настроение обрадовали Калмаша, и он решил воспользоваться благоприятной минутой:
— Дедушка, а можно мне не ехать сегодня?
— Не огорчай деда, Калмаш... Я тобой доволен, но домой идти надо.
— Но вы еще не совсем выздоровели? Как же я вас оставлю?
— Э, батыр, что делать — годы мои такие. Сегодня — на ногах, а завтра, гляди, опять свалюсь. За капризами старости не уследишь. Вот приедет дочка — все наладится, поднимусь. А ты послушай меня, старого... Попей чайку и отправляйся домой.
Слезы горячим комом стиснули горло Калмаша, перехватили дыхание.
— Ладно, дедушка, сейчас пойду.
— Вот и хорошо. Там родители, наверное, с ног сбились.
С возвращением домой Калмаш уже примирился, но как оставить больного и беспомощного старика? Кто поможет ему, кто подаст старому хотя бы кружку воды? От этих мыслей сжималось сердце, а на глаза вновь наворачивались слезы.
Но самого охотника слабость, казалось, совершенно не тревожила, лежал он спокойно, глаза его, по-прежнему зоркие, ласково и задумчиво смотрели на мальчика. Разве может такого человека одолеть болезнь? Нет, думал Калмаш, никогда... И в болезни он силен и крепок.
Старый Бурлибек, подавив вздох, повернулся на-бок, лицом к мальчику.
— Калмаш, маленький мой, послушай старика. Человеку, будь он ханом или последним бедняком, с рождения дается бесценное богатство. Но человек по молодости лет, по глупости или бездумию транжирит это богатство, ничуть не думая о горьких и тяжелых днях старости. Ты умен, малыш, ты понимаешь, что я говорю о здоровье. Деньги, сколько бы ты их ни потерял, вновь нажить можно, а здоровье, если утратишь, во второй раз не обретешь. Береги здоровье с молодости, мой жеребенок. Понял меня, сынок?
— Понял, дедушка.
И старый Бурлибек, решительно меняя тему, спросил:
— Какой сегодня день, Калмаш?
— Среда.
— О, день удачный сегодня... Хороший день.
Он опять пробовал припомнить и высчитать, когда же, в какой день слег, но память отказывала, время болезни как бы слилось в одну черную, наполненную призраками и кошмарами ночь. Не стоит и вспоминать. Слабой рукой он сжал теплые тонкие пальцы мальчика.
— В школу-то успеешь завтра?
— Конечно, успею.
— На уроки не опаздывай, милый. Учителей своих слушай внимательно. В давние времена отец приводил к учителю своего ребенка, кланялся низко и говорил: «Вот, агай, мясо — твое, кости — мои...» На все была воля учителя, а дети с муками и слезами учились. Теперь не то... Теперь хорошая жизнь, такая, когда и жаворонок, не боясь, снесет яичко на спине овцы. Школы у нас бесплатные. Только бы и жить сейчас.
Странно, думал Калмаш, как это жаворонок снесется на спине овцы? Яичко обязательно свалится. Нет, старые люди все же чудаки, такое иногда непонятное скажут. А спросить — неловко как-то.
— Доберешься домой — напиши мне письмо. Как встретили, напиши, как живешь и учишься. Деда-почтальона на Шокпаре знаешь? Вот на его имя и пиши, а он доставит письмо мне.
— Ладно, дедушка, обязательно напишу.
Калмаш обрадовался. И как это раньше такая простая мысль не пришла ему в голову.
-— Дедушка, а как фамилия дяди Суртая?
— Фамилия Суртая? Букель... Да, пиши Букель... Письмо дойдет. Сынок, а поезд твой когда?
— Поездов много, дедушка... На первый же товарняк сяду.
— Смотри, под колеса не сорвись.
Наверное, старый Бурлибек устал, голос его звучал тихо, с хрипотцой...
— Подай-ка, сынок, мне бинокль.
Калмаш подал ему коробку; старик, как бы взвешивая тяжесть бинокля, подержал его на широкой ладони, покачал и протянул коробку мальчику:
— Возьми на память обо мне. Дарю тебе, батыр, помни дедушку.
Калмаш вспыхнул от радости, но тут же смутился, опустил голову. Принять подарок — значит, оставить дедушку с пустыми руками. А как он без бинокля на охоту пойдет?
— А вы... дедушка? Как же вы ... без него?
— Я?-старый охотник усмехнулся. — Я, сынок, довольно походил с ним, теперь ты возьми его в спутники. Э, парень, от подарка не отказываются. Бери, не обижай меня.
Поначалу Бурлибек хотел было подарить Калмашу ружье, но, подумав, отказался от этой мысли. Мал еще, ребенок совсем, как бы с таким подарком беды не вышло. Бинокль — другое дело, вещь — и красивая и полезная.
— Ну что, сынок, нравится?
— Очень, дедушка! Я буду беречь его и никогда-никогда не потеряю... А после, на каникулах, мы с вами пойдем с ним на охоту. Пойдем?
— Конечно, милый, обязательно пойдем.
Калмаш склонялся и поцеловал старика. А тот слабо махнул ему рукой, словно защищаясь от кого-то или чего-то, спрятал седую голову под старую темную подушку. Бурлибек не хотел, чтобы Калмаш видел его слезы — они долго хранились в глубине души, как хранится последняя пригоршня влаги на дне старого заброшенного колодца....
8
Прикрыв за собой двери ветхого домика, Калмаш остановился и, щурясь на высоко стоящее в небе яркое солнце, оглядел знакомое подворье,
Близился полдень, тени, съеживаясь, стали короткими, как мизинец малыша. Воздух по-весеннему свеж, но странно тих и неподвижен. Прозрачно-зеленой травой, как водой, затопило весь двор, казалось, что волны зелени, накатываясь с высокого холма, только здесь, у самых дверей дедушкиного дома, приостановили свой бег и, не решаясь перехлестнуться через порог, разлились по всему двору.
Калмаш еще раз взглянул на солнце — высоко забралось, пора, наверное, и на разъезд отправляться. А впрочем, зачем торопиться? До вечера еще далеко. Да к вечеру явиться — даже лучше, меньше любопытных глаз, меньше разговоров всяких. Увидит кто и понесет по аулу — видели, дескать, Калмаш вернулся.. Где? Да вон идет, смотрите... Сам вернулся, беглец...
Вздохнув, Калмаш взглянул в сторону Бозкарагана, где причудливо застыли на месте голые угрюмые скалы. Теплая радость ворохнулась на сердце — прошлым летом они с дедушкой охотились там, и эта охота была з жизни Калмаша первой, потому, наверное, и запомнилась она так остро, во всех подробностях.
Тогда Майлыаяк был еще совсем маленьким щенком, лохматым и неповоротливым. Бегая, он смешно переваливался с боку на бок. Майлыаяка, конечно, оставили дома, а с собой взяли старого-престарого большого черного пса. Пользы от него на охоте, если не считать хриплого лая, никакой. Дедушка посмеивался и говорил, что и сам не помнит, сколько же лет этому псу, может, двадцать, а может, и все тридцать. Наверное, зимой подохнет, бедный... Так оно и случилось — по первому снегу ушел пес из дома и не вернулся.
Охота... Старый Бурлибек оставил тогда мальчика с собакой в балке, а сам решил подняться повыше и попытаться нагнать на них зверя. Охотник зарядил ружье и, подавая его Калмашу, сказал:
— Затаись, сынок, и жди здесь... Выскочит лисица — стреляй. Если далеко пойдет — не трать заряда впустую... Будь осторожен...
Калмаш, не в силах от волнения что-то сказать, только головой кивнул. Дедушка сел на коня и, понукая его, стал подниматься по крутому склону наверх, а он, сжимая ружье, затаился, чувствуя, как гулко и часто колотится сердце. На всякий случай охватил рукой синегривого пса за шею, а морду его обмотал полой пиджака. Кто его знает, старого, из ума выжившего, возьмет и пустым лаем всю охоту испортит.
Долго ждать не пришлось. Что-то темное и стремительное, внезапно появившись, стрелой летело на Калмаша, и он никак не мог понять, что это — зверь или птица? Подскакивая, гремели друг о друга, летели вниз потревоженные камни, рычал под рукой, пытаясь высвободить из пиджака морду, пес, а Калмаш, весь напрягаясь, вздрагивал от странного, холодком обжигающего сердце, возбуждения. Зверь же, сделав несколько прыжков в его сторону, вдруг резко остановился и замер, вытаращив на Калмаша круглые, как у теленка, глаза. Шкура сайгака отливала на солнце красно-коричневым цветом. Вскинув ружье, Калмаш выстрелил не целясь, и ему показалось, что пуля нашла свою жертву — сайгак словно взвился в воздух, прыгнул в сторону и полетел, едва касаясь копытами земли. Широко раскрыв глаза, Калмаш с восхищением следил за его высокими, похожими на полет, грациозными прыжками.
Ринулся за сайгаком одуревший от выстрела пес, подхватив ружье, Калмаш тоже кинулся к вершине холма, заметив на бегу, что там, где промчался сайгак, остались на полыни темные пятна крови. Калмаш удивился — раненый, а летит, как пуля, вот уже только точка мелькает среди камней.
Подъехал дедушка. Умный конь сам выбирал дорогу, и ни один камешек не срывался из-под его копыта.
— Дедушка, я стрелял! — Калмаш, все еще возбужденный, вскинул ружье.— Я попал в него...
— Верно, попал,— старый Бурлибек одобрительно качнул головой.— Большим охотником станешь... Но этого сайгака нам сегодня не взять. Рана не смертельная.
— Дедушка, давайте догоним его!
— Пустая затея, сынок... Видишь — куда он кинулся? На равнину... Сайгак при опасности в горы не уходит, а по ровному месту его и на коне не догнать...
Дедушка еще говорил что-то, но Калмаш почти не слушал его. Азарт его сменился неожиданной жалостью. Лучше бы я промахнулся, думал он про себя, зачем только попал, теперь сайгак погибнет, по капле потеряет всю кровь. Калмаш казнился весь день, а ночью почти не спал. Через день или два дедушка сказал, что сайгак упал под горой Соганды и стал легкой добычей чабанских собак. С той поры, как вспомнит Калмаш об этом, так и щемит, болит у него сердце. И сейчас оно заболело, вновь перед его глазами возник летящий, как пуля, сайгак, и опять, в который уже раз, задал он себе вопрос: «Виноват ли он? Совершил ли зло?..»
Слезы, невольные и горячие, набежали на глаза, и Калмаш, чтобы освободиться от тягостных мыслей, отвел взгляд от камней Бозкарагана, стал смотреть в другую сторону — там, у подножья Бикарагана горел, как пламя, шиповник и стлался, сплетаясь ветвями, колючий кустарник. Калмаш знает, что там в неисчислимых норах живут барсуки, не раз видел их своими глазами. Дедушка иногда ставил на барсука капкан, а порой добывал его прямо с седла. Старый охотник очень не любит тех, кто без нужды, по жадности, почем зря бьет барсука. Зачем?
Сам дедушка добывал его редко, да и то с одной только целью — приготовить себе лекарство. Снимет шкуру, подвесит тушку, и она вся на солнце так и изойдет жиром. Старый охотник добавит в жир чесноку, намешает кореньев и трав, даст настояться и все — лекарство готово. При простуде или, если в непогоду начинало ломить старые кости, дедушка подогревает снадобье и пьет его. Калмаш серьезно верил, что крепкое здоровье охотника — от барсучьего сала. Но сам никак не мог попробовать его — уж больно противный, тошнотный запах у настоя.
Мелькнула вдруг мысль, что сейчас было бы очень кстати поймать барсука и приготовить деду его лекарство.
Калмаш свистнул, подзывая Майлыаяка, и пес важно, сохраняя достоинство, приблизился к нему, взглянул своими красноватыми глазами, словно спросил — ну, зачем звал? Изменился Майлыаяк, вырос, распрощался с детством и уже не пристает, как прошлым летом, с играми. Умный пес... Наверное, знает, что хозяин его болен. Утром, как ни звал его Калмаш, пес отказался идти с ним на разъезд. Проводил до вершины холма и забеспокоился, заоглядывался, а потом, виновато вильнув хвостом, повернул обратно к дому.
Да, умный пес... И сейчас он мгновенно понял, чего от него хочет Калмаш — опустил голову и, принюхиваясь, читая следы, неторопливой трусцой побежал вперед. Из-под кустика полыни, взметнув пыль, кинулся в сторону суслик, согнулся, бедный, в дугу, и, подгоняемый страхом, летел сломя голову, но от Майлыаяка не ушел.
У самой норки пес настиг зверька, в одну секунду затрепал его, а потом, оглядываясь на Калмаш, унес суслика в кусты. Калмаш улыбнулся — хитрый пес, боится, чтобы не отняли добычу.
Быстрой припрыжкой перебежали каменную балку три кеклика. Очень интересная птица, хитрая, как сорока, и осторожная, подстрелить ее трудно. Укроется в траве и сидит, пока вплотную не подойдешь. Взлетает не сразу, сначала, разгоняясь, бежит по земле и только потом поднимается в воздух.
Жаль, что не захватил ружья, можно было бы погоняться за кекликами. Когда выходил из дома, дедушка, наверное, задремал, а взять оружие без спроса постеснялся. Ладно... Кеклики сейчас худые, они готовятся выводить птенцов. Вот осенью, с первыми холодами, другое дело, тогда жирные будут, и суп из них получается вкусный.
Какое-то странное беспокойство вдруг охватило Калмаша, дыхание его прервалось. Невидящими глазами смотрел он перед собой, стараясь понять, отчего это так защемило сердце, чей это зов, настойчивый и беспокойный, коснулся его души, кто и куда зовет его? Он посмотрел по сторонам, и все вокруг было тихо и спокойно. Невольный вздох вырвался из груди Калмаша, и он, сдерживая дрожь, больно прикусил губу...
Что-то черное, круглое, как мяч, и до смешного неуклюжее выкатилось из густого кустарника и сломя голову полетело с довольно крутого холма вниз. Барсук! Калмаш тут же позабыл обо всем на свете и закричал во весь голос:
— Взять его, Майлыаяк, взять!
И, не зная, слышит его пес или нет, он сам, охваченный азартом, ринулся вниз, бежал, размахивая руками, раза два зацепившись за корни трав, падал, но, не чувствуя боли, тут же вскакивал и вновь бросался в погоню.
— Взять, Майлыаяк, взять!
Кажется, пес вообразил, что к чему. Длинным прыжком он вымахнул из густых камышей, что буйно разрослись на берегах ручейка, и, ощетинясь, устремился за зверем, в несколько секунд настиг его, ударил грудью, сшиб, но и сам пролетел вперед. Барсука отбросило в сторону, но он не упал, удержался на ногах и, рванувшись, вновь покатился вниз.
Майлыаяк, разъяренный неудачей, развернулся и повторил нападение. Барсук, хотя и был помельче Майлыаяка, храбро встретил врага и, легко увертываясь, сам кидался на пса, угрожающе щелкая острыми зубами. Майлыаяк прыгнул, сомкнул челюсти на шее барсука и яростно стал трясти его та стороны в сторону, но зверю каким-то чудом удалось вырваться. Он, в свою очередь, пустив в ход страшные зубы, схватил пса. Зарычав, Майлыаяк, пытаясь освободиться, взвился свечкой; барсук не ослабил хватки и, пятясь, — откуда только силы взялись?— поволок пса за собой. Подоспевший к месту схватки Калмаш растерялся Подвернувшийся под руку камень бросил в барсука, а угодил в собаку. Правда, и зверь тоже разжал челюсти, но не убежал, снова кинулся в драку. Сердце Калмаша ушло в пятки — ему показалось, что барсук бросился на него. Однако зверь и не помышлял нападать на человека, у него были свои соображения — хрюкая, он покрутился вокруг, увертываясь от собаки, и вдруг нырнул в нору, оказавшуюся тут же, поблизости от места сражения. Бедный Майлыаяк даже взвыл от ярости, кинулся было за барсуком, но проникнуть в логово зверя не решился. Долго скулил, долго яростно скреб лапами землю, и Калмаш не сразу смог подойти к нему и осмотреть раны.
Мальчику стало обидно, он не мог без слез смотреть на Майлыаяка. Разорвав на полосы рубашку, перевязал пса, с трудом остановил кровь. И еще раз удивился отчаянной злобе и дикой силе барсука.
Долго он не мог успокоиться. Сидел, поглаживал Майлыаяка, жалея, что взял его со двора, привел с собой. Наконец, вздохнув — поднялся. Надо идти, может быть, ходьба освободит душу от странного ощущения какой-то тягостной и неведомой ему вины.
9
На разъезде, как и утром, когда приходил он сюда за покупками, было безлюдно и тихо. Десять домиков тесно прижались друг к другу. Сейчас Калмашу показались они унылыми и сумрачными, чем-то напоминали собой человека, который утром, поднявшись с постели, позабыл умыться, да так, неумытый и непричесанный, и вышел на улицу. Неуютно, холодно стало Калмашу, по веяло на него от этих домов угрюмой неприветливой сыростью.
С тяжким гулом, сотрясая землю, втянулся на разъезд товарный состав. Скрип тормозов вызвал ощущение зубной боли, а в ноздри ударил резкий и горький запах сгоревшего масла и разогретого металла. Вагоны, лязгнув автосцепами, замерли, и тишина, как омут, сомкнулась над ними. Мальчику показалось, что вагоны, как люди, измученные дальней дорогой, обрадовались остановке и, пользуясь ею, задремали.
Все... Товарняк — попутный, остается подыскать подходящую площадку. Правда, если по совести, то Калмашу вовсе не хотелось уезжать. Еще рано, размышлял он, не стоит торопиться, тем более, что дома его наверняка ждет выволочка. Нет, право, торопиться не надо... К тому же, товарняки идут один за другим, до вечера десять раз еще можно уехать.
Резкое шипение, почти свист, нарушило и тишину и мысли Калмаша. Это машинист проверил тормоза — значит, состав сейчас тронется. Непонятно — зачем он вообще останавливался? Ждал встречного? Но его не было, и, кажется, уже не будет... И точно. Вагоны, словно стряхнув с себя дремоту, вздрогнули и, подталкивая друг друга, медленно поплыли мимо. Минута, и тяжелый состав разогнался, набрал скорость, правда, еще можно было вскочить на подножку, и Калмаш совсем уже было собрался сделать это, но вдруг остановился, замер на месте от боли, охватившей сердце,— он забыл... да, он забыл бинокль, подарок дедушки. Как забыл? Почему? Где? А, вспомнил... Он стал возиться с собакой, а коробку с биноклем положил на порожке дома.
Калмаш расстроился, но обида и злость на самого себя скоро прошли, сменились затаенной радостью. Вот и причина возвратиться к дедушке. От мысли этой мальчик сразу повеселел, разъезд уже не казался ему самым угрюмым и отвратительным селением на земле, напротив — в его затерянности и запущенности была своя прелесть, которой он поначалу не заметил, не почувствовал. Домики, тесно сбившиеся на маленьком пятачке земли, показались сейчас тихим уютным гнездом, где живут, наверное, люди добрые, и двери их бедных жилищ всегда открыты для усталого путника. А ночами аул зажигает огни, они ярко горят, пробуждая в людских сердцах сладкие мечты о дальнем и еще никем неизведанном. Нет-нет, очень симпатичный аул и, попробуй он сейчас перешагнуть порог, ну, хотя бы вот этого дома, встретят его там радушно, Скажут:
— Проходи, милый, в дом, не стой у порога...
А потом подробно обо всем расспросят и приятно удивятся:
— Э, да ты, оказывается, вон кто! Сын нашего...
Хорошо стало на душе Калмаша, светло и весело. Как ни говори, а это просто здорово, что он позабыл бинокль. Вот он сейчас вернется, а там, гляди, и на ночь останется.
Вспомнив, что у дедушки нет хлеба, Калмаш зашел в магазин и взял мягких свежих булок. И килограмм кисленьких конфет в пестрой обертке. Очень вкусные конфеты. И главное — одну целый день сосать можно. Как раз хорошо для дедушки, он лежит, не встает, а человеку, хотя он и болен, все равно надо чем-нибудь заниматься, чтобы не скучать и меньше думать о болезни.
Дорога не очень близкая, но шел он легко и быстро, совсем не чувствуя усталости, ему казалось, что зеленая мягкая дорожка, пружиня под ногами и вздрагивая, сама движется вперед и его увлекает за собой. Не успел и оглянуться, а дом дедушки — вот он уже, рядом. Майлыаяк, сдержанно повиливая хвостом, встретил его у самых дверей. Не прыгал, как обычно, не ласкался, и Калмаш подумал, что у пса после драки с барсуком плохое настроение. Морда у Майлыаяка заметно распухла, глаза заплыли, мутными стали, еле-еле светятся, а левый так и вовсе неживым кажется.
Калмаш бросил собаке целую булку, и тот, обнюхав ее, благодарно вильнул хвостом. Дедушка не раз говорил, что нельзя бросаться хлебом, даже крошки его нельзя оставлять на земле. Мальчик, конечно, помнил слова охотника, но сейчас, чувствуя себя виноватым перед израненным псом, махнул рукой на строгое наставление деда. Майлыаяк, рассуждал он, тоже живое существо, и хлеб я бросил ему, а не на землю. Пусть наестся, бедный, досыта, гляди, и раны скорее заживут.
...Калмаш сразу не понял — спит ли дедушка или просто лежит, полузакрыв глаза.
— Дедушка!-голос Калмаша дрогнул.— Это я... Вернулся... Я бинокль забыл.
Старик шевельнулся, но глаза не открыл, и тогда Калмаш понял, что старый Бурлибек не видит и не слышит его. Он ругал себя за то, что оставил больного одного А если бы не вернулся, что бы с ним было? Хорошо, живым застал, а если бы...
Внезапная слабость охватила Калмаша, и он без сил опустился на край постели. Попробовал расшевелить дедушку, растолкать его, чтобы тот проснулся, но ничего из этого не вышло — старик в себя не приходил.
Гнетущее предчувствие беды больно сдавило сердце. С трудом Калмаш сбросил с души оцепенение, поднялся, вскипятил чаю, потом разогретым барсучьим салом крепко растер старику грудь, ноги и руки и вновь, до самого подбородка, укрыл его одеялом.
Калмаш давно заметил, что неприятные мысли, только допусти их, начнут цепляться одна за другую, как цепляются друг за другом липучие головки репейника. Одну отдернешь — другая вяжется, третья, никакого спасу нету от них.
Однако, что же все-таки он будет делать, если дедушка, не приходя в себя, помрет? До аула далеко, а здесь только он один.
Типун тебе на язык, Калмаш сердито ругнул себя, чего ты болтаешь, глупый? Может, ничего страшного и нет. Болезнь, есть болезнь — то легче человеку становится, то тяжелее.
С минуту Калмаш упорно боролся с дурными мыслями, но разве с ним справишься, если они, проклятые, в голову полезут... Однако он не сдавался. Ну, болеет дедушка, ну и что? Десять дней будет лежать, месяц, а все равно встанет. Думать иначе — беду накличешь... Вон Шанжи Алтая, тоже сильно болел, весь аул поднял на ноги, люди шесть месяцев каждый день думали, что сегодня-то, бедный, непременно помрет, а он взял и поднялся. Тоже старик, а молодому не уступит, еще и на лопатки иного джигита положит. Как он тогда в драку из-за одежды кинулся! Если кому -и умереть от болезни, так это ему надо было, а он — ничего, живет, посмотреть на него — кровь с молоком...
«Каждому свое, сынок... У Шанжи была только простуда. Полежал, помучился, да и встал себе... А ты взгляни на своего деда...»
Калмаш вздрогнул, услышав в самом себе этот печально-торжественный голос. Голос звучав, жил как бы отдельно от него, сам по себе, и тем не менее принадлежал-то он ему, Калмашу. Но тогда.... тогда выходит, что здесь, в комнате, сидят и разговаривают два Калмаша. Ощущение раздвоенности было столь сильным и непривычным, что Калмаш поежился и, растерянный, оглянулся, словно хотел отыскать глазами того, другого. Найти он никого, конечно, не нашел, но голос услышал:
«Не ищи попусту, Калмаш, потому что ищешь ты самого себя. Лучше загляни в свое сердце и согласись, что я прав...»
Калмаш возмутился:
«Тебе твоим языком, собачье отродье, только раскаленные сковородки в аду лизать! Каждому — свое, ишь, какой... А что скажешь о Калдыбае, ему-то, слава богу, за восемьдесят перевалило, а посмотреть на него внимательно — сто лет еще проживет и не охнет. Это — как? Или, скажешь, он духом сильнее моего деда? Да ничуть! У меня дедушка— батыр, вот увидишь, он обязательно поднимется».
«Э, Калмаш, ребенок ты, молоко на губах еще не обсохло. Ничего не испытав в жизни, рассуждаешь о ней... Разве можно сравнивать твоего дедушку с Калдыбаем? Калдыбай за всю жизнь ни разу чекменя в руках не держал, о куске хлеба не заботился, жил в достатке, только что в масле не катался. В войну и пороха не понюхал, отсиделся в ауле на шее народа, собачий сын, отъел рожу, сил у него, как у жеребца трехлетнего. А твой бедный дед, что он видел в жизни? Нужду и страдания — вот что... Вот и. лишился на старости лет здоровья. А пришла беда, сынок, отворяй ворота...»
«И слушать тебя не хочу! Сейчас я еще раз разотру дедушку барсучьим салом и он, вот увидишь поднимется. Люди все болеют, да не все умирают от болезней, понял?»
Калмаш изнемог в споре с упрямым и невидимым двойником. Спорить-то он с ним спорил, но в глубине души и сам понимал, что дедушка — плох, что жизнь его висит на волоске. Калмаш низко опустил голову и уже не испугался и не удивился, когда кто-то, невидимый, вздохнул и проговорил, успокаивая:
«Ничего, сынок, потерпи немного... Надо ждать и надеяться. Трудно, но терпи...»
«Конечно, я потерплю... И школа моя подождет. А радости мне никакой не надо — только бы дедушка встал на ноги».
Калмаш поднял отяжелевшую голову — в окно вливались густо-синие сумерки и в наплыве их, как в воде дрожала спокойная зеленая звезда. Надо бы чай вскипятить, подумал он, но с места не сдвинулся — пережитое потрясение лишило его сил, усталость неодолимой тяжестью давила на плечи, глаза, против воли, слипались, и он закрывал их, на минутку, как в омут, проваливаясь в сладкую темную дремоту, а через минуту, вздрагивая, просыпался и долго не мог сообразить — где это он и что такое с ним происходит?
10
Прошли ночь, день и еще одна ночь. Только на рассвете второго дня старый Бурлибек очнулся и мутными глазами, в которых не угадывалось и проблеска сознания, повел по сторонам. Натолкнувшись взглядом на Калмаша, едва ли узнав его, хрипло спросил:
— Где? Там... на кухне... есть кто?
— Нет, дедушка... Там никого нет.
— А ты посмотри... Он, проклятый, спрятался там, я знаю... Я видел...
Мальчик понял, что дедушка бредит; испуганный, он весь сжался в комочек, притих, стараясь ни вздохом, ни шорохом не выдать своего присутствия. К счастью, бредовый кошмар рассыпался, и старик пришел в себя, его воспаленные красноватые глаза прояснились, и он снова, на этот раз вполне осмысленно, взглянул на Калмаша. Что-то, видимо, еще тревожило его, что-то он хотел вспомнить, но память отказывала больному, и старик только сердито лохматил седые кустистые брови да беспомощно морщился. Наконец, лицо его просветлело, и он ласково, немного виновато улыбнулся мальчику.
Время тяжелого черного беспамятства пролетело, как несколько минут; ослабевший организм боролся со смертью, и все это время преследовал старого охотника, ни на шаг не отходил от него старый знакомец — изможденный болезнью волк. Поначалу он следил от порога, в его раскосых глазах светилось напряженное угрюмое терпение. Стоило Бурлибеку на минуту прикрыть воспаленные глаза, волк, припадая брюхом к полу, подползал ближе. И так, шаг за шагом, зверь подобрался к постели. Нет, он ничем не угрожал больному, не порывался к горлу, просто тяжело, с хрипом, дышал. Бурлибек пытался оттолкнуть зверя и подняться, да не тут-то было — волк всей своей тяжестью наваливался на грудь, тыкался лобастой головой под мышки... Когда Бурлибек минуту назад очнулся, волк почувствовал это и попытался пустить в ход клыки, но старик, собрав силы, в гневе оттолкнул зверя ногой, и тот неохотно, оглядываясь, поплелся к выходу...
— Сынок, ты еще не уехал?
— Дедушка!— Калмаш всхлипывал и кулаком растирал по лицу неудержимо бегущие слезы.— Я боялся отойти от вас.
— Ай-яй, сынок, нехорошо получается... Ну, ладно, пока согрей мне чайку...
Мальчик поднялся. Бурлибек проводил его взглядом, Слабый шум в ушах раздражал его, не давал сосредоточиться и сообразить, сколько же дней пролежал он в беспамятстве.
— Сынок, какое число сегодня?
— Пятница, дедушка.
— Так... Мне полегче стало, причины задерживаться больше нет. Вот чайку попью и, может, встану.
Калмаш обрадовался и даже в ладони захлопал. Собирая чай, стал рассказывать:
— Дедушка, а мы с Майлыаяком на барсука охотились... Чуть не пропала собака. Еле разнял их. Майлыаяк сильно поранен.
— Ай-яй... Барсук злой, хитрый, сильный зверь, не смотри что он с виду такой неповоротливый. Иной жеребцу ноги подсекает, клыками по жилам, как ножом режет...
— И нам тоже злой попался.
— Поймали?
— Нет, в нору заскочил. Майлыаяк с ним долго боролся.
— Э, пока барсуку голову не пробьешь, он не свалится. И то ладно, что на тебя не кинулся.
— Такой толстый, а не поддался Майлыаяку.
— Калмаш, а нет ли каких вестей от дочки?
— Пока нет, дедушка.
Старик кивнул головой и тяжело вздохнул.
— Должна бы приехать, а может, телеграмма не дошла?
— Конечно, приедет, дедушка.— Калмаш горячо поддержал старика.— Телеграммы на почте, знаете, по скольку дней лежат, пока их принесут... Давайте чай пить.
— Ох, милый ты мой, спасибо...
Старый охотник приподнялся, и так, полулежа, пил, мелкими глотками прихлебывая ароматный напиток.
Пиала дрожала а его ослабевшей руке, и сердце Калмаша снова сжалось от жалости.
А утро едва-едва разгоралось С высоких гор веяло прохладой, длинные тени покачивались, словно их пошевеливал, налетающий порывами легкий ветерок.
Залаял Майлыаяк. Его беспокойный лай постепенно усиливался, наливался яростью и злобой. Так он всегда лает, если чует незнакомых людей. Калмаш выскочил из дома и замер, сердце его похолодело. Быстрым шагом, волоча за собой неуклюжие мечущиеся тени, приближались двое, одна из них — отец, его он узнал сразу... Как быть? Что делать? Бежать ли навстречу, стоять ли на месте, или спрятаться где-нибудь? Ничего не решив, бледный, вернулся в комнату. И почти вслед за ним, отбиваясь от собаки, ворвались в дом и он и отец, не обращая на сына внимания, шагнул к старику и яростно, со злобой, выдохнул:
— А, бродяга, ты здесь! Какого черта морочишь ребенку голову, а?
Он бы кинулся на старика, но его придержал спутник, человек в форме.
— Нельзя, старина, нельзя... Давайте немного отдохнем, а потом уж приступим к делу.
Пожалуй, за всю свою жизнь не испытывал старый охотник подобного оскорбления. Он так растерялся, что не предложил гостям присесть. Эх, грехи наши тяжкие, не стоял бы он одной ногой в могиле, показал бы этому крикуну, где раки зимуют, поучил бы его плеткой уму да вежливости.
Старый Бурлибек перевел дыхание и слабым голосом все же проговорил:
— Проходите, присаживайтесь, в ногах правды нет... Кто ты, милый, чей? Не узнаю, глаза и память слабыми стали.
— Не прикидывайся мышью!
— Эх, гордыня... Поостынь-ка малость...
— Вот я говорил, видите!— отец Калмаша повернулся к спутнику.— Это же дьявол... Всем в округе надоело его озорство. Пока он жив, людям не спать спокойно...
Он вплотную придвинулся к старику, и тут в ноги отцу с криком бросился Калмаш:
— Коке, не трогайте старого человека. Дедушка не виноват, это я, это все я сам...
Отец, опешив на секунду, разъярился еще больше.
— Ну, с тобой-то я дома поговорю...
— Дедушка болен, коке! Не трогайте его!
— А-а-а! Дал же господь сыночка...
Отец, окончательно потерявший голову, ударил Калмаша в грудь, и мальчик упал.
— Эй, Куреке, остановись!— человек в форме, обхватив сзади Куралбая, оттащил его в сторону.— Бить не позволю... Радоваться надо, что нашел сына живым и здоровым.
Бурлибек, пытаясь приподняться, поддержал его:
— Сынок-сынок, на твоем высокомерии лепешки бы печь. Кого бьешь, неразумный? Себя бьешь, плоть и кровь свою... Остановись..
Но тот не слушал старика, схватив Калмаша за шиворот, чуть ли не вышвырнул его из дома. И сам, злобно оглянувшись, шагнул за порог, с силой хлопнул дверью. Сердце мальчика оборвалось — он вдруг понял, что это все, в последний раз слышал он голос дедушки, в последний раз видел его...
Вслед за отцом и сыном вышел на улицу и следователь. Зная теперь, в каком состоянии лежит старый охотник, он все понял и не мог оставить беспомощного человека одного, потому и решил разыскать транспорт, отвезти Бурлибека в больницу восемьдесят третьего разъезда. Прощаясь с отцом Калмаша, следователь строго сказал:
— Так, Куреке... Все, что от меня зависело, я сделал. Сын твой нашелся,— но вот что... Есть у меня к тебе просьба,— следователь помолчал и, взглянув на Калмаша, мягко, ободряюще улыбнулся ему.— Не ломай бригантину мальчишки... Пусть играет малыш, пусть мечтает, ничего худого я в этом не вижу... Так даешь слово?
Отец, хмуря брови, ничего не ответил. Все еще напряженным голосом спросил:
— Так вы что, остаетесь?
— Да... Надо помочь старику.
Куралбай, дернув Калмаша за руку, зашагал прочь со двора. Следователь, покачивая головой, смотрел им вслед, и на душе его было неспокойно. Дело свое он сделал, но радости не чувствовал. Отец и сын... Они уходили все дальше и дальше, поднимаясь по склону невысокого холма. Калмаш спотыкался, не успевая за широким шагом отца, а потом — следователь и верил и не верил своим глазам — старший положил свою руку на худенькие плечи мальчика... Это последнее, что еще мог различить следователь, вглядываясь вдаль.
* * *
...Стояла тихая ночь, и лунный свет, томительный, рождающий в душе странное и смутное беспокойство, ровно заливал степную, изрезанную оврагами и холмами равнину. На вершине крутого холма неподвижно застыл всадник на белом коне. Привстав на стременах, он, словно разыскивая кого-то, оглядывает из-под ладони широкие неохватные степи. Сердце Калмаша забилось тревожно и радостно — во всаднике он узнал дедушку Бурлибека, узнал и, взмахнув руками, хотел крикнуть ему, что он здесь, рядом, но вместо крика из груди его вырвался лишь слабый стон. А на вершину холма — и откуда только взялись?! — выбежали два львенка. Играя, подпрыгивая с двух сторон, они стали ласкаться к старому охотнику. Умный конь, всхрапывая, изгибал в наклоне лебединую шею, и его белоснежная грива мешалась с рыжими гривками ласковых зверенышей.
А мальчик кричал, не в силах выбраться из зеленой, опутавшей ноги, травы, беспомощно рвался его голос, и крик замирал на сухих, опаленных жаром, горячих губах.
— Дед, будь здоров, дедушка!
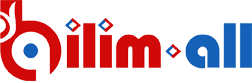


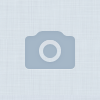
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі