Крылья ненависти
«КРЫЛЬЯ НЕНАВИСТИ»
Часть первая
(«Жолдастар» трилогиясының бірінші кітабы)
ЗАВОДЬ
ДУМЫ
Жаркая, душная мгла летней ночи окутала дырявые юрты джатаков. В низинке за аулом позвякивали железными путами невидимые лошади. Звучно отрыгивали жвачку истомленные дневным зноем коровы, шумно дышали сбившиеся в кучу овцы.
Молчаливыми черными копнами горбились юрты бедняцкого аула, только в крайней юрте через бесчисленные прорехи можно было заметить отблески огня. Но и ее обитатели собирались ложиться спать...
Тажи выпил чашу кислого айрана, посидел, раздумывая, то ли ложиться, то ли высказать матери то, что мучило его с утра. Наконец решился:
— Все берут с ярмарки баранов, пасут их,— проговорил он хриплым от долгого молчания голосом.
— Эх, мальчик мой,— живо откликнулась Сатбала, ждавшая этих слов и боявшаяся их,— За чужое и спрос иной... Чем-то они потом отвечать будут?
— До ответа далеко, — не сдавался Тажи. — Потом... все берут...
— Кто это все?
— И Имаш, и Сакен, и Сарсенкул, и Казибай... Даже гундосый Иса взял на сохранение восемнадцать баранов...
— Куда этот-то суется! — всплеснула руками Сатбала. — Ему не то что чужую скотину пасти, свои ноги, дай бог, не протянуть... Слыхал ведь, говорят: «Случить — случишь, а ягнят не сохранишь», — так и здесь, пустое это дело, только в долги влезем.
Тажи угрюмо молчал и ворошил палкой угли. Помолчав, мать спросила:
— Ты что же, решил взять?
Тажи продолжал задумчиво глядеть, как подергиваются серым пеплом гаснущие угольки в костре. Но словно очнувшись от невеселых дум, он торопливо заговорил:
— Мама! Я думаю — лучше взять. Сама видишь, вес аул берет. Как люди, так и мы... Нам бы только зиму продержаться... Бог даст - джута не будет, глядишь, и выкрутимся как-нибудь... А не возьмем баранов — как зимовать? К Адилхану в кабалу идти?.. Да и Сатана я не хочу отпускать от себя, еще... А без овец не прокормиться нам втроем...
Сатан, притворяясь спящим, слушал старшего брата. Мысли его разбегались.
«Пусть хоть кому отдают, только не Адилхану!.. Если наши возьмут этих баранов, то я никуда не пойду, останусь здесь. Хорошо бы остаться!.. А если не возьмут, останусь я дома? Нет, на зиму все равно отдадут куда-нибудь... Иначе не выживем...»
Сатан знал, что время беззаботных игр и забав для него прошло, что теперь он работник и помощник в хозяйстве. И он охотно стал бы пасти этих баранов, лишь бы не покидать своего аула. Здесь никто не будет им помыкать, издеваться над ним. Пусть одежда у него будет старая, зато не рваная. Мать всегда починит и постирает. И друзья будут с ним.
Сатбала так же молча слушала сына. Она понимала, что выхода у них нет, и потому, тяжело вздохнув, ответила Тажи:
— Ты уж сам решай, сынок... Откуда мне, старой, знать, как лучше.
Тажи понял материнское «сам решай» как согласие. Сатан также понял это и со спокойным сердцем укрылся с головой старым одеялом.
Угли костра то гасли, то вновь вспыхивали, потревоженные палкой Тажи. Наконец, выметнув через полузакрытый тундук в черное небо сноп ярко-огненных брызг, погасли.
Аул спал.
«БЕЛЫЙ ВЕКСЕЛЬ»
Утром Тажи поймал в низинке за аулом свою серую трехлетку и накинул на ее потертую гноящуюся спину старый потник. Сверху ловко пристроил довольно странное сооружение из плохо оструганных досок, которое он называл седлом, и так подтянул подпругу, что трехлетка стала похожа на перетянутый посередине мешок с просом.
Тажи взгромоздился на нее, солидно похлопал камчой по сопагам, изобразил на лице равнодушие, приличествующее занятому важными делами человеку, и поспешно потрусил по пыльной тропинке к большому почтовому тракту.
По пути он обогнал сборное аульное стадо, которое тянулось на выпасы. Тощие коровенки ловкими шершавыми языками так и косили на ходу чахлую придорожную травку. Впереди стада степенно вышагивал бородатый козел и презрительно косился на Тажиеву лошаденку...
До ярмарки Тажи добрался часа через два. Он смотрел на громадный людской муравейник Куяндинской ярмарки с вершины перевала. По обе стороны от него длинной цепью протянулись поросшие мелким кустарником холмы, а внизу, в широкой долине, гигантским зеркалом блестело степное озеро. На ближнем к Тажи берегу этого озера и располагалась Куяндинская ярмарка.
Пыль желтым облаком повисла над торжищем, и время от времени перемещалась по берегу то в одну, то в другую сторону. Казалось, многотысячный табун испуганных коней мечется под этим желтым облаком, не находя выхода.
Сквозь пыль, оживляя однообразную желто-серую массу, временами проглядывали то пестрые тенты полотняных навесов, то ярко-белые верхи байских юрт. А над всем этим высоко в небе бился на ветру веселый полосатый ярмарочный флаг, поднятый на высоченном столбе.
Шум людского сборища долетал даже сюда, до перевала...
Тажи с минуту любовался этим зрелищем, затем молодецки поправил облезлый треух, гикнул, ударил пятками своего конька, вихрем скатился вниз и скоро стал неразличим в ярмарочной пыли.
Пробираться сквозь базарную толчею оказалось нелегким делом: везде люди, повозки, всадники, скот. Стоял неумолчный гул, как во время большого сражения. Покупатели заставляли орать верблюдов, с криком тащили быков, надрывая глотки, предлагали коней, резкими, визгливыми криками скучивали овец...
Тажи и раньше бывал на ярмарке, но сегодня он приехал сюда по важному делу и потому, не соблазняясь ни открытой дверью кумысной, ни отменным насыбаем, который он любил класть под язык и часами сосать, мыча от наслаждения, прямо направился к дальнему краю базара, нещадно колотя пятками ребра своей лошаденки.
Здесь разместились баи Семиречья.
Неизменно из года в год занимали это место скотопромышленники из родов Сарман, Ырысбек, которые еще никому не уступали первенства на Куяндинской ярмарке. Это были хитрые многоопытные скототорговцы — Шаяхмет из Капала, Кусаин из Чубарагаша, Абырам из Аксу, Сулейман Садык из Кызылжара. Они трепетали над каждой шерстинкой, над каждым кусочком кожи, попавшим на ярмарку.
Тажи спешился у большого раскидистого дерева. Привязав лошадь, он приблизился к группе людей, сидящих на просторной кошме, разостланной прямо на земле перед богатой восьмикрылой юртой. Долгое время на него не обращали внимания, шел спокойный важный разговор. Тажи был нужен только один из этих людей — тот, что сидел в центре кошмы, облокотившись на шелковую подушку, в зеленой атласной тюбетейке и черном жилете, свободно облегавшем его худощавое жилистое тело. Тажи ждал, когда он кончит говорить. Ждать пришлось долго, но наконец, когда мирза поднялся и направился в дом, Тажи решил, что наступил удобный момент, и робко обратился к нему. Небрежно ответив на почтительное приветсвие и крутя на животе массивную золотую цепь от карманных часов, мирза ровнодушно слушал бедняка.
— Я к вам!
— Кто ты?
— Я из рода Каракесек. Здесь недавно живем. Мы в Родстве с Адилханом.
— Чего тебе?
— Плохие мы люди, благодетель, себя прокормить не можем. В народе говорят: «От меда сладость, от бая благость»... на вас одна надежда... потому и приехал...
— Зачем?
— Наше дело бедняцкое... Как мы слышали, что вы соизволили скотину отдавать пасти... до весны, ну вот и я... как все...
— Как выпасы?
— Земля хорошая, вон те серые холмы. Зимой снега не бывает. На солнечной стороне круглый год скотину пасем...— заторопился Тажи, суетливо показывая на низкие горы.
— Поручителя найдешь?
Тажи согнулся. Словно холодной водой его окатили. Кого просить о поручительстве? Адилхана? Нурбека? Как же, станут они с ним возиться...
Бай, видя его замешательство, решил помочь:
— Кто твой отец?
— Болеген. Мой отец у вас служил, сколько раз он пригонял ваш скот на эту ярмарку!..
— Э-э, так ты сын рябого Болегена? Знаем твоего отца. Неплохой был работник, бедняга.
— На это только и надежда была.
Шалматай только с виду был так неприступен в этом разговоре. На деле же он не знал, куда распихать оставшихся от продажи хромых и больных баранов.
Подобные сделки вошли в обычай, и каждый год к концу ярмарки скототорговцы раздавали окрестным беднякам забракованный базаром скот, с тем, чтобы по весне получить его в целости и с приплодом. Беднякам это давало слабую надежду кое-как вынести голодную зиму, получая от овец молоко и шерсть.
Шалматай был одним из крупнейших воротил. Этот прожженный делец умел, как никто другой, выколачивать барыши. На эту ярмарку он ежегодно поставлял не менее семидесяти тысяч овец. Разными путями собиралась эта огромная отара: многих он оптом покупал у менее крупных купцов; многих закупали его агенты в далеких, затерянных в степи аулах, где платили за них сущие гроши; многих он пригонял от своих, громадных даже для Казахстана, отар. И наконец сюда включались овцы, в конце прошлой ярмарки розданные беднякам за то, что они брались сохранить его баранов. Шалматай разрешал им пользоваться молоком овец, давал кусок материи, две-три осьмушки чая, фунта два сахару и немудреные подарки семье. Кроме того Шалматай при помощи векселей сурово взыскивал со своих горемычных должников, требуя здоровый, сытый скот взамен больных тощих баранов.
На Куяндинской ярмарке Шалматай задерживался гораздо дольше других оптовиков. Целое лето проводил он здесь, прибирая к рукам стада разорившихся мелких торговцев, скупая нужные товары по бросовой цене, монопольно устанавливая на них цены, расширяя и упрочивая свое влияние.
Тажи «повезло». Шалматай без особых уговоров согласился дать ему два десятка баранов. Тажи, в свою очередь, обязался сохранить этих хромых, чесоточных, отощавших животных до следующей ярмарки. За каждую пропавшую голову он должен уплатить баю цену, какая будет на будущей ярмарке. В результате этой операции худосочные бараны в мгновение ока превратились в несгораемые, нетонущие, закованные в броню от волчьих зубов кошели с деньгами. Что бы ни случилось, а будущим летом бай так или иначе сполна получит их стоимость: «белый вексель» учитывал и возможный приплод, которому также не грозили ни голодная смерть, ни волчьи зубы, ни степные бураны.
Вексель учитывал и «выгоду» Тажи — ему полагалось но выполнении условий договора получить за свой труд трех баранов и шерсть весенней стрижки.
Шалматай вручил Тажи доверенность и отослал его к нотариусу. Старый, сморщенный крючкотвор, получив от Тажи положенное, без лишних слов заверил вексель. Тажи бодро вскочил на серую двухлетку и потрусил к стадам Шалматая отбирать свои двадцать баранов.
ЧТО СКАЖЕМ БАЮ
Только к вечеру добрался Тажи до своего аула. Бараны порядком измучились и измучили своего нового хозяина. Тажи уже думал заночевать в степи, но, благодарение Аллаху, к концу дороги его бараны-ревматики разошлись и довольно бодро продвигались вперед, чуя запах жилья.
Пять-шесть собственных овец Тажи, завидев голодную ораву чесоточных собратьев, жалобно заблеяли. И все-таки загон для скота, огороженный жиденькими жердинами, выглядел у Тажи не хуже, чем у соседей.
Вместе с баранами в доме появились и новые заботы. В первую ночь караулить «отару» вышла мать Сатана. То же самое предстояло ей делать и в последующие ночи. Не смыкая глаз, провожая и встречая зори, сторожила старая женщина единственное достояние семьи. Перед рассветом она будила разоспавшегося Сатана:
— Вставай, золотко, вставай!
Сатану не хотелось расставаться со сном, и он спросонья начинал канючить:
— Апа-ай, погоди, еще рано!
— Вставай, лодырь, баранов надо пасти — не уступала мать. Это срывало Сатана с постели.
Весь остаток лета пас он бракованных овец. Но вот в воздухе запахло осенью: трава завяла, пожелтела, небо все чаше застилали низкие рваные облака. Ветер стал резким, холодным, пронизывающим. Все меньше выпадало погожих дней и все меньше становилось баранов в отаре. Хотя чабанов теперь было больше чем достаточно, от этого беды, предопределенные судьбой, отнюдь не сокращались и сыпались на головы многострадальных овец, как снежная крупа из мохнатых туч ранней зимы. Первой жертвой, был чесоточный задиристый баран,— его насмерть забодала корова. Серую ярку зарезал волк. Еще у одной овцы распухло и полопалось вымя, в ранах завелись черви, и к осени страдалица, что называется, отдала богу душу. Уже глубокой осенью вор свел со двора трех баранов, прихватив и корову. Рыжий с отметинкой на лбу баран пристал к отаре Адилхана и как в воду канул. Как-то, проходя мимо адилхановского загона, Тажи увидел сохнущую на изгороди рыжую баранью шкуру, но промолчал — кому докажешь?
В ненастную пору простудилась и слегла мать Сатана. Не чаяли уж и выходить, пришлось зарезать серого хромого барана и кормить больную мясным отваром, ничего другого она уже и не принимала. Бог дал, выздоровела мать, а к тому времени приехала в гости дочка. Как тут быть, разве можно матери отпускать родную дочь ни с чем? Под нож пошла очередная жертва. Еще двух овец Тажи сам свел в город и продал, когда особенно трудно стало с деньгами, а на носу была суровая долгая зима. Пришла и зима, а где это видано, чтобы зимой казах сидел без мяса? Да и чем еще ему питаться? Ни муки, ни картошки, ничего. Трудно было резать только первых баранов а дальше все пошло как по маслу. Один ответ что за одного, что за двух, что за десяток — Тажи махнул рукой и старался не думать о дне расплаты по «белому векселю».
К весне Сатан пас «отару» всего в пять-шесть овец. Остальные пали жертвами волчьих зубов, воровских рук, хозяйского ножа, байского самоуправства, степного гостеприимства, болезни и голода. А скоро держать ответ перед баем. Придут его люди — давай баранов! А откуда их взять? Платить... Чем? Больше страха мучил стыд. Да и оставшиеся бараны были хромы, худы, чесоточны а баю нужны здоровые, откормленные. В векселе не указано, какой скот. Как же быть? Как избавиться от карающей руки Шалматая? Что сказать в свое оправдание судье, да и стоит ли судиться?
Эти мысли с приходом лета не давали покоя Тажи.
РАСЧЕТ
Настало лето. На высокогорных пастбищах — джайляу — бараны нагуливали вес, люда повеселели. Близилась ежегодная Куяндинская ярмарка. Степняки деятельно готовились к ее открытию, для многих ярмарка была праздником, где, если и нечем торговать, то хоть людей посмотришь, себя покажешь. Но много было и таких хозяйств, где открытия ярмарки ждали с тревогой, со страхом. При одном упоминании о скорой ярмарке Тажи мрачнел, терял спокойствие, и в глазах его светилась тоска ожидания. Как грозное предупреждение снился ему в тяжелых снах «белый вексель». По ночам Сатбала горячо молила аллаха отсрочить проклятый день, оттянуть час неизбежной расплаты.
Но аллах не внял ее мольбам: ярмарка открылась точно в положенное время. Шалматай же появился дней за десять до открытия торжища. Немедля разослал он своих джигитов-сборщиков по окрестным аулам, раздав им на руки белые, невинные на вид листочки. Однажды в полдень ко двору Тажи подскакал один из таких всадников.
Тажи был дома.
— Аманат, гони овец... Хаджи решил опередить других купцов, пока они цену не сбили!..— кричал всадник, не слезая с судорожно поводящей боками лошади.
Тажи отвечал как можно вежливее, — в голосе его звучали заискивающие нотки:
— Пригоним все, что осталось. Но мы крепко виноваты перед хозяином. Не все у нас овцы... Некоторых не хватает...
— Гони, которые есть! А за остальных ответишь перед хозяином! — крикнул сборщик и поскакал дальше, ему надо было спешить, кожаная сумка на его боку была полна векселями.
Гнать остаток стада к баю Тажи не решился. «Будь что будет», — подумал он и остался дома. Прошло несколько дней, и Тажи получил от Шалматая требование явиться немедленно и дать отчет. Он отправился к аульному, но тот заставил его пойти к баю. И вот пронзительные ледяные глазки хозяина впились в растерянного, красного от стыда Тажи:
— Я вижу, ты позволяешь себе не слушаться моих при казаний? — тихо прошипел Шалматай.
— Ой, кормилец, нехорошие мы люди, виноваты...
— Для меня нехорошие?.. А ну-ка давай отчет... где мои бараны?
Тажи готов был провалиться сквозь землю. Он не смел взглянуть в лицо баю, колени его дрожали. С трудом он пробормотал:
— Хозяин, мы не жалели сил на ваших баранов. Не спали, недоедали — ухаживали за ними... Да не судьба, видно... Словом, виноваты мы... То волки, то джут, то хворь. Да что говорить... Руки делали, шее отвечать. Воля ваша... мы на все согласны...
Бай долго молчал. Тажи уж и не чаял вырваться добром отсюда. В отчаянии он сказал:
— Ничего у меня, хозяин, нет, кроме сивой трехлетки.
— Твою трехлетку я и за трех баранов не возьму... А как же быть с приплодом?
— Я продам трехлетку, выплачу.
— А остальное?
— Братишка у меня подрос... Отработает...
С трудом согласился бай на это. Позвали нотариуса, обновили «белый вексель», заставили Тажи расписаться. Решили платить за работу братишке Тажи три рубля в месяц, дать рубаху, штаны, куртку, сапоги. Работать будет чабаном. С этим отпустили Тажи. Вернулся горемыка домой и рассказал семье, чем кончился расчет с хозяином. Мать горько всплакнула, если раньше жалела сына отдать баю Адилхану в подпаски, то теперь уже ему придется глотать пыль в далеком Семиречье.
— Успокойся, мама, бог даст не пропаду, отработаю долг и вернусь, — утешал ее Сатан. Назавтра Сатан простился с матерью. Тажи в последний раз сел на свою трехлетку, Сатан пошел пешком. Оба направились в сторону ярмарки, гоня перед собой оставшихся пять баранов. До вечера они успели обменять трехлетку на пять годовалых валухов. Тажи взвалил на себя седло, и они с братом погнали десяток баранов к стоянке Шалматая.
Шалматай, не в пример вчерашнему, встретил их приветливо и тотчас отправил Сатана к пастухам.
А Тажи с седлом за плечами поплелся домой.
ЧАБАНЫ
Круглый год держится трава на склонах гор Коккия: зимой снег скатывается с крутизны. Овцы здесь жиреют, матки, как правило, приносят не меньше двух ягнят.
А эта зима на Коккия выдалась особенно мягкой. Приближался новый год, а еще не было ни одного бурана. В каждой ложбине, в каждой щели чернели отары овец — байские отары. Чабаны блаженствовали: сытые матки, несмотря на зиму, продолжали приносить ягнят, и пастухи наслаждались уызом — густым жирным овечьим молоком, которое матка дает в первые дни после окота.
Вместе с Сатаном овец пасли еще трое. Все четверо жили в двух юртах, и на тысячу овец у них было два загона. Из четверых двое были чабанами, третий прислуживал им, готовил еду, носил хворост, стирал, смотрел за хозяйством, четвертый — Сатан — караулил овец по ночам. Волков было пропасть. Иногда они, не обращая внимания на крики, на глазах у сторожа врывались в загон. Сатан с кремневым ружьем под мышкой, всю ночь не присаживаясь, бродил вокруг загонов, криками отпугивая волков.
Кругом теснились мрачные серые громады гор. И только Сатан оживлял их. Его звонкий чистый голос, разносящий далеко по ущелью грустные протяжные мелодии, будил хмурые горы. И даже когда он науськивал на волков овчарок, его протяжные крики: «А-а-айт-айай-айт!» — звучали непривычно красиво. Другие чабаны безуспешно пытались подражать Сатану. Голос его, скорбный, полный печали и неведомой боли, был голосом самих гор.
Часто Сатан, стоя на огромном, вылизанном ледником валуне, пел грустные, тоскливые песни, подыгрывая себе на домбре.
Сладок хлеб на Куянде, но труден путь.
На овец и лошадей нельзя взглянуть:
клочья шерсти, да копыта, и мослы,
словно людям, дотемна им спины гнуть.
Сочинял такие песни Сатан сам. Хотя ему еще далеко было до знаменитых певцов Арки, но все чувствовали, что он идет по их следам.
— Эй, аргын, хватить петь, иди сюда! — кричал со стороны коша старый чабан Жамантай.
— Зачем? — спрашивал Сатан.
— Иди! Зовут, значит, надо!
Сатан шел к кошу. Кашевар держал за шею жирного двухгодовалого барана, которого ночью потрепал волк.
— Ыллай омин! — произносит благочестивый кашевар.
— Эй, зачем вы это?
— Как зачем? — Зарежем... Разве тебе не хочется попробовать шурпы?
— Ой, баран-то ведь не сдохнет, у него только шкура задета?!
— Как не сдохнет, сейчас вот копыта откинет, как миленький! — приговаривает Жамантай, играя узким длинным лезвием ножа. — А ты, чем болтать, прочитал бы молитву за упокой его светлой души!
Этим Сатану, как представителю рода Аргын, оказывался почет, и ему ничего не оставалось, как прочитать напутственную бата. И не успел он ее кончить, как кашевар ловким движением опрокинул барана, держа его за ноги, навалился на него. А Жамантай одним взмахом вскрыл шею животного до самых позвонков. Кровь алой тугой струей била из горла барана, он несколько раз судорожно дернулся и затих, только временами по его телу еще пробегала дрожь, но с каждым разом все слабее и слабее.
Видно, на роду ему написана судьба попасть в казан чабанов...
— Дай бог сытую жизнь серому, за то, что не оставляет нас без мяса, — нет-нет да и подарит нам баранчика, — балагурил Жамантай и сноровисто свежевал тушу.
Сатан, окончивши молитву, поднялся и пошел прочь. Вскоре чабаны услышали знакомое:
— А-а-ай, а-ай-а!
Сатан сидел на своем камне, смотрел, как разгорается пламя костра в той стороне, где резали барана, и думал:
«Зря они это сделали. Баран был совсем здоровый, волк его только чуть помял. Баю они скажут, что он не мог пастись, ничего не ел и сдох сам. А кто скажет баю правду? Да и все работники так делают. Ладно, будь что будет! Что ни толкуй, а зимой без мяса не сидели. Да и где взять чабанам мяса, как не из байской отары? Недаром ведь говорят: «От хозяина добра не жди, от батрака — работы...» Все-таки мы сыты...»
Время от времени Сатан громко, протяжно кричал, отпугивая волков и подбадривая своим голосом овчарок. Голос его взмывал вверх из тесного ущелья и звучал так нежно, так сильно и долго, что у слушателей захватывало дух. В этот запев он вкладывал всю свою душу. Ему казалось, что голос поднимает его ввысь, выносит из тесного ущелья и качает над светлыми холмами Арки, над зелеными горами его родины. Немало песен сочинил Сатан о родной Арке, о своем народе. Нежные грустные мелодии подбирал он к этим песням. И уже подхватила его песни широкая казахская степь, уже звучали они на полях, на молодежных игрищах, а чаще всего эти песни пели, когда тяжело на душе н некому излить свою боль. Даже Жамантай выучил и постоянно бубнил под нос слова одной из его песен:
Сатыбалды, ты покинул Сарыарку,
брат Тажи, ты чуешь мою тоску.
Пил я воздух-кумыс, гнал по травам коня,
«белый вексель» все отнял, как жизнь на скаку.
Длинные зимние ночи Сатан коротал, сочиняя песни. Иногда он мечтал: «Пока батрак жив — и для него мир хорош! Вот скоро растает снег, придет весна. Начнется окот, прилетят птицы. Пригреет солнце, поголубеет небо. Пастухи будут делать айран. Исполнится ровно год «белому векселю». Снова зашумит ярмарка в Куянды. Погонят на ярмарку байские отары. С этими отарами Сатан, даст бог, попадет в Сарыарку. Да-а, Сарыарка! Весной там вся степь как бархатный зеленый ковер, расшитый огненно-красными тюльпанами...»
В БАЙСКОМ ДОМЕ
Весна в этом году выдалась ранняя, дружная. Под жарким солнцем закурилась испариной сырая земля. Зазеленели склоны Коккияуских гор. Окот прошел удачно — почти за всеми матками бегали по два, а то и по три ягненка.
В один из таких весенних дней и появился в ауле Шалматая Сатан. Аульчане все еще жили в черных прокопченных зимовьях. Сатан спешился, привязал неопределенной масти и весьма почтенных лет одра к коновязи и направился к одной из землянок, окружавших просторный и высокий байский дом. В нос ему ударил дразнящий запах баранины. Сатан, пригнувшись, вошел внутрь. В двух громадных казанах булькало и кипело ароматное варево. Черный от ветра и дыма человек шуровал палкой в очаге и совал в огонь пучки сухого камыша.
— Хаджи дома?
Слуга и ухом не повел, продолжая заниматься своим делом. Сатан вспылил: «Жрет здесь каждый день до отвала, байский холуй, и совесть прожрал», — он дернул истопника за плечо. Тот повернул к нему угольно-черное лицо с вытаращенными белками глаз, красными от дыма. Весь задор Сатана тотчас испарился.
— Бай... где? — только и смог он выдавить из себя. Слуга опять ничего не ответил и продолжал свое дело.
Внезапно Сатана поразила догадка: «Да он, бедняга, глухонемой!»
Сатан вышел на улицу и присел у порога. За спиной у него слышалось бульканье варева, сопение слуги, треск камыша. Против землянки-кухни высился байский дом под железной крышей. Окна остеклены. Дверь обита цветной жестью, ковровая дорожка на высоком резном крыльце так и тянула зайти туда. Сатан смотрел на это великолепие, и в голове его роились невеселые мысли.
«О судьба, — вздохнул он, — одним ты даешь рай на земле и им же приготовила рай на небе. У кого много добра, тому ничего не стоит съездить на поклонение в Мекку. Они даже строят собственные мечети и держат своих мулл... А что же делать беднякам, всемилостивый аллах, если у них даже молиться нет времени?..
Бедняки работают даже во время уразы — в святой пост: пасут скот, убирают байские дворы, доят кобылиц — и у них ничего нет. А у баев свои ярмарки и стада, за которыми не видно земли, свои каменные дома в городе... А у глухонемого истопника нет даже рубашки, дым хозяйского очага выел ему глаза... Видно, всю жизнь горемыка только и знал, что разводить огонь под байскими котлами... и в могилу его понесут, наверно, из этой вот кухни... Вон как кашляет...
За свою жизнь он и не мечтал, видно, ни о жене, ни о богатстве, ни о друзьях... С полуночи разводит огонь, к полуночи гасит... А может, и не гасит... Всю жизнь поддерживает байский огонь... Раздувая угли, он выдул свои легкие и... душу... Почему так бывает в жизни?
А может, это воля аллаха? Ничего не делается без его ведома... каждый вздох он наш знает...»
Сатан встал, прошелся по аулу и вновь возвратился на прежнее место... Набравшись решимости, палочкой очистил глину со своих огромных сапог и пошел по ковровой дорожке в дом бая. И вот его прокопченный, видавший виды аргынский тымак очутился внутри дома. Сатан попал на женскую половину и, ныряя из двери в дверь, вскоре окончательно заплутал.
Наконец за одной из дверей Сатан обнаружил просторный зал, набитый людьми. Блеск одежд и богатое убранство комнаты так ослепили бедного пастуха, что находящиеся в зале люди показались ему собранием джинов из народной сказки. Здесь только что собирались приступить к еде, когда вошел Сатан. Все глядели на него, а он, оробев, не знал, что сказать.
Сморщенная, высокая старуха сердито прикрикнула:
— Куда прешься в сапожищах?
Хоть сапоги Сатана и нельзя было назвать новыми, но все же это была добротная, крепкая обувь. Эти сапоги лет шесть назад Тажи получил в подарок от тамыра, а в прошлом году починил и отдал Сатану.
Сатан окончательно растерялся. Как он очутился здесь?! «Что делать?! Сказать, что есть дело к баю... так разве сейчас время?.. А может, сюда таким, как Сатан, вообще входить нельзя? И что хотела сказать старуха... Чтобы я снял сапоги? Я, наверно, испачкал им полы... А может, их снять сейчас?.. Но у меня только портянки... а босиком неудобно... И куда я дену сапоги?» — Такие мысли роем носились в голове Сатана. Но он быстро опомнился и ответил старухе: — Байбише, у меня к баю дело.
— Кто ты такой? — прошипела старуха.
— Аргынец.
— Оно и видно, от твоего тымака и сапог за версту несет аргынцем...
— Он же тебе родич, — заметил сидящий на почетном месте жирный пучеглазый мужчина.
— Который из аргынцев? — спросила старуха.
— Каракесек...
— Откуда взялся?
— Из отар в Коккия.
— Скот здоров?
— Здоров, бабушка.
— Много мерлушки нынче?
Сатан мгновенно уловил перемену в тоне старухи и удачно ответил:
— Мало в этом году, бабушка.
— Ну, раз так, вот возьми! — с этими словами старуха положила в деревянную чашку мяса с блюда, протянула ее Сатану и продолжала:
— Выйди. Поешь на кухне. Бай вернется к вечеру. Сатан, как побитый пес, зажав в руках чашку с мясом, волоча ноги в своих огромных сапогах, вышел. Путаясь и натыкаясь на множество дверей, он шел по коридору. Вот он толкнул очередную дверь и вновь застыл пораженный: в комнате сидела красивая черноглазая молодая женщина, одетая в шелковое, расшитое серебром платье.
— Захода, захода! Кого ты ищешь? — приветливо спросила она его.
Сатан ожил, ее приветливость успокоила его, робость исчезла, и он непринужденно ответил:
— Ищу выход и не могу найти!
— Кто ты? — спросила келиншек.
— Я чабан с гор. У меня к баю дело.
— Что у тебя в руках?
— Байбише дала мясо...
— Садись. Ешь свое мясо, — и женщина выкатила на середину комнаты низенький круглый стол. Подала полотенце. Взяла кумган и пригласила Сатана вымыть перед едой руки. Сатан вымыл руки, утерся и принялся за еду. Голодный, здоровый парень в два приема справился со старухиным угощением, вытер рот и руки полотенцем и теперь не знал, что делать.
— Из какого ты рода? — спросила келиншек.
— Я аргынец из Каркаралы.
— Который из аргынцев?
— Каракесек.
— Так мы сородичи?!..
Сатан почувствовал себя совсем вольно. Скованность постепенно исчезла, улыбка чуть тронула его твердые губы:
— Э-э, если я твой родич, то мне теперь не о чем заботиться, — пошутил он.
— Знаешь торе Кусаина?
— А как же. Он глава нашего рода!
— А я дочь сестры Кусаина.
— Да?! А по отцу?..
— По отцу я не знатная. Род наш черный. Мой отец хаджи Мысык...
Это женщина была последней женой бая. Еще совсем недавно она девочкой играла и шутила сверстниками, пела песни, смеялась. Нелегко было ей отвыкнуть от вольной девичьей жизни, превратиться в затворницу, предназначенную только для того, чтобы согревать постель старому мужу. Потому и разговорилась со статным пастухом, который был молод, красив. Келиншек оживленно расспрашивала Сатана. А тот и сам разговорился, обрадованный тем, что в чужом байском доме нашел человека одного сородича. Он охотно рассказывал о жизни земляков, о своих родных и желании увидеться с ними.
— Зачем тебе возвращаться в свой аул? Все равно тебя отдадут в люди, а у нас все-таки лучше, чем в других местах — сыт, обут. Живи здесь! — сказала ему молодая байская жена.
Эти слова немного насторожили Сатана. Какая бы родственница она ни была, а смотрика что говорит, чувствуется байская жилка!
«НЕ ВЕРНЕШЬСЯ»
Только Сатан вышел из дома, как почти к самому крыльцу подскакала загнанная в мыло тройка. Под дугой последний раз малиновым звоном звякнул колокольчик. Бая сопровождали верховые. Шалматай сошел с повозки и, поддерживаемый под руки, скрылся в своем доме. С ним вошли и окружающие его люди. Сатану ничего не оставалось, как ждать появления бая во дворе. Он решил не уходить со двора до тех пор, пока не дождется хозяина. Сатан прождал долго.
Но вот нужда погнала бая на двор. Вместе с баем вышли и три старика с медными кумганами в руках, они собирались совершить омовение.
Не успел бай сойти с крыльца, как возле него оказался Сатан.
— Салаумаликум! — почтительно приветствовал он хозяина.
Бай не ответил на приветствие и недовольно уставился на Сатана.
— Ты, аргынец, что тут делаешь? — бросил он.
— Я с гор...
— Зачем?
— Сделайте милость, отправьте меня с вашим скотом на ярмарку в Куянды, хочу к родным вернуться...
— И за этим ты приплелся сюда, бросив без присмотра скот и замучив лошадь?! — заорал бай.
Сатан промолчал.
— Ты не вернешься!
— Верните, бай-отец...
— Еще не вышел срок!
— Кончился срок, бай-отец! Верните меня.
— Срок векселя не вышел! Знаешь, какая сумма на векселе, который подписал твой брат?
— Брат говорил, что я вернусь этой весной.
— А я тебе говорю, что срок еще не вышел! — Бай взглянул на мальчика, державшего кумган: — Принеси книгу. Спроси у байбише, она даст.
Дожидаясь книги, бай насвистывал, спрягав кулаки в карманы и хмурясь. Принесли книгу. Толстая, пухлая, она была основательно засалена и потрепана.
— Это ты Сатыбалды — сын Болегена? — спросил бай, раскрыв в нужном месте книгу.
— В месяц тебе причитается три теньга, в год тридцать шесть. А на векселе в два раза больше сумма...
— Бай-отец, я должен был уже расплатиться...
Бай удивленно посмотрел на Сатана.
— «Должен», говоришь? Ты, может, думаешь, что я не считаю тех баранов, что вы за зиму у меня съели?
У Сатана захолонуло сердце. Язык его стал заплетаться:
— Бай-отец, если записывать этих баранов, которые все равно бы сдохли, то у нас волос не хватит расплатиться с вами.
Бай вспылил. Он сделал движение, прекращая дальнейший разговор, и, отдавая книгу мальчишке-слуге, только насмешливо заметил Сатану:
— Говорят, что ты режешь всех моих баранов да еще читаешь молитвы за упокой их души! — бай замахнулся на Сатана, но не ударил.
А Сатан стоял, растерянный, оглушенный свалившимся на него несчастьем. О том, что бай нагло обманывает его, у Сатана не было и мысли. Еще бы, ведь бай читал по книге, кроме того, разве они не ели зимою байских овец, правда больных и покусанных волками, но ведь ели... Перед Сатаном внезапно закрылись все пути-выходы, впереди все тот же беспросветный рабский труд на бая. Бессмысленно глядя на хозяина, как оглушенная ударом рыба, он только и смог сказать:
— У брата ведь есть хозяйство... Наверно, он рассчитается с вами на Куянде, бай-аке!
— Не знаю, какое хозяйство есть у твоего брата, если он с прошлой ярмарки унес седло на своем горбу... Или ты думаешь, что он разбогател?! — презрительно добавил бай и хотел было отвернуться и идти по своим делам, как вдруг остановился и посмотрел на Сатана:
— Тебя кто отпустил от стада?
— Я сам... — потупился Сатан, ковыряя носком сапога.
— Новые порядки развели... Гуляй, кто хочет... А ты знаешь, что падеж баранов на вашей шее?! Пусть их волки рвут, пусть теряются в степи, пусть болезнь уносит — меня это не волнует, вы мне за все заплатите, мой скот недолжен погибать! Ясно?
Что было ответить бедному пастуху? Он промолчал. А бай на прощанье только и добавил:
— Возвращайся к отаре! — и пошел по своим делам. Сатану стало холодно, как будто он в середине января провалился в полынью. Он дышал как загнанная лошадь. В таком состоянии он и не заметил, как из дома вышла молодая байская жена.
— Эй, что с тобой? — окликнула его келиншек. Сатан кое-как собрался с мыслями:
— Бай не отпустил, — выдохнул он. На глаза Сатана навернулись непрошеные слезы. Женщина сразу почувствовала, как мучительно ранена его душа, и поспешила утешить его:
— Хочешь, я поговорю с хаджи.
Сатан вздрогнул от радости, от безумной надежды. Срывающимся голосом он начал упрашивать молодую женщину:
— Заступись, родная... Не я, так бог тебе воздаст за это... Поговори с мирзой. Я не совсем ухожу. Я только проведать своих... Мне бы только в Куянды попасть...
— Хорошо. Ты поезжай обратно. Я это как-нибудь улажу, — сказала тронутая горячей мольбой юноши токал — младшая жена бая.
Сатану ничего не оставалось, как довольствоваться этим неопределенным обещанием. В тот же день он вернулся в Урочище Коккия.
БАЙСКИЙ СПОР
В разгар Куяндинской ярмарки Тажи пришел к Шалматаю. Он хотел забрать своего братишку, а заодно и все заработанное им за год. Но бай раскрыл толстую пеструю книгу — в ней оказались записанными и одежда, выданная Сатану, и бараны, которых он с товарищами съел за зиму, и штраф за пропажу и падеж скота и многое другое. Бай подсчитывал все, вплоть до куска старой веревки. После долгого чтения выяснилось, что Тажи должен по «белому векселю» не меньше тридцати рублей. Таких денег у Тажи не бывало и в мечтах, а потому ему ничего не оставалось, как оставить Сатана в рабстве еще на год. «Но рабство рабству рознь»,— подумал Тажи и стал ломать голову, как облегчить судьбу братишки.
Он решил отдать Сатана в услужение какому-нибудь другому баю. Поэтому он направил Сатана к крупному торговцу-ногайцу баю Шаяхмету. Бай приветливо встретил Сатана, спросил, кто он такой.
— Работник Шалматая,— ответил Сатан. Как только Шаяхмет услышал имя своего заклятого врага и конкурента, он тотчас же крикнул:
— Я плачу своим работникам на теньгу больше, чем плешивые казахские баи!
— Узнав, что Сатана возьмет в работники Шаяхмет, в доме Тажи собрался семейный совет. Решали, остаться ли Сатану у Шалматая или идти служить новому хозяину. У ногайца он будет зарабатывать больше. Тогда и от Шалматая можно будет откупиться. Порвут «белый вексель». Не будет долгов. А вообще не идти в работники — нельзя. Тажи и так еле сводит концы с концами. В доме хоть шаром покати. Сатану тем более было обидно видеть такую нищету в доме: он только что вернулся с ярмарки, где груды роскошных, красивых товаров дразнили покупателей кажущейся доступностью. А чтобы и им можно было купить хоть какую безделушку на ярмарке, снова Сатану нужно идта в работники к тем же самым семиреченским баям. Ногаец хоть платить будет больше, а работа такая же. Другие баи норовят вовсе не платить работникам... Одевают в рванье... Вечно голодный будешь... Пошел бы к ногайцу, да далеко уедешь... Голова ли заболит, простуда ли схватит — на чужой стороне — не дома, среди чужих и болеть тяжело, а не дай бог случится что-нибудь... — так мучительно размылял Сатан, не зная, как быть...
И все же, кроме ногайца не к кому было идти. Если уж наниматься в батраки так к баю-ногаицу.
Весть о том, что его джигита переманил Шаяхмет, глубоко ранила гордость степного владыки Шалматая. С давних пор враждовали степные казахские баи с капальскими татарами-торговцами; никогда ни в каком деле они не работали рука об руку, если даже от этого страдали их доходы, но зато когда дело шло о соперничестве о том, чтобы подставить друг другу ножку — тут их талант разворачивался во всю ширь, и они не жалели денег...
— Иди, поговори с братом Сатана, — сказал Шалматай слуге. — Заработок я увеличу. Пусть и не заикается об уходе! Если вислопузый татарин даст ему шесть рублей, я дам семь — скажи ему это. И пусть не крутит. И вексель пересмотрю, а то и совсем порву. Поставлю его главным чабаном. Пусть делает, что хочет,— приказал бай слуге и печально вздохнул. Такая «доброта» Шалматая объяснялась просто. Ни за что на свете он не позволил бы Шаяхмету хвалиться тем, что переманил у него джигита. Байский слуга дословно передал слова хозяина в доме Тажи и сумел обещаниями сладкой жизни, лестью опутать и привести к баю Сатана.
Бай не отказался от своих слов, он подтвердил все, что передал слуга. Тут же пришли к согласию. Сатан получает в месяц семь с половиной таньга, деньги на руки, вексель погашается, работает не простым чабаном, а косшы — старшим.
Тажи тотчас же взял от бая в счет заработка немного денег. На эти гроши он накупил подарков с ярмарки домашним: брату рубашку и шаровары, матери платье, платок из дабы, чай и соль.
Пришло время закрытия ярмарки. Овцы и коровы не счетными стадами перегонялись к зеленым берегам Кызылжар. Семипалатинские, меркенские, чубартауские, капальские, таутекские, зайсанские, эмбенские, кызылжарские купцы караванами и отдельными конными группами с богатой добычей потянулись к родным местам. Каркаралинские и семипалатинские мелкие спекулянты оставались на ярмарке до самого разъезда, и только когда увидели, что остались одни, снялись и как обиженные шакалы, которых львы не подпустили к дележу добычи, скрылись в свои городские норы. Шалматай, вновь раздав по «белым векселям» забракованный на ярмарке скот, вернулся к себе в Семиречье. С ним уехал и Сатан. Теперь он переносил путешествие гораздо легче — путь знаком, работа не трудная, и впереди ждут знакомые люди.
Сатан как будто успокоился. В доме вроде все было благополучно, «Белый вексель» бай отдал Тажи... и еще дал денег.
Тажи торжественно принес вексель домой и со словами: «Вот наша беда, вот наше несчастье. Сгинь!» — сжег его в очаге и пепел размешал палкой.
У ЧУЖОГО ПОРОГА
К осени скот перегнали с высокогорных джайляу Южного Алатау на Сарыагачские поймы. Сено было давно уже убрано, и теперь бараны, коровы и лошади нагуливали вес на подросшей отаве заливных лугов. Ранние посевы уже созрели, и в знойные дни люди пили коже — закисший молочный суп из проса. Но байские стада все еще держались на горных пастбищах, где прохладно и нет комаров. Здесь в низине жарко, душно, и скот пасется плохо. Ягнята от жары, от пыли почти все недомогали. Поэтому и не спешил Шалматай перегонять свои отары. Сам он, однако, откочевал вниз, прихватив с собой на месяц съестных припасов, дойных кобылиц и верховых коней.
Шалматаю необходимо было спуститься на равнину — надо было ездить к друзьям-приятелям в гости, самому принимать гостей, без чего не набьешь окованный железом огромный сундук. Нельзя ему было также оставаться в стороне от торговых дел.
Разбитый между городом и джайляу, на перекрестке караванных путей, аул Шалматая всегда гудел от приезжих. Обычно гости делились на две главные группы. Первые — почетные, свои гости, друзья и товарищи Шалматая: волостные баи, видные аксакалы, а также городские баи и купцы из Кызылжара. Семипалатинска, Алма-Аты, Капал-Арасана — Омар, Нажметдин, Кадырбай, Макарджа, Ербит, Байсенгул, Жума, Мукат; наконец базарные воротилы с Куяндинской ярмарки: хромой Жусип — торговец ичигами, калошами, шапками; Ахмет, в руках которого была почти вся торговля сахаром и табаком; владелец высокого зеленого магазина Абырам; имам Копала Хожаяхмет, сарыагачский мулла Абан.
Все они были прожженные, закаленные в торговых делах проходимцы, которые зубы съели на своем деле и для которых наживать десятку на рубль, сотню на десятку было обычным делом. Все это были почтенные седобородые мошенники.
Орава «почтенных» ела мясо, пила хмельной кумыс, обсуждала свои торговые ярмарочные дела, рассуждала о политике, об эгиде мусульманства, о святой пятнице, о намазе в пост, о хождении в святые места, о шариате и коране. Сам хозяин, полупочтенный святоша, всегда был в центре этого круга гостей.
Вторая группа в ауле святоши-хаджи была менее почтенная, но зато более преданная хозяину: байские сынки, пронырливые образованные молодые люди, вносящие в спекулятивные махинации хозяев дух современной западной коммерции, мелкие степные мирзы, идущие в гору приказчики, юнцы с хорошо подвешенными языками, русские чиновники, учителя-джадиты и их неистовые великовозрастные ученики. В застольях этой группы соперничали кумыс и водка; развлекались картами, анекдотами, изредка домброй и гармонью; обсуждались газетные новости, журнальные проблемы, поднимались общечеловеческие вопросы, волновали их съезды, положение школ и мечетей.
Была еще одна не особенно значительная, но зато наиболее многочисленная группа гостей — женщины и девушки. Это были жены и дочери приглашенных в гости баев.
Длинные вереницы повозок и арб, в которых восседали кичливые байские жены и дочери, тянулись из города и степи в аул Шалматая и обратно. Старухи, молодухи и девушки битком набивались в гостевую юрту, в три, а то и в четыре ряда рассаживались вокруг дастархана и пили нескончаемый чай под бесконечный гомон бабьих сплетен.
Кроме явных, открытых сборищ в ауле бывали и тайные. В большинстве случаев их устраивала молодежь. Особенно отличалась в организации этих игрищ молодая жена бая, дочь хаджи Мысыка. Как только хаджи и муллы на время покидали аул, токал тут же устраивала шумную вечеринку. Приглашались девушки, молодухи, парни-сорвиголовы, соседские отчаянные женщины, певцы, домбристы, шутники (ничего, если даже и беден). И всю ночь напролет ключом било веселье. Но такие вечеринки удавалось устраивать не часто. Много было сторонников, но еще больше врагов. Обманутые мужья, аскетически суровые, благодаря немощи своей, старухи были решительно против таких сборищ.
Сегодня такая вечеринка собиралась в доме Назипы. Хаджи со свитой уехал на джайляу, а хазрет в городе, поэтому молоденькие жены стариков без опаски идут к Назипе. Сегодня на игрищах все оживлены и веселы. Джигиты бойко развлекают красавиц, а те непринужденно и беззаботно хохочут. Звучат песни, льется кумыс и ароматный чай, кому что по вкусу.
Одним из двух джигитов, внесших самовар в юрту Назипы, был Сатан. Сатан, как вернулся с Куяндинской ярмарки, так вот уже месяц торчит в ауле Шалматая. Бай приказал ему ожидать в ауле, когда спустится вниз скот с джайляу «Двух вил». Дождавшись его, Сатан должен гнать скот дальше по долине на зимовку. В ожидании отар Сатан слонялся по аулу, выполнял мелкие поручения — то подоит кобылицу, то ухаживает за гостями, то отвезет в город байских жен и дочерей. Им распоряжалась Назипа.
Назипа была та самая молодая жена хаджи, что весной уговаривала Сатана не возвращаться домой. Она называла Сатана «нагашы» — родственник — и всячески покровительствовала ему. Да, если призадуматься, разве не Назипа была причиной превращения Сатана из подпаска в главного чабана? Кто, как не она выхлопотала у бая для Сатана поездку в Куянды, где так счастливо повернулась судьба юноши? И Сатан не забывал этого. С возвращением в байский аул Сатан тотчас же пришел к Назипе и предложил свои услуги. Скоро он стал поверенным и подручным во всех ее делах. Сатан приоделся и подкормился у щедрого байского стола, как и положено человеку в его роли. Теперь он уже мог без стеснения занять место в кругу гостей на вечеринке своей хозяюшки. Вот этот Сатан и внес гостям самовар.
ЗА ДАСТАРХАНОМ
Был поздний час. Все щели в юрте завешаны, заставлены вещами. В большой восьмикрылой юрте полно гостей. Под куполом подвешена карбидная лампа, которая с сердитым жужжанием заливает все вокруг неестественно ярким светом. В ее свете на стенах переливаются китайские шелка, блестит серебро посуды, раздается серебристый девичий смех... Посредине собравшихся прямо на ковре расстелена серебристо-голубая камчатная скатерть — дастархан. Чего только нет на ней: фрукты и виноград, баурсаки и городские булочки из кондитерской, конфеты в ярких обертках — всего в изобилии. Полог двери откинулся, и два рослых джигита, одним из которых был Сатан, внесли огромный, пышущий жаром, обчеканенный медалями, пузатый и важный тульский самовар. Самовар занял почетное место за дастарханом, презрительно потеснив заморские сласти и незатейливые изделия местных кулинаров.
Жена глухонемого истопника Шалипан стала подвигать многочисленные пиалы к его медно-красной светлости. На ней лежала обязанность разливать гостям чай.
Муж Шалипан, он вместе с Сатаном внес самовар, вышел, а Сатан остался стоять, прислонясь к косяку двери. Он внимательно оглядел собравшихся. На почетном месте прямо перед ним через дастархан навалился грудью на подушки курносый, в наглухо застегнутом сюртуке и черной тюбетейке, с темным лицом и злобными глазками сутулый мирза Мухаметкарим.
Увидев его, Сатан подумал: «Ишь, как навис над дастарханом, словно целится в кого-то». В сторонке сидела молодая женщина и неотрывно смотрела на Мухаметкарима. Сатан видел только ее чистый лоб, черные волосы, краешек уха из-под белой шелковой шали и с горечью сказал себе:
«Хоть и красива ты, а наверно, одна из жен этого горбуна... Эх... судьба, какую красоту губит жаба. Интересно, сколько у этого денежного мешка жен?» Рядом с горбуном развалился Кажен, положив свои обутые в лакированные сапоги ноги на шелковые подушки и гордо выпятив кругленький живот, на котором красовалась длинная золотая цепочка от часов. «Наверно, это и есть плешивый Кажен», — догадался Сатан. Мокрогубый, болтливый, как добрая половина всех плешивых, Кажен был чрезвычайно весел. На голове у него красовалась сетчатая турецкая тюбетейка с кисточкой, сквозь петли красного шелка тем неприятнее серела нездоровая лысина весельчака. «Что он, хвалится, что ли, своим уродством?»— недоумевал Сатан. — А и впрямь ведь большинство мужчин этого аула плешивые. Наверно, это особая примета их рода. И Есиркен, и Алдаберген, и Жумаш, и Кудаш — все они плешивые, но они хоть скрывают свои плеши, а этот словно хвастается ею. Стыда у него нет. А если выпьет водки, то даже тюбетейку скинет. А что это горбун нахмурился и косится на Кажена?.. А... он тоже, наверное, плешивый, и ему неприятно... Ту... у... у... не дай бог... В наших краях плешь — удел бедняков. А у этих сарыагачских баев весь род плешивый, вот это да!.. А что им, хоть голова плешива, да мошна на диво... Все это богатство их нее. Таким плешивым бог самых красивых жен, самых резвых скакунов, самых дойных кобылиц дает. А что толку, что у меня на голове густо, зато в брюхе пусто... На голове целая шапка, а таскаем плешивым их самовары, стоим у порога, ожидая приказаний, и радуемся, если хоть краем глаза увидим их веселье...»
Сатан перевел взгляд на красивого джигита-ногайца. Его умное лицо, тонкие, красивой формы пальцы, унизанные золотыми перстнями, чистые густые волосы, аккуратно причесанные, резко выделяли его из толпы гостей. На нем была белоснежная сорочка с высоким накрахмаленным воротничком, расшитая тюбетейка сдвинута «чуть набок, он курил городскую папиросу. «Вот этот-то и есть учитель, и вправду, красивый джигит», — подумал Сатан. В это время облокотившаяся на груду одеял Назипа крикнула Сатану:
— Эй, аргын, чего торчишь, как столб? Помоги разливать чай, подавай пиалы!
Сатан подсел к самовару и стал передавать Шалипан пустые чашки. Шалипан чуть капала в пиалу густого, как кровь, завара, добавляла верблюжьего молока и доливала кипятком из самовара. Сатан работал весь в поту, чаю наливали на самое донышко, чтобы не обидеть гостей, и ему приходилось туго: одной рукой он непрерывно передавал Шалипан пустые пиалы, другой принимал от нее с чаем и передавал гостям, которые пили как табун жеребцов и кобыл после многодневного безводного перегона.
ВЕЧЕРИНКА
За полночь. Почти во всех юртах аула легли спать. А вечеринка в доме Назипы только начинает разгораться. Из юрты вынесли самовар, посуду, убрали явства и дастархан. Все готово для настоящего веселья. Шаймухаммет, как представитель самого норовистого, задиристого рода хаджи, шутит, задевает то одного, то другого из гостей, раззадоривая их. Хлебнув немного водки, приказчик Шалматая ногаец Габдулла терзает свою трехрядную гармонь. Вот он, запрокинув голову, начинает татарскую песню «Кара орман», ему несогласно, но дружно вторит хор полупьяных глоток.
Казахи надеются на своего балагура и певца Жумалы.
Когда он поет, то хрипит и сопит, как баран под ножом. Голоса у него нет. Лет ему под сорок, к тому же он слегка гундосит. Поэтому он в основном развлекает собравшихся, исполняя песни под стариков, под старух, гнусавя и нарочито подвывая. Хорошие, задушевные песни ему не даются, да он их и не знает. Не отличается он и остроумием. Единственное, что поддерживает его репутацию веселого, компанейского человека, это рискованные песенки, сальные анекдоты, аульные сплетни, которыми он и завоевал популярность у женской половины вечеринок. Как только Жумалы кончил песню «Жена сладка, жена гадка», Шаймухаммет приказал ему петь «Бойкого старика».
Жумалы побренчал еще на домбре, раскрыл гнилой рот и загнусавил «Бойкого старика»:
Хоть я и стар, но сила в жилах есть,
Я золото и серебро — не медь и жесть.
Юнцы, лижите соль, с досады умирая,
Красавиц пышных, с кем я спал, не счесть.
В небе голубка чуть видна.
Эх, и были времена.
Ах, красавицы мои,
До свиданья, до зари...
в этом месте он прищурил глаз, лукаво подмигнул молодкам, и все игриво рассмеялись.
Скоро восемьдесят стукнет ровно мне,
Нет уж сил скакать за милой на коне,
Но еще б состарил деву не одну,
Если б мозг бараний с салом дали мне.
В небе голубка чуть видна,
Эх, и были времена,
Ах, красавицы мои,
До свиданья, до зари...
Всех развеселила песня. Плешивые хаджи так и валились от хохота. А Жумалы продолжал:
После смерти за грехи положен ад,
Свяжет крепко меня стая бесенят,
Но и тогда от счастья прыгать буду,
Коль в один котел с красоткой поместят.
Вот так выдался денек.
Сядет в руку голубок.
Эх, прошли те времена.
Путь до смерти недалек...
Учитель в изумлении наблюдал за Жумалы: «Вот шайтан! Настоящий артист. Вот это и есть народный, кочевой театр казахов — вот в таких юртах, такие вот доморощенные артисты и сохраняют древние традиции степных представителей...» — думал он, наблюдая за сложной мимикой разошедшегося Жумалы.
Эй, мулла, постой, не ной за упокой.
Все отдам тебе до ниточки одной,
С радостью отдам аллаху свою душу,
Если рядом похоронишь с молодой.
Вот так выдался денек,
Сядет в руку голубок.
Эх, прошли те времена.
Путь до смерти недалек...
Все от души смеялись, даже рябая Шалипан шутила, желая выразить свое одобрение:
Ты, старый черт, и умрешь не с именем аллаха на устах, а с именем какой-нибудь красотки.
— Только с твоим, красавица! — под общий смех воскликнул разгоряченный Жумалы.
Назипа сегодня особенно весела. Она улыбается и смеется низким грудным смехом. Даже учитель выкинул из головы общечеловеческие философские проблемы, засунул в задний карман вопросы о культуре, пропаганде и всецело отдался веселью. Иногда он подтягивал Жумалы в трудных местах и хлопал в такт ладонями. К нему присоединились и горбун Шаймухаммет и плешивый Кажен. Назипа раскраснелась от шуток и всем своим видом как бы приглашала гостей веселиться еще больше, побуждая их на все новые выдумки и проказы. Ее глаза то и дело встречались со взглядом молодого учителя. Тот, в свою очередь, делал все, чтобы понравиться ей. Он предлагал Назипе папиросы, угадывал ее малейшие желания, обращался только к ней одной. Они не замечали окружающих. Очевидно, между ними еще ничего не было, но Сатан чувствовал, что после сегодняшней вечеринки все изменится. Поэтому он ревниво следил за обоими, подмечая малейший их жест, взгляды, улыбки. «Эге, рыжий татарин, хочешь из всех бабок на кону выбить золотую... Да, по правде, и бита хороша... А Назипа-то как смотрит на него!.. Не будь здесь людей, сама бы кинулась ему на шею... А ведь какая красавица!.. И чего только не хватает этим байским молодухам?! Десять волостей у ног ее мужа, все его славословят, слава его выше гор Ала-Тау, шире Балхаша, а сама она, как белый лебедь со снежных гор на синем просторе озера. И отчего эта гордая птица складывает крылья и сама подставляет шею под плеть рыжего татарина? Как это может быть?»
Нет. Чист только месяц, безгрешен только бог. Баи такие же люди, как все. Хоть и едят на золоте, спят на пуху, а тот же Шалматай — дряхлый старик. Назипа у него четвертая жена. Она еще девочка, хотя пора уж ей стать женщиной. Чувствует это Назипа и бунтует: какая ей пара развалина Шалматай! Какую радость видит она здесь? Не из бедной семьи взята она, не удивишь ее сытной едой и дорогими одеждами. Разве не сама природа назначила ей в любовники вот такого высокого красивого джигита, как этот ногаец? Конечно. Кто знает, может, вся эта вечеринка и затеяна ради него!
Кто знает... Кто знает... Наверное, это так!..
УЧИТЕЛЬ И МУЛЛА
Появление в ауле учителя Фазыла вызвало множество толков:
— Говорят, приехал учитель. За полгода может научить читать. Говорят, у него талант обучать ребятишек...
— Нет, он учит по-русски. Аллаху не молится. Ученикам об исламе ни слова. Какой же он мусульманский учитель? Это русские так обманывают нас, чтобы дети наши отреклись от веры отцов...
— Нет, помоему, это русский, который понимает толк в мусульманских знаниях. Волосы копной, усы... Не знаешь, кто он и по крови...
— Нет, учитель этот всамделишный. И учит хорошо, Не как другие, сам язык, обычаи наши знает не хуже аксакалов...
— Говорят, хаджи, когда ездил в Мекку, прихватил его из самого Стамбула. А Стамбул — это колыбель мусульманства. Этот учитель научит наших ребятишек всему, что знают в самом Стамбуле. Он по-новому, по-стамбулскому объяснит им нашу веру, и дети наши будут знать больше, нежели сам мулла...
Нет, что вы, учитель этот чернокнижник. Говорят, он может из резинового шарика добыть волшебный огонь и сжечь целый город. Не успеешь моргнуть, как он из посоха делает арбу и уезжает на ней. То-то он так легко вскружил головы бабенкам. Говорят, он околдовал младшую жену самого хаджи. Говорят, они любовники...
Такие и подобные разговоры волновали все население близлежащих аулов. В течение каких-нибудь двух-трех дней личность учителя стала известной во всей округе. Но что бы ни говорили о цели приезда учителя невежественные, непросвещенные люди, причина того, что Шалматай выписал в аул наставника, была иной. Это был не русский шпион и не стамбулский агент, а пропагандист нового джадидского учения учитель Фазыл Жиянгельдин. Родом он был из уезда Болебей. Окончил Стамбулскую духовную школу, слушал курс лекций в медресе святого Мухаммеда в Египте. Несмотря на молодость, успел побывать в Мекке и в Медине, в Сирии и в Кувейте, Кудысе и Стамбуле — везде находил интересное, неустанно учился и был одним из образованных людей того времени. Шалматай во время своего пребывания в Мекке встретил его у святого колодца и нанял в качестве гида. Фазыл заставил порядком-таки полазить по горным кручам, по пыльным дорогам степных богатеев под предлогом показа святых мест. Но баям понравилась его энциклопедическая осведомленность в вопросах истории религии и мусульманских религиозных обычаев. Задумав открыть школу у себя в ауле, они, кстати, прихватили и учителя.
До приезда Фазыла в этих местах не только казахская, но и татарская ребятня не знала, что такое грамота. Зато их заставляли зубрить коран. В ауле хаджи красовалась огромная мечеть, которую поручили почтенному мулле. Звали этого надутого святошу хазрет Асан, он мнил себя наибольшим знатоком мусульманской религии, так как когда-то ему довелось учиться в священной Бухаре. Во все волости только его звали читать отходную и заупокойную молитвы. Он исправно трудился, читая намаз, выполняя и обряды, принимая многочисленные подношения верующих, выкачивая из них новые. По пятницам он произносил в мечети проповеди о бренности бытия, о неизбежности возмездия за грехи, иногда сдабривая их сказками из жизни святых. Остальное время он проводил, шатаясь по гостям, выступая судьей в религиозных и светских спорах. Этот святоша был ярым противником развлечений, игру на домбре и пение считал дьявольским искушением, не мог спокойно видеть веселящуюся от души молодежь, как неистовый евнух следил за нравственностью девушек и женщин... До него сарыагачцы прозябали в полнейшем невежестве и неверии. Хазрет Асан сильно укрепил веру среди паствы своей. Нескольких юношей он отправил учиться в Мекку, и оттуда они возвратились в сане священнослужителей и стали вернейшими его помощниками. До приезда Фазыла ребятишек учил хазрет Асан. К этому времени почти все взрослые баи были его учениками. Он собирал своих учеников в огромной комнате мечети, усаживал их на полу рядами и, прохаживаясь с гибкой хворостиной в руках вдоль рядов, заставлял бесконечно зубрить одни и те же иманшарт, эфтиек, еших, суры корана, шуртссалла, мухтасар.
Теперь, с появлением настоящего учителя, хазрету Асану приходилось поступиться частью доходов. Теперь ему платили только за обучение корану и обычаям шариата. Это пришлось ему крепко не по нутру. Помешать приезду Фазыла он не мог, как ни старался, требования времени оказались сильнее, новые времена и в коммерции требовали образованных людей. В конце концов хозяева ему прямо заявили:
— Занимайтесь молитвами, святой отец, и не лезьте в светские дела.
Вот этот-то святоша и был едва ли не основным источником грязных сплетен о Фазыле. Не проходило пятницы, чтобы мулла в своей проповеди так или иначе не коснулся учителя. Он доходил даже до того, что запрещал пастве своей появляться в местах, где бывает «безбожник-учитель...» «Учитель спятил с ума», «он заговаривается и навыворот толкует коран», «учитель — тайный шпион», «чернокнижник» — все эти сказки были плодом воображения завистливого духовного пастыря сарыаргачцев.
Фазыл хорошо знал, откуда берутся эти басни. Он объяснял это себе, как «борьбу старого учения с новым». Он рассуждал: немало еще осталось таких фанатиков в наш двадцатый век, но мусульмане России потянулись уже к знаниям, к культуре. Нелегкой будет борьба с ними.
Эта борьба двух наставников никак не влияла на народ, а тем более на хаджи. Последние чувствовали себя хозяевами и считали, что каждый учитель полезен по-своему. Пусть грызутся, тем вернее будут служить.
И мулла с учителем грызлись, как кошка с собакой. Много было поводов и еще больше ссор, потому что не для каждой ссоры необходим повод. Учитель был, безусловно, сильнее святоши Асана, и тому пришлось для борьбы с ним объединиться с одним из своих злейших врагов.
СКРОМНОСТЬ ЦАПЛИ
Белая юрта байбише Айен, старшей жены бая, была битком набита гостями. Богатство и роскошь убранства дома бросались в глаза. Стены подпирали добротные сундуки из спиртованной кожи, скрепленные серебряными обручами, на них громоздились широкие валики из красных войлочных ковров, кошмы с красивым вкатанным орнаментом. Шелковые стеганые одеяла и пуховые подушки служили подстилкой и опорой локтям многочисленных гостей. На самом почетном месте — торе — был раскинут огромный персидский ковер, ближе к входу текинские и иомудские ковры, славящиеся своими красками и прекрасной работой.
Всю середину юрты занимала огромная скатерть — дастархан, уставленная емкими деревянными и кожаными чашами.
Попадались и дешевые форфоровые пиалы, все больше французской работы, но здесь, в степи, их ценили гораздо выше, чем самодельные произведения искусных местных мастеров.
Хозяйка юрты, высокая, сухая старуха с темным лицом, взбалтывала серебряной мешалкой кумыс в огромном, из целой шкуры жеребца, кожаном мешке, и сама была похожа на такой же прокопченный, обожженный солнцем бурдюк. Когда байбише, поболтав мешалкой в сабе, наклоняла горло мешка, оттуда пенистой голубоватой струей бил хмельной кумыс, до краев наполняя подставленные чаши. « Изготовленный по всем правилам, чуть кисловатый, пенистый, «сердитый» кумыс быстро развязывал языки, ударял в голову, а совершенно опившихся погружал в сон. Пили его из больших, с голову взрослого человека, чаш и заедали сдобными, испеченными в масле токашами. Многие пили кумыс в невероятных количествах, и чем больше пили, тем более жаждали продолжать, только неестественная краснота и посоловелые глаза выдавали их опьянение.
Но первым среди собравшихся любителей перебродившего кобыльего молока был, несомненно, ногаец Ыхсан. Никогда он еще не ставил на скатерть подаваемые ему полуведерные чаши. Единым духом опорожнив чашу, он передавал ее обратно разливальщице. В отличие от многих этот огромный человек был крайне неразговорчив, возможно, ему просто некогда было разговаривать. Приняв полную чашу, он делал глубокий выдох, благочестиво обращался к всевышнему за помощью: «Поддержи, аллах» и, не глотая, опрокидывал содержимое чаши в широкую, бездонную глотку. Затем довольно отрыгивал и отдавал чашу обратно. Многие специально приезжали полюбоваться, как пьет кумыс мулла Ыхсан.
Такая жизнь превратила муллу в огромный, заплывший жиром бурдюк. Все формы у него округлились: шея и плечи заросли лишним мясом и салом, зад непомерно раздался, руки и ноги укоротились, выделялся только широкий, как дверная щель, рот и безобразно громадный живот, вываливающийся, когда он сидел, прямо на дастархан. Как роженица на последнем месяце, он не носил, а волочил свое мощное чрево. Мулла страдал одышкой и когда говорил, казалось, валух хрипит под ножом.
Рядом с «чемпионом» Ыхсаном сидел обветренный, жилистый хаджи Шалматай, сухую, крепкую фигуру которого не смогли одолеть озера выпитого им кумыса. Он брал чашу за донышко, осторожно подносил к губам и, окуная в серебряную пену усы, медленно цедил сквозь зубы холодноватый кумыс, мри этом ноздри его хищно подергивались от удовольствия. Он пил бесконечно, как долго пасшийся на безводных солончаках верблюд. Но по нему не было заметно, чтобы кумыс отяжелял его; видно, целебный, бодрящий напиток, как в губке, рассасывался в крепко сбитом здоровом теле.
Недаром помимо высохшей от старости байбише Айен у него было еще три жены.
Ближе к двери примостился щупленький рыжий хаджи Есен. Ему кумыс шел не в прок, но он заставлял себя пить, чтобы не отставать от других. Пил он, мучительно сморщившись, маленькими глотками и часто отдыхал, беспомощно помаргивая бесцветными глазками.
Зато хазрет Асан, хотя и был не дороднее Есена, по части поглощения кумыса едва ли уступал самому Ыхсану. Привыкнув за долгие годы, прошедшие с его ученического воздержания в Бухаре, к сытной еде и обильным возлияниям, он так натренировал свой желудок, что мог соперничать с прославленными степными едоками. Остальные гости: криворотый волостной, косой, рыжеватый бий, чернобородый, заросший шерстью старик и прочие — все были прихлебателями щедрого дастархана Шалматая, вернейшими его слугами, руками которых он насаждал свою власть в шести волостях.
Беседа пенилась не хуже кумыса и, когда добрались до корана и шариата, стала сильно напоминать ссору. Лица раскраснелись, глаза выкатились, у некоторых в уголках губ собралась пена, то ли кумысная, то ли от усердия.
— Можно ли употреблять в пищу ворону? — так начал развивать «религиозную» тему Есенбай.
С вороной общими усилиями справились довольно быстро, затем перешли к другим птицам и зверям и для всех устанавливали — годны ли они в пишу мусульманина. Своей кульминации спор достиг, когда решался вопрос, почему пеликана, который питается рыбой, можно употреблять в пищу, а цаплю, которая ест лягушек, нельзя.
Хазрет Асан яростно доказывал, что цаплю есть можно. Он даже привел выражение из свода правил шариата «мукбасар» о том, что «всех птиц с прямыми клювами дозволено употреблять в пищу».
Молчавший до сих пор мулла Ыхсан не вытерпел, громко рыгнул после очередной чаши кумыса и утробным голосом изрек:
— Цаплю есть — великий грех, у нее, как у женщины, бывают месячные.
Это прозвучало как отходная молитва утверждениям хазрета Асана. Асан дернулся, хотел что-то возразить, но промолчал, он побаивался муллы Ыхсана, который, войдя в раж, мог и ударить своего достопочтенного коллегу хотя бы вон той чашкой... А в ней без малого полпуда...
Все притихли и, казалось, ждали взрыва со стороны Асана, а тот сидел красный от досады и молчал.
Жару подбавил и Шалматай:
— Лейте, гости, кумыс сегодня сердитый, задиристый, — лукаво подмигнул он окружающим.
Но и это вынес Асан, потому как было нечто такое, что связывало его с муллой Ыхсаном в один узел.
По дороге в аул Шалматая они ехали в одной повозке, и Асан подробно рассказал Ыхсану об учителе Фазыле, о том, что учитель насаждает новые порядки, проповедует новое толкование основ мусульманства, о том, что он жаждет власти и о том, что он подкапывается под авторитет мулл в степи.
Сословная общность победила старую конкуренцию и, как два соперника-вора стараются выгородить друг друга перед честными людьми, так и эти два злейших врага объединились для борьбы с третьим, более опасным врагом.
Вот почему гости Шалматая так и не дождались в тот вечер ссоры двух мулл.
КУСИ ЕГО! КУСИ!
Пока хаджи рассылал посыльных за нужными людьми, в юрту пришел Фазыл. Ему уступили место неподалеку от торя, где сидели самые почетные гости. С приходом учителя разговор смешался и затих, лишь изредка обычные при угощении кумысом слова, вроде «берите», «кумыс-то сладкий», «давайте вашу чашу», «слава аллаху» нарушали неловкое молчание.
Молчание тяготило всех. И наконец грубый, нетерпеливый Даукен ляпнул:
— Недавно на поминках одной старухи чуть до драки не дошло.
Его маневр удался. Все обрадовались предлогу прервать затянувшуюся паузу и накинулись с расспросами на Даукена.
— Э, в чем дело?
— Все вышло из-за Мукажана.
— Как? Почему?
Даукен помолчал. Как опытный рассказчик он не спешил переходить от интриги к развязке. Неторопливыми глотками опорожнил чашу, обвел слушателей взглядом и, только удостоверившись, что терпение их вот-вот лопнет, приступил к рассказу:
— Читали мы заупокойную старухе. В это время подъезжают Кайролда с родичами и, не слезая с коней, ждут за воротами. Жусипкелды крикнул им: «Спешивайтесь, заходите!», но Кайролда ответил ему: «Мы еще не совершили омовения». После молитвы мулла Бекбосын стал было ругать Кайролду за неправильное толкование законов шариата, но тут выскочил Мукажан и задал ему вопрос:
— Таксыр, а если, к примеру, Кайролда приехал прямо от жены, которая еще нежится в постели, тогда как? Имеет он право без омовения читать заупокойную? Мулла Бекбосын сказал «да». Тут вскочил мулла Торгай и кричит: «Нет!». И пошло!
— Ну и кто же был прав? — с двух сторон подбадривали рассказчика. Даукен продолжал:
— Схватились двое мулл. Оба так и сыпали целыми кусками из корана, шпарили наизусть из шариата. Мы, темные люди, сидим, открыв рот, слушаем их арабскую речь и не знаем, где вставить слово, а они уже покраснели от ярости, надулись, как перепела перед дракой, и хрипят, как бараны под ножом. Но и хрипят на арабском, а мы сидим обалделые и только глазами ворочаем... темнота наша...
— А что скажут по этому поводу наши уважаемые исламисты? — проговорил бий Куркенбай. Сарыагачский хазрет Асан, не привыкший долго раздумывать над толкованием шариата, поспешил ответить:
— Человек, едущий оплакивать ближнего, должен быть чище слезы. Без омовения он не смеет преступить по рог дома скорби.
Ему резко возразил неистовый мулла Ыхсан, он не терпел, чтобы его опережали:
— Таямам необходим. При случае он заменяет и омовение и тахарат.
У хазрета Асана были веские причины, чтобы не отвечать на этот выпад собрата по профессии, но тон был слишком резок и груб, хазрет не выдержал:
— Это неверно.
Ыхсан рассвирепел:
— Ну-ка, отвечай, если ты такой знаток! Что такое вообще гусыл.
— Парызгайын.
Слушатели замерли. Начиналось самое интересное. Даукен, всем своим видом как бы говоря: «Я сделал свое дело, теперь повеселимся»,— откинулся на подушки. Ыхсан не отступал:
— После чего употребляется гусыл?
Асан не растерялся и, вынув из-за пазухи свод правил религиозных обрядов «иманшарт», тут же зачитал оторопевшему сопернику:
— Гусыл употребляется в четырех случаях: первый... второй... третий...
Учитель не выдержал и фыркнул от смеха. Его выходка показалась неуместной не только озверевшим соперникам, но и всем собравшимся.
Все с укором глядели на Фазыла. Этим воспользовался неугомонный Даукен, решивший перекинуть пламя спора в другую сторону.
— Кого же поддержит наш высокоученый учитель? — вкрадчиво спросил он.
— Я не поддерживаю никого, о аллах, я могу только смеяться над подобной глупостью, — ответил Фазыл.
— Почему вы так говорите? — не унимался Даукен.
— Отчего не посмеяться над слепым буквоедством, — принял вызов учитель.
Ыксан из Абдара не вытерпел:
— У вас, джадитов, и коран — буквоедство! — прохрипел он.
Учитель бесстрашно вступил в бой С новым противником:
— Эфенди, я не хулю священную книгу мусульман, я только смеюсь над невежественными тупыми толкователями, перевирающими по своей темноте ее божественный смысл. Разве не буквоедство, например, то, о чем здесь спорит этот старик? Какая польза от его рассуждений? Смысл корана не в этом, а в заветах пророка.
— Коран — слово аллаха! — вставил хазрет Асан.
— Да, слово аллаха, но до нас его донесли уста пророка Мухаммета. В коране кроме религиозных правил есть и светские вопросы. Вопросы культуры, науки. Торговые, военные дела. И большинство ожиревших мулл совершенно не касаются в своих проповедях этих сторон. Фанатики ислама обратили толкование корана в софистику и набивают с его помощью свои бездонные желудки.
— Эльгуламма уарасатуланбия, толкователи пророка! Этот выскочка смеет бесчестить всех высокоученых слуг аллаха!— вскочил, наливаясь кровью, Асан.
Сидящий на торе Ыхсан молча подбирался для решительного броска, глаза его сузились, из уголка обросшего волосами рта бежала светлая слюна, как у пса, завидевшего кошку. Люди, знающие нрав муллы Ыхсана, не сводили с него глаз. Учитель меж тем отвечал Асану:
— Я не имею в виду высокоученых слуг аллаха, нет, я говорю только о безграмотных ишаках с кораном вместо седла, которых, к сожалению, здесь развелось непростительно много...
Слушатели встретили едкий ответ взрывом хохота. Втайне они были довольны, что гордецы муллы, кичащиеся знанием арабского языка, получили щелчок. Ыхсану от злобы стало тесно в собственной шкуре. Асан, чувствуя, что проиграл в словесном поединке, решил поправить дело скандалом:
— Вы не верите в существование аллаха,— бросил он пробный камень.
— Мы не об этом сейчас спорим,— уклонился Фазыл.
— Такие «ученые» говорят, что под землей даже быка нет, — пришел на помощь Асану неугомонный Даукен.
Учитель обернулся к нему.
—Под землей не то что быка, теленка не сыщешь, старик!
— Уважааемый, кто же тогда держит землю?— хитро улыбнулся Даукен.
— Никто ее не держит. Она свободно вращается в мировом пространстве, как все планеты.
Даукен не понял ответа учителя, но отступать было не в его правилах:
— Ну, а кто же движет солнцем?
— Солнце не движется. Движется земля.
—А луна?
— И луна тоже. Потухшая планета.
— Уважааемый, а кто же это проверил?
— Это установила наука. Имя ей — астрономия. Известно было это ей давно. Об этом говорят древние книги.
— Эти ученые мусульмане или неверные? — рявкнул наконец Ыхсан.
— Конечно, разве из мусульман могли быть подобные ученые? Мусульмане, кроме быка, ничего не видят,— зло усмехнулся вконец разозленный Фазыл. Эта его усмешка острым ножом резанула по сердцу собравшихся. Многое могли простить эти в душе не слишком богомольные люди смелому учителю, но только не издевательство над мусульманами и возвеличивание кафиров — неверных. С этой минуты настроение собрания бесповоротно решилось не в пользу молодого джадита.
Мулла Ыхсан, как боевой конь, почуявший шпоры, рванулся в битву:
— Бык есть! — заорал он.
— Конечно есть! — поддержал его Даукен. — Куда ему деваться?
Какой казах его видал? — снова усмехнулся учитель.
— В мироздании аллаха семь сводов небес, сверху семь порядков рая. У земли семь слоев, снизу семь кругов тамука (ада) — и этого ни один кафир не изменит! — Ыхсан в нетерпении ерзал ногами по полу.
Где же тогда, таксыр, стоит бык? На семи кругах ада или еще ниже? — спросил недоумевая Даукен.
Ыхсан, недовольный тем, что его прервали, нехотя пояснил:
— По корану в земле семь слоев. Под землей пар, под паром вода, в воде рыба, на голове у нее стоит бык и держит на рогах Землю...
Даукен ошеломленно схватился за ворот, затем поднял на вытянутых пальцах пиалу и растерянно обратился к сидящим вокруг:
— О создатель, да будет моя жизнь жертвой твоей славе. Как хитро все устроено, бык держит на рогах землю, как я вот эту пиалу для кумыса!
— Таксыр, отчего бывают землетрясения? — спросил кто-то.
— Когда бык трясет головой, тогда и бывает зелзел, — ответил Ыхсан.
— Вот пример невежественного буквоедства! — снова вызвал огонь на себя бесстрашный учитель.
— Азгын джадит! — рявкнул Ыхсан. Теперь уж он не мог остановиться, и из него вместе с потоком бешеной слюны хлынули брань и сквернословие:
— Азгын! Безбожник!.. Все вы — дажалы, явившиеся на этот свет топтать веру ислама. Колдуны, знахари, могилы ваших отцов вдоль и поперек... Мы, ревнители ислама, объявили вам газават!
— Вы безграмотны!— спокойно ответил Фазыл.
— Что?! Что ты сказал, сатана? Повтори, род твой хотел я...— и Ыхсан начал грозно подниматься с места. Но Фазыла этим не проймешь, хладнокровно глядя в бесцветные от бешенства глазки муллы, он раздельно произнес:
— Вы — навьюченные кораном ишаки!
В лицо учителя шмякнула разрисованная деревянная чаша. Фазыл хотел вскочить, но на него навалился всей тушей Ыхсан. В доме все загудело. Шалматай и еще несколько человек еле оттащили от учителя дорвавшегося наконец до врага Ыхсана и умоляли его успокоиться. Ыхсан, не помня себя, рвался к джадиту. Даукен с друзьями увели из дома учителя, которому все лицо залила кровь.
После этого собрание быстро растаяло. Хаджи, очень расстроенные, свалили всю вину на учителя. Даукен шел домой и хвастался:
— Самое ученое собрание за эти годы... А как ловко я науськивал их друг на друга! Куси его! Куси!— и смеясь добавлял:
— Ногайцы дерутся — казаху легче! Что мы от этого теряем?..
В СЕМЬЕ
Даукен сызмальства отбился от своего рода Керей пристал к богатому и сильному роду хаджи. С того времени, подобно цепному псу, он ревниво охранял хозяйский порог. И не было у хаджи вернее и преданнее слуги за все эти годы. Да и не прост был Даукен: умел войти в доверие, оплести, охмурить, обвести вокруг пальца. И все для хозяйской выгоды. Ну и хозяин ценил его за это, доверял ему порой самые тонкие, щекотливые дела. Он и домашнюю работу делал, был и нянькой детям, и в мечети помогал, незаменимым стал человеком. Среди осторожных, себе на уме стариков он — изворотливей хитреца, умнее мудреца. Среди кумушек-сплетниц он — сама болтливость. До седых волос дожил при доме хаджи и кем только не был за эти годы! И конюшим и жидаши (сборщиком податей). Присматривал за хозяйскими пастухами и как азан мечети собирал пидию, жертвенную подать с родственников умершего.
И наконец-то на склоне лет он был принят почти как равный среди хаджи и дослужился до высокой милости — его стали почтительно звать по имени — Даукен. Теперь он неотступно ходил вместе с хаджи на сборища, принимал в ауле гостей, расспрашивал их как доверенное лицо, кормил и обеспечивал ночлегом. С хаджи и хазретом он хлебал кумыс и пожирал мясо, с мирзами и байбатшами пил водку, резался в карты, уважаемым байбише гадал на бобах, а келин игриво щупал со старческой немощной похотливостью.
С каждым он находил общий язык. Любого собеседника выворачивал наизнанку, как сальные кишки молодого барашка.
Среди жен хозяина он разжигал ссоры и скандалы и узнавал многие их тайны. С байбише он хулил Назипу. С Назипой ругал байбише. Обиженному он жаловался на несправедливость хозяина. Хозяину доносил на жалобщиков. Вот этого-то Даукена и выбрала байбише Айен для слежки за Назипой, поручила ему бывать на всех ночных игрищах в доме молодой жены и обо всем доносить ей.
Но такой орешек, как младшая жена Шалматая, оказался не по зубам старшей его жене. Гордая и своенравная Назипа ни перед кем не привыкла склонять головы. Ее не тревожило, что говорят о ней — юной жене хаджи, у которой немало врагов и недоброжелателей в новом доме. Когда немногочисленные друзья пытались остеречь ее, она решительно прерывала всякие разговоры...
— Я ваш порог переступила не для того, чтобы быть рабой. Не нравится это хаджи — пусть отвезет меня родителям!— говорила она.
С первого дня пребывания в доме хаджи она ясно дала понять Айен, что не желает ни угождать ей, ни держаться за ее подол.
Назипа была из аула не менее богатого и сильного, чем аул ее мужа. Отец Назипы хаджи Мысык был пожалуй влиятельнее самого Шалматая. Назипа «выпила до капли молоко матери», то есть была единственным ребенком в семье, и с детства ее окружали ласка, нега, потворство любым капризам. Потому так смело и гнала она своего иноходца по краю обрыва. Шалматай взял ее к себе в четвертые жены из-за тщеславия. «Хаджи взял в жены дочь Мысыка», — ради этих слов он пожертвовал огромное количество скота. Бараны, верблюды, кони и деньги сделали свое дело — опутали, взнуздали для бессильного сластолюбца молодую, полную сил игривую кобылицу. Но была и другая, более важная сторона этого противоестественного союза. Роды Шалматая и Мысыка издавна соперничали друг с другом, уменьшая доходы, отбивая паству и вредя где только можно. Чтобы прекратить эти распри и объединить силы двух родов, и породнился Шалматай с Мысыком.
Назипа хорошо понимала свое положение. Ни разу не радовалось ее жарким объятиям тело властолюбивого старца, никому не удалось «удержать ее стремя», укротить ее Вскоре она завоевала славу непокорной гордячки, которой ничего не стоит презреть обычаи этого дома, где женщины подчинялись шариату, жили богомольными затворницами.
Это отнюдь не сократило числа ее недругов. И самым значительным среди них стала байбише Айен. По праву старшей жены она чувствовала себя полновластной хозяйкой аула Шалматая. К тому же она была матерью взрослых сыновей. «Я хребет семьи хаджи», — любила говаривать она. Своеволие четвертой жены пришлось ей не по вкусу. Она хотела подчинить, поработить, сломить ее, как это сделала с остальными женами Шалматая. За многие годы хозяйствования в ауле мужа она, благодаря своей властной натуре и недюжинному уму, привыкла разрешать не только чисто семейные неурядицы, но и участвовать в деловых операциях. Сам Шалматай очень доверял ее сметке, хитрости и зачастую поручал ей переговорить с тем или иным нужным человеком, когда бывал занят или боялся попасть впросак. В ауле все обращались с ней крайне почтительно и страшились впасть в немилость. Одна лишь Назипа резко выделялась среди окружающей Айен атмосферы подобострастия. В первый же день своего приезда Назипа на глазах у всех сделала вид, что не расслышала поручения Айен, и спокойно прошла мимо нее, даже не оказав положенных обычаем знаков уважения старшей. После этого не было у Назипы врага коварней, злобнее и хитрее, чем байбише Айен. Айен понимала что, накричи она на Назипу, ничего путного из этого не выйдет, а сама она потеряет в глазах окружающих значительную долю своего могущества. Байбише решила действовать втихомолку. И Назипу стала опутывать паутиной сплетен, наговоров, клеветы. Каждый шаг келин был известен байбише, каждое ее слово, любой поступок не составляли для старухи тайну.
О ночных игрищах в доме Назипы Айен было известно все до мелочей благодаря Даукену, вместе с которым они готовили необузданной келин большую неприятность.
Зная, что Назипа увлечена учителем Фазылом, они решили сыграть на этом, тем более, что Фазыл на последнем собрании восстановил против себя решительно всех влиятельных лиц округи.
Наконец-то им представился случай отомстить Назипе. Теперь надо торопиться, не дать остыть следу, тоненькую струйку дыма превратить в черные клубы пожарища.
НЕ ВИДЕЛИ КОРОВУ?
Игры в доме Назипы были в самом разгаре. Молодежь, набившаяся в юрту, играла в «тым». Все сидели с серьезными лицами, подергивающимися от желания рассмеяться, и слушали шутки и забавные истории рассказчика. Первому, кто, не выдержав, засмеется, положен штраф — его заставляют петь, играть на домбре и рассказывать еще более веселую историю. Затем разостлали на полу легкую ткань, джигиты и девушки сунули под покрывало руки и сыграли в «неуловимую тюбетейку». Была и еще игра, суть которой заключалась в том, что джигит или девушка бросали в круг платок, вызывали того, кто им нравился, и целовались.
Игра сменялась игрой, и время летело незаметно. Во время одной из игр Назипа, ведя за руку Фазыла, обходила играющих, вдруг она остановилась против Сатана и, лукаво глядя на оробевшего парня, сказала:
— Я чувствую, тебе не чужд дар слагать песни, родственничек?
Сатан не знал, что ему делать. Но Назипа уже протягивала ему домбру со словами:
— Если ты джигит из Арки, сын рода Аргын, то ты не отступишься!
Что оставалось делать пастуху? Он взял домбру, а почувствовав ее в руках, позабыл о своей робости. Едва его пальцы несколько раз прошлись по струнам, как раздался удивленный возглас Жумалы:
— Эге, да у него не пальцы, а призовые иноходцы!
— Неплохо будет, если они обгонят твои,— ответила Назипа.
Жумалы усмехнулся, а Сатан, настроив домбру на свой лад, уже начал сильным и чистым юношеским голосом свой вызов знаменитой песне Арки «Ардак»:
Эй, Ардак, ты заяц, бегущий с горы,
я же ястреб, медлящий до поры,
проносящий стремительно над тобой
свои когти, которые, ох, как остры.
Высокий, прозрачный, волнующий голос юного певца был нежданной наградой собравшимся. Они восхищенно переглядывались, а Сатан продолжал:
Эй, Ардак, ну и робкий же заяц ты,
никакие тебя не спасут кусты.
Догоню тебя нехотя,
трижды выспавшись всласть,
до последней твоей роковой черты.
Домбра легко вела стремительный аккомпанемент, то подражая крику насмерть перепуганного зайца, то вторя клекоту ястреба. Сатан пел:
Эй, Ардак, смерть летит над твоей головой,
ты от страха не чуешь ног под собой.
Может быть, я тебя пожалел бы немного,
если б смело вступил ты со мною в бой.
Сатан пропел последний куплет на глубоких прочувствованных нотах, голос его стал так бархатист и нежен, что у слушателей захватило дыхание и они, побежденные талантом певца, молчали как зачарованные. А Сатан пел песни Биржана, Мади, Жарлыгапберли и свои — пел от всего сердца, позабыв об окружающих. Назипа уже после его первой песни поняла, что нечаянно открыла большое Дарование.
— Ну, как мой родственничек? — не утерпела и похвасталась она.
— Хорошо... взбудоражил душу, — послышалось ото всюду.
Кто-то обратился к Жумалы:
— И ты, негодный, смел развлекать нас своим писком, в присутствии такого певца?
— Э-э, это же он от нечего делать. «Когда нет собаки, и свинья лает», — «защитил» Жумалы Кажен.
— Вот это настоящий артист, — громко заговорил Фазыл, мешая русские и татарские слова. И продолжал по-татарски: — Я очень доволен. Удивительный голос, необыкновенный талант,— Потом обратился к Назипе:
— Большое спасибо вам. Огромное спасибо. Я чрезвычайно рад. Моя душа, захваченная этим голосом, обрела крылья, пересекла бескрайнюю казахскую пустыню и очутилась на берегу благословенного Едиля. Чудодейственный бальзам проник в мою душу. О, если б вашим казахам иметь свой, по европейскому образцу созданный театр...
Ну, этого мы не скоро дождемся... — заметила Назипа.
— Дождетесь, уверяю вас, дорогая ханум, непременно дождетесь. До недавнего времени и у татар не было своего театра... А сейчас, можно сказать, мы стоим у порога мировой сцены. Нужно только всколыхнуть передовых людей в степи, промышленников, торговцев, всех, кому необходима цивилизация... С одними тупоумными баями и фанатиками муллами, и верно, много не сделаешь...— с жаром уверял учитель.
После пения Сатана никто больше не рисковал хвастать своим искусством, и гости мало-помалу стали расходиться.
Назипа проводила гостей и, вернувшись, предложила учителю ночевать в ее доме. Притихшая юрта готовилась ко сну: Сатан закрывал тундук, рябая Шалипан стелила постели. Выйдя наружу, Сатан приметил в лунном свете тень, которая выросла прямо из травы неподалеку от юрты.
— Кто это? — вздрогнул Сатан.
— Я...
— Даукен?
— Да, у нас отвязалась корова. Вот я и ищу ее. Не видел коровы?..
— Нет, — отвечал Сатан.
— И куда только делась эта убоина?
— А где вы ее привязывали?
Да у моей юрты, уж не вор ли свел?..
— Э-э, сохрани бог от лихих рук, гуляет, наверно...
— Я думал, ее сюда, к конскому корму, потянуло... А что, игры у вас уже кончились?
— Да...
— А этот учитель-поганец куда делся?
— Остался.
— А-а, — протянул Даукен и, словно спохватившись, заспешил: — Ох, дела, и куда только запропастилась, волчья сыть? Пойду искать...
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Читатель помнит, что в день игрищ у Назипы муж ее хаджи Шалматай находился в городе по делам. Город был недалеко от аула, и Шалматай частенько наведывался туда. Дел у него было порядочно, и обычно он задерживался там на два-три дня. Нужно было самому приглядеть за работой лавок, назначить цены, бороться с конкурентами, нагружать и отправлять караваны. Важно было лично подобрать торговых агентов и разослать их затем по степи. Вот и сейчас хаджи уже третьи сутки проводил в городе.
Он остановился на квартире у байбатши Абдуллы. В один из вечеров Шалматай пошел в гости, там собрались несколько приятелей хозяев, старших приказчиков, мирз. Играли в карты. Пили водку. Хитрюга Шалматай везде умел подластиться: с набожными муллами он пил кумыс, с разгульными мирзами — водку. Разговор где-то в середине неожиданно свернул на личность учителя Фазыла. Одни его хвалили, другие хаяли. Загорелся спор.
Шалматай до красноты в лице яростно защищал Фазыла. Среди собравшихся у Шалматая был только один доверенный человек — крупный спекулянт Сыдык. И когда они вышли из дома, Сыдык на правах друга приоткрыл Шалматаю совершенно неожиданную сторону спора:
— Хаджи, друг говорит горько, враг — сладко. Выслушай меня, — говорил Сыдык, шагая по темным улочкам. — Ты же знаешь, я почти не выезжаю из города. Я дружу и с казахами и с ногайцами. Нет человека, нужного мне, чтобы я побрезговал пожать ему руку. А сейчас у меня краснеют уши, когда приходится слышать их разговоры...
— О чем ты? — угрюмо пробормотал Шалматай.
— Нет, лучше не спрашивай, пропади оно пропадом.
— Да говори же...— хаджи начал сердиться.
— Не стоит, это касается тебя...
— Говори, ну...— Шалматай остановился.
— Ходит в городе одна сплетня.
— Какая сплетня?
— Болтают об учителе Фазыле. Приезжал давеча один человек, гостивший у тебя в ауле, так он слыхал, что учитель ночует у твоей младшей жены. И сейчас весь город толкует о том, что Фазыл только и ждет случая, чтобы убежать с Назипой. И когда ты в гостях защищал Фазыла, все смеялись над тобой, а мое сердце кровью обливалось. Вот какие дела, хаджи! — тяжело вздохнул Сыдык и прямо взглянул в глаза Шалматаю.
Даже в темноте было заметно, как почернел Шалматай. Молча повернулся и пошел в ночь. И несмотря на позднее время, не сказав никому ни слова, сам оседлал коня, поскакал бешеным наметом в кромешной тьме и под утро был уже в своем ауле.
В душе у него была неразбериха. И в мыслях не держал, что так обернется данная им Назипе относительная свобода, что огонь бесчестья вспыхнет в его очаге и позор опалит его седые волосы. Теперь он знал, что сплетня гуляет по широкой степи и ее не остановить окриком, как вырвавшуюся из загона дикую кобылицу, ее можно остановить только выстрелом. И он должен сделать этот выстрел. Его обливали грязью на всех базарах, а он даже не подозревал этого. «А если неправда? — обжигала его порой мысль. — Все равно, она уже успела стать правдой». Шалматая беспокоила не сама измена Назипы, за два года он не раз подозревал ее в этом, раздражала огласка, которая могла повредить его торговым делам. Кто захочет иметь дела с мужчиной, не сумевшим постоять за свою честь, многие сочтут это за слабость, и дела пошатнутся. Нет, недаром, когда он только привез молодую жену в дом, старая верная байбише сказала ему: «Ты привел не токал, а колючую ежиху, смотри, как бы она не унесла твоей чести на своих иголках». И позднее, вспоминал он теперь, она не раз предостерегала его, но легкомыслие младшей жены не выходило тогда за стены байских юрт.
«Ну, погоди же, — скрипел зубами плешивый рогоносец, — поплатишься нынче, распутная бабенка. Змею, ядовитую змею пригрел на своей груди. Пастухи смеются над моими сединами... Но и тебе не уйти... Да и твоему проклятому ногайцу. Он наступил мне на голову, нет худшего позора в степи. О-о... лучше бы мне лежать в могиле, мертвым не плюют в лицо».
В большой юрте уже встали, а может, и вообще не ложились спать. Десятилинейная керосиновая лампа чадила в углу. Байбише Айен, как умирающая лошадь, сгорбившись и уставясь в угол стеклянным взглядом, молча ждала. И дождалась. Снаружи у юрты послышался шорох, и кто-то осторожно приоткрыл дверь.
— Это ты, Даукен? — встрепенулась старуха.
— Да, а вы и не ложились, видно.
— Какой уж сон теперь, что, кончились сатанинские игры?
— Разошлись нечистые, но главный дьявол остался у дорогой нашей келин, — хихикнул соглядатай.
Даукен ощупью нашел стоящий у стены тыквенный сосуд с насыбаем и продолжал:
— Теперь-то уж не отвертится голубушка, своими глазами видел, вот этими ушами слышал... уж и не таятся ни от кого...
— Позору-то теперь не оберешься, прославят нас по всему краю. О аллах, зачем только позволил дожить до токого бесчестия?.. — запричитала, раскачиваясь в отчаянии, байбише.
Да еще там болтается этот паршивый аргынец в облезлом тымаке. Язык у него длиннее ног...
— Кто это еще?
— Да тот самый, которого в прошлом году хозяин с Куяндинской ярмарки привез. Примазался подлюга к вертихвостке, она уже его «родственничком» величает, тоже ведь аргынская кость по матери.
— Ну, я покажу ей родственничка! Пусть только хозяин приедет.
Даукен согласно поддакнул:
— Появись он сейчас, сразу бы на пир его можно свести...
В это время за войлочными стенами явственно послышался дробный перестук копыт. И через минуту грозный Шалматай уже переступил порог большой юрты.
— Здоровы ли?— приветствовал он.
— Мы-то все здоровы, окромя меньшего дома!— отвечала байбише.
— А что с ним?
— Враги напали...
— А вы здесь для чего?
— А разве нас за людей считают? Твоя же любимая токал ниже собак нас ставит! Так что уж извини, а оборонить этот дом — где уж собакам!..
— Хватит болтать, дело говори!— вскипел Шалматай.
— А дела-то всего ничего, спит твоя ненаглядная в обнимку с твоим обожаемым ногайцем...
Кровь отхлынула от лица Шалматая, и он по-молодому упруго прыгнул за порог.
Сатан безмятежно спал в кухонной юрте Назипы. Проснулся он оттого, что кто-то тряс его за плечо. В соседней жилой юрте слышались отборная ругань, треск мебели, шум борьбы.
— Вставай, проклятье твоим духам, да вставай же.
— Это ты, Шалипан... Что стряслось?
— Горе нам. Хаджи вернулся. Слышишь, бушует. Келин просила передать, чтобы ты скорее... весть подал! Спеши! — и Шалипан исчезла. Сатан вскочил, нащупал висяшую на кереге одежду, кое-как натянул ее на себя и выбежал в ночь.
ГРОЗА
Утро застало аул Шалматая на ногах. Одни будили других, а те передавали новость третьим. Все сбегались к отау Назипы. Проклятья, крик, шум, ругань, брань висели в воздухе. Озлобленные, обиженные Назипой люди, не смевшие еще вчера косо посмотреть на младшую жену хозяина, торжествовали победу над поверженной фавориткой.
Первые лучи показавшегося солнца высветлили толпу, отошедшую от юрты Назипы. Вот подошел Сатан и тоже смешался с нею. Он энергично пробивался в передние ряды, и ему это удалось.
На расстоянии вытянутого копья, впереди толпы шел Даукен. В одной руке он держал палку, в другой тонкий ворсяной чембур. Он шел как-то странно, словно припадочный, дергался и останавливался. Похоже было, что он волочит что-то за собою. И точно — Даукен вел на чембуре, связанную Назипу. Петля из конского волоса безжалостно перехватила ее тонкую шею. Белое шелковое платье беспечной ветренницы было измазано в земле. Зеленый бархатный камзол полуразорван. На одной ноге краснел изяшный полусапожек, другого не было. Но как прекрасна и величава была ее поступь. Гордый, открытый взгляд ее словно не замечал беснующейся толпы. Лицо женщины озарялось внутренним спокойствием, сознанием своей правоты, и была она удивительно прекрасна в своей разодранной одежде, с волосяной петлей на шее, обливаемая грязью и бранью.
А вокруг разгорались страсти. Даукен, словно цыган с медведем, медленно шел по аулу, за ним катился вал ярых приспешников Шалматая. В воздухе стоял яростный гул, который временами покрывали пронзительные выкрики:
— Дай ее мне! Привяжи к хвосту моего иноходца!
— Кун за нее у меня в кармане!
— Бейте ее!
— Тащи, чего ты с ней нянчишься?!
— Веди ее к отцу!
— Мы свидетели!
Больше всего изощрялись те самые молодые люди, что не один вечер проводили на игрищах Назипы. Они стремились отвести от себя подозрение в связи с ней. С пеной у рта усердствовал и плешивый Кажен:
— Чего тебе не хватало, сучья дочь? Не сыта еще, так могу с рабом спаровать! Уу-ух, нарезать бы из твоей шкуры ремней!..
Богомольные старушки злобно шипели вслед:
— Так ей и надо, проклятой!
— Опозорила род, бесстыдница!
— Пусть твои глаза мыши выедят!
Лишь немногочисленные голоса жалели Назипу.
— И как это она, бедняжка, терпит все это?
— Даукен-то, борода седая, а туда же взялся, за чембур! И где только стыд у него?
— Хаджи, наверно, послал...
Назипу вели по аулу. Три раза обошли с ней вокруг дома плешивого Кажена — «черная юрта ее родичей», затем два раза обогнули мечеть и пошли дальше. Все это время в Назипу летели камни, оскорбления, плевки и грязь. Мальчишки лаяли по-собачьи и хрюкали по-поросячьи, хватая ее за одежду. Больше всего мучителей приводило в ярость ее спокойствие и явное презрение к ним. Лишь изредка, когда уже невыносимыми становились оскорбления, она отвечала им чистым звонким голосом:
— Ваша сила! Делайте, что хотите... За все, что делали руки, ответит моя шея. Смерть лучше такой жизни...
— Ах ты, потаскуха, еще и каяться не желаешь! — зверели от ее слов окружающие.
Сатан, затерявшись в толпе, полными слез глазами высматривал что-то вдали за мечетью. Он чего-то ждал, ждал с нетерпением и надеждой. В голове беспорядочно толклись мысли то о Назипе, то о Фазыле. Почему его не видно, что с ним? Какая участь уготовлена ему, чужаку, если свою жену Шалматай подверг таким истязаниям! Но, может быть, его не тронут, потому что он чужак? Да, так и будет. Ведь Фазыл — человек «закона». С ним не посмеют так обращаться. Значит, одной Назипе уготовлена страшная участь. Скорее бы приехали... А может, хаджи не знает ничего об этом? Это же бесчеловечно. Знай обо всем хаджи, он не допустил бы этого... А где же те, неужели отказались, побоялись заступиться?.. Нет, хаджи сам этому прямая причина, безжалостный человек. А чего ему стоило не позорить так жену? Ведь говорят в народе: «Голова разобьется, да в шапке; дорога потеряется, да в своей земле...»
Толпа тем временем повернула к дому Шалматая. Когда процессия остановилась перед жилищем рогоносца, отворилось верхнее оконце и показался сам хозяин. Ни слова ни говоря, он протянул высохшую руку в сторону кладбища. Даукен дернул веревку и поволок туда свою жертву. За ним двинулась решительно настроенная толпа. Окошечко захлопнулось, и это было как безмолвный приговор молодой женщине. А Сатан все метался в толпе, как загнанный архар, и чего-то упрямо, как чуда, ждал... ждал...
НЕ СТАЛО У ХАДЖИ ЖЕНЫ
Зловещее шествие приближалось к кладбищу, когда из за мечети на другом конце аула вынырнули в облаках пыли быстрые всадники. «Успели!» — радостно выдохнул Сатан.
Впереди стлался в бешеном намете желтогривый скакун, знаменитый победитель многих скачек. На нем сидел седобородый аксакал, воплощенная ярость. Белоснежная борода и полы его дорогой лисьей шубы развевались по ветру. Следом мчались молодые сильные джигиты, привыкшие к стремительным беспощадным схваткам, они размахивали соилами и шокпарами, этими страшными орудиями убийства в руках опытных и смелых бойцов.
Ловкий жигит на темногнедом жеребце скакал чуть отставая от старика, но, увидев толпу по дороге к кладбищу, неиство вскрикнул стегнул коня плетью и сразу на пол корпуса опередил седобородого всадника. В поводу этот джигит вел вороную кобылицу-четырехлетку под высоким женским седлом, покрытым узорами листового серебра.
В минуту всадники оказались рядом с Даукеном. Старик, не успев осадить коня, размахнулся суковатой палкой с тяжелым набалдашником и ударил Даукена по голове. Но Даукен успел отпрыгнуть и затем, бросив чембур, попытался было бежать. Но в ту же секунду темно-гнедой конь джигита оказался рядом с обидчиком, и тяжелая с вплетенным в конец свинцом «волчья камча» опустилась на его плечи. Даукен так и перегнулся от удара, а в следующее мгновенье он уже отчаянно закружился под копытами храпящей лошади, спасаясь от бешеных ударов всадника. Толпа разбежалась в стороны под дружным напором свиты аксакала, а тот властным жестом приказал подвести Назипе вороную кобылу и сказал ей:
— Садись, дочка, в это седло!
Заметив, что она связана, старик выхватил из-за голенища узкий нож и, перегнувшись в седле, одним движение?! разрезал путы на ее руках. Назипа вскинула руки к горлу и далеко отшвырнула ненавистную петлю. И вот она уже в седле, а рядом ее отец с людьми из ее родного аула...
— Держись за мной, дочка! — прокричал Мысык и вскачь направил коня к дому Шалматая.
Давно уже догадывался Мысык, что у зятя с дочкой что-то неладно. Доходили слухи о нехорошем поведении Назипы. И Мысык осуждал дочь, втайне жалея, и просил передать ей, чтобы она не позорила души предков, но с тем же нарочным пересылал Шалматаю свой салем и предупреждал, чтобы ничего не делал с женой без его согласия. Он было уже подумывал забрать дочку к себе и только хотел это сделать похитрее, подипломатичнее, чтобы не было обиды у Шалматая... А сегодня под утро в аул охлюпкой прискакал на взмыленном иноходце Сатан...
Плотный, коренастый Мысык вздыбил коня под самыми окнами шалматаевского дома и громко прокричал:
— Пусть выйдет из этой могилы, если мужчина, раз жиревший на обрезках моих кож негодяй!
Никто и не думал показываться. Ставни и двери убежища были плотно закрыты. А за ними метался в страхе сам хозһин, не зная, куда спрятаться: он то залезал в шкаф, то выкидывал из дедовского сундука штуки материи, чтобы залезть в него. Говорят, что стыд сильнее смерти, но в трусе страх смерти побеждает стыд. За дверью его дома бесновался неумолимый Мысык, который может не дрогнув перерезать ему глотку.
Не только сам Шалматай, но и его верные джигиты, что недавно грозили растерзать Назипу и разгромить аул ее отца, не смели и глаз показать наружу. Они, как суслики при виде коршуна, разбежались по своим норам и молили аллаха, чтобы их не достала рука мстителя. Главный приспешник Шалматая Даукен уже давно в страхе забился в одну из гробниц, предпочитая проводить время в обществе мертвецов, нежели защищать честь хозяина. И никто из многочисленной мужской половины аула не решился высунуть нос на улицу и дать отпор караям.
Разгневанный семидесятилетний старец, все еще гибкий и ловкий, как юноша, бешено крутил коня перед домом обидчика и вызывал того:
— Выходи, если ты мужчина, грязный торгаш, подбирающий мои объедки! Да как у тебя рука поднялась на мое семя?! Выходи, а то я и из могилы тебя вытяну!
Вопли старика не находили ответа. Огромный пестрый дом испуганно молчал, и не нашлось ни хаджи, ни мирзы, ни жены, ни слуги, чтобы показаться и дать ответ разъяренному всаднику. Ни одна мышка не осмелилась выйти к коту.
Тогда Мысык принял решение. Он протянул Назипе свою камчу и ободряюще улыбнулся ей:
— Скачи, дочка, обесчесть их аул!
Назипа круто повернула вороную лошадь и диким наметом понеслась вдоль широкой улицы, обсаженной тополями. Вдоль высоких добротных, крытых железом домов живых хаджи, потомков Магомета, прямо к не менее добротным, просторным гробницам-зиратам, убежищам мертвых хаджи. Не было большего позора для аула, чем скачущая во весь опор среди могил предков женщина. А Назипа уже возвращалась, и дробный перестук копыт ее кобылицы бил по нервам затаившихся потомков великого Магомета, как барабан бесчестия. А лицо всадницы дышало ликующим гневом отмщения.
Мысык еще подождал, — не покажутся ли из своих нор оскорбленные ревнители родовой чести. Но аул Сарыагач безмолвствовал. Тогда аксакал подал знак и во главе своих верных нокеров не спеша порысил домой. Стремя в стремя с ним скакала его дочь, и глаза ее радостно блестели, грудь дышала свободно и широко, вольный ветер трепал ее косы...
Только тогда чуть приоткрылось окошко в доме Шалматая и показалось бледное лицо хозяина, в глазах его застыл страх. И еще один человек провожал взглядом победное возвращение караев — это выглядывал из гробницы Даукен...
АБДЫРАЙСКОЕ СУДИЛИЩЕ
Абдырайский пикет издали походил на растревоженный муравейник. Вдоль реки тесно стояли юрты. На крутом берегу пасся убойный скот, бродили стреноженные кони. Люди шумели и толковали возле временных летних юрт. Здесь разместилась выездная сессия губернского суда. Степняки прозвали ее «Абдырайским судилищем». Присутствовал и сам уездный голова. Здесь раз в два года разбирались тяжбы степняков.
Особняком стояли «судейские юрты» — просторные, восьмикрылые, прочные. Первая — «воровская», здесь слушались дела об ограблениях, воровстве, барымте. Во второй заседали «вдовьи бии» — около этой юрты не прекращались стоны и вопли горьких вдов и сирот. Здесь разводили и сводили немирных супругов. Выгнанные жены, сбежавшие невесты, сводни и сваты ожидали решения своей участи.
Третья — «долговая» юрта всегда была окружена плотным кольцом ловких степных дельцов, проныр и пройдох, которым «пальца в рог не клади, того и гляди руку по локоть отхватят».
К этой юрте и вел Сатана усатый «жасаул», как звали судебных исполнителей по созвучию с русским «есаул» — казахи.
Неподалеку от «долговой юрты» важно восседал на персидском ковре волостной. На нем была богатая кунья шапочка и расшитый серебром халат, красивая холеная бородка придавала ему благообразный вид. Его окружали почтенные аксакалы, с которыми он вел неторопливую беседу. «Жасаул», почтительно приветствовав старших, обратился к волостному:
— Вот человек, которого вы звали!
Чернобородый волостной метнул из-под нависших бровей недовольный взгляд в сторону Сатана:
— Отдай его старшине!
Низенький рыжеватый старшина с медной цепью на шее знаком его власти, косолапо ступая вывернутыми ногами, завладел Сатаном и потащил его в сторонку к шепелявому слуге, разжигавшему под котлом огонь.
— Этот человек — ответчик, следи за ним. Убежит, головой ответишь! — пригрозил он прокопченному слуге.
— Ой-бай, сташин-эке, как я за ним схедить буду? Своих дех похно! — взмолился шепелявый.
— Не уследишь, сам волостному ответишь! — душно повторил старшина и заковылял прочь.
— Не бойся, бедняга, я не бегун. Зачем мне тебя подводить? — сказал Сатан, присаживаясь на землю возле очага.
— Кто ты? — спросил тот, несколько успокоенный.
— Аргынец. А ты?
Сатан было приготовился к обстоятельной беседе и даже, достав шакшу выбил из каменного пузырька на ладонь щепотку насыбая и заложил ее за губу, но в это время, переваливаясь как утка, снова появился старшина и бросил Сатану:
— Идем!
Сатан пошел за старшиной. Тот привел его в «долговую юрту», гудевшую, как улей во время взятка. У порога стоял усатый «жасаул». Он свирепо прикрикнул на Сатана:
— Шевелись, скотина!
Это был обычный прием сторожевого пса, чтобы внушить жертве страх и уважение к своей особе и получить от жертвы две-три монеты.
Сатан с провожатым вошли внутрь.
Юрта была набита битком. В глубине полукругом разместились бий, некоторые из них полулежали на подушках, утомленные духотой и бессонной ночью, другие держались довольно бодро, энергично, до хрипоты споря друг с другом. Короткошеий, с реденькой козлиной бородкой, сухопарый жилистый бий ожесточенно курил папиросы. Рядом с ним смачно плевался рыжебородый короткопалый бий с глазами неопределенного цвета. Чуть подальше заливисто храпел на подушках еще один представитель закона, его бычья шея налилась кровью, а огромный живот мерно колыхался в такт тяжелому дыханию. В центре сидел остроглазый поджарый бий, на нынешних выборах он подкупом, клеветой и обманом свалил наконец своего предественника и дорвался до власти. Опьяненный своим положением, он забывал об отдыхе, как горький пьяница забывает о еде.
Краснолицый горбоносый бий рядом с ним всецело был занят сосанием насыбая, от наслаждения он даже прикрыл глаза.
Сбоку, у стенки юрты, примостился у сундучка с документами черный высохший мулла. То и дело роняя на кошму папиросный пепел, он торопливо записывал в большую судебную книгу тяжбы. Ему головы поднять было некогда. Пот так и лил с него. Да и как ему не лить пот, если каждый взмах пера — это деньги. Запись тяжбы стоит целый рубль.
А от желающих судиться отбоя нет, очередь установили. По самым скромным подсчетам в день рассматривают сорок-пятьдесят тяжеб. Только было Сатана пристроили к очереди, откуда ни возьмись появился гнилоротый, редкозубый старикашка и выскочил вперед.
— Бии! Казии! Разрешите слово сказать! — отчаянно завопил он.
Посади его! Посади! — послышались гневные голоса биев.
«Жасаул» крепко взял старикашку за плечи и подтолкнул к писарю-мулле. Появился и истец, одно ухо его шапки из белой шкуры козленка вызывающе торчало вверх, в руках он сжимал украшенную блестящей жестью камчу.
— Ну, чего просишь? — начал остроглазый бий.
— Вот моя «карта», — ответил истец.
Писарь-мулла взял у него из рук черную книжицу. Открыл ее, полистал:
— Из Сарытау? — спросил он затем истца.
— Да.
Сатан никогда раньше не видел «карты». Понаслышке знал, что за три-четыре месяца до съезда губернского суда старшина объезжал все волости и записывал тяжбы степняков в «карту». Но что она собой представляет, как она выглядит, и что с ней делают, об этом он не имел ни малейшего понятия. Она была для Сатана чем-то таинственно могучим, обладающим неведомой силой.
Писарь стал читать:
— Шестой аул, волость Сыртау, Есимбек Даркембай взыскивает с Амарбека Куткелды, одиннадцатого аула Арасанской волости, одну жеребую кобылу, три куска белой кошмы, отделанное серебром седло.
— Пиши тяжбу! — приказал коренастый бий. Мулла об макнул перо в изжелта-красные, как гной из старой натертости на спине лошади, чернила и принялся сноровисто водить им по бумаге. Он не спрашивал имени, фамилии ни ответчика, ни истца — все это он записал из «карты». Бий повели опрос:
— Как было дело? — спросил остроглазый.
— Думали с ним тамырами стать, — отвечал рыжий истец.
— Врет он, уважаемые кази, я его и знать не знаю.
— Туу, проклятый! — возмутился рыжий.
— Уважаемые бий, кладу свою голову на весы справедливости, не знаю я этого человека, первый раз его вижу...
— Почему же он на тебя указал и приволок сюда? — спросил бий с красивой бородкой.
Старик, захлебываясь от волнения, продолжал:
— Клевета. Не верьте ему. Я думаю, вот в чем дело: он наверно, родственник бию Кожангельды, который сидит в «воровской юрте». Потому как наш бий Разбек — вы его знаете, наверное — нашел украденную у одного из родичей Кожангельды кобылу, а вором оказался племянник того же Кожангельды. Разбек и присудил племяннику каталажку, а Кожангельды поклялся отомстить. Вот и пришлось мне в чужую барымту отвечать. Разбек ведь мой родич... А я до седых волос дожил и чужой шерстинки не взял, чист я перед богом, как моя борода... А этот схватил меня на базаре и говорит: «За тобой долг, пошли к биям...» А я его в первый раз вижу и знать ничего не знаю... — из глаз старика закапали слезы, и он беспомощно по-детски стал вытирать их рукавом.
Сатан сидел ни жив ни мертв. Никогда еще не приходилось ему видеть такое. Получалось, что человек мог спокойно оклеветать другого человека, притащить его на суд и заставить отвечать за то, чего тот никогда не делал. «Что здесь творится? Где я?» — думал Сатан в смятении.
Старик-ответчик тем временем умоляюще глядел на судей. Но бии словно не замечали его, страшные в своем равнодушии. Ни один и ухом не повел в ответ на его жалобы. Очевидно, деньги истца успели сделать свое дело.
Бии уже вытаскивали именные печати, как вытаскивают ножи голодные гости при виде деревянного блюда с Дымящимся мясом.
У каждого своя печать, каждый получит свою долю. Печати выражали характер хозяев: у короткошеего бия печать была в виде собачьей головы, у плосконосого — чугунная, у козлобородого — с тонкой изогнутой ручкой. Мулла кончил записывать тяжбу и спросил:
— Каково решение биев?
— Есть у тебя свидетель? — спросил плосконосый у истца.
— Вот! — ответил истец, показывая на человека, стоящего у него за спиной. Безносый рыжий дегина басовито прогундосил:
— Я — айгак!
— Карта есть, айгак налицо, решайте, бии! — торопил короткошеий.
— За кобылу — кобылу, за кошмы — бести,— прогудел бий с бычьей шеей.
— Казии! Бии! — заголосил ответчик. Но его никто не слушал.
— Седло-то какое?
— В серебре.
— Тогда по базарной цене, пять бести! У старика и горло перехватило.
Мулла писал, как одержимый — впереди еще много тяжб, много рублей. Затем он прочитал написанное, кончалась его запись так: «...а дабы истец мог получить приговоренное с ответчика на руки ему выдана быть надлежит копия с данного приговора».
Старика-ответчика оставили последние силы, он стал похож на обгорелую сломанную кочергу. Но беда не ходит одна, и над стариком раздался медный голос «жасаула»:
— Давай «положну» биям!
Положенная биям за суд плата казахами называлась «положна». Вот эту-то «положну» и требовал со старика «жасаул». «Положны» устанавливались соразмерно взыскиваемой сумме, и бойкий мулла в мгновение ока подсчитал, что старик должен суду двадцать семь рублей, или две бести. А так как у старика не было таких денег, то у него забрали лошадь. Сатана обуял ужас. Подходила его очередь.
ТЯЖБА
В юрту уверенно вошел доверенный Шалматая, хитрая бестия Мукажан. Он важно уселся и, поздоровавшись с биями, указал на Сатана:
— Бии, мой ответчик явился, я готов к тяжбе... Узнав, что речь идет о скоте Шалматая, бии заволновались.
— Посадите вон того!
— Записывай!
— Не зевай! — послышались их голоса. Вконец оробевшего Сатана подволокли к писарю.
— Что за тяжба у вас с ним? — спросил старший бий, тот самый, что давеча сладко храпел под стоны и вопли ответчика.
— Он аргынец, они с братом на Куяндинской ярмарке взяли у хаджи баранов на зимовку. И съели их. Вот уже три года прошло, а мы от них слепой копейки не видели.
До Сатана наконец-то начало доходить, откуда ветер дует, но это не принесло ему облегчения, он понял, что погиб. Дрожащим неуверенным голосом пытался он оправдать себя:
— Хаджи до копейки получил за всех баранов. Он же сам отдал нам «белый вексель», — Сатан говорил и сам не верил, что к его словам прислушаются. Что значит его правда рядом со стадами Шалматая!
— Если ты оплатил сожранных баранов, то какого дьявола я здесь с тобой сужусь? — рявкнул Мукажан, и бии согласно зашумели.
— Сади его! К писарю!
«Жасаул» взял Сатана за плечо и привычным жестов заставил опуститься на корточки перед муллой. Все завертелось перед глазами Сатана, ему показалось, что и решетчатые своды «долговой юрты», и кривая черная ручка, и хитрый проворный писарь, и резные печати, и свирепые бии — все это свора голодных шакалов, с нетерпением ожидающая момента, когда будет можно вонзить крепкие зубы в теплое горло жертвы. Он чувствовал себя, как опаливаемая на костре баранья нога.
— Пиши, мулла, пиши! — торопили бии. И писарь, из готовив кривую ручку, погрузился в запись тяжбы.
— Стой! Не пиши! — раздался вдруг сильный голос. Сатан, не смея верить в избавление, оглянулся — Кусаин!
— Ой, Кусаке-ай! Убивают меня! — только и прошептал он. Похлопывая витой камчой по яловым сапогам, высокий решительный Кусаин смело вышел на середину юрты и подошел к Мукажану:
— Чего ты здесь расселся? Кун за отца получаешь?! Но Мукажан был человеком не робкого десятка. Он с вызовом ответил:
— Что получаю, про то сам знаю! А съеденное из глотки вырву!
— Как же, объел тебя этот бедолага! И не стыдно вам, владельцам тысячных отар, тягаться с батраком? Ну-ка, чем это тебя разорил аргынский сирота?
— А где двадцать баранов?
— И шерстинки неоплаченной от них не осталось. Хаджи сам мне еще должен! — крикнул Сатан.
— Ты думаешь — аргынцы далеко, дайка я поизмываюсь над одним из них? Но ты ошибся! Открой глаза! — Кусаин даже притопнул от гнева. Мукажан попробовал было артачиться, но настроение биев уже успело резко измениться. Ссориться с Кусанном никто из них не желал. Кусаин был одним из влиятельных лиц рода Аргын, в его жилах текла кровь потомков Чингиза-торе. Этот образованный, умный и гордый чингизид с давних пор жил племени Матай. Он был доверенным лицом одного из индийских воротил — купца-ногайца Шаяхмета. Он распоряжался самыми крупными торговыми сделками своего хозяина и от его имени диктовал цены на скот, кожу и шерсть в Куянде и в Капале. Потому его и знали на территории всей губернии, знали и побаивались. Он был не из тех, кто забывает обиды. Силу его уважали не только степняки, к его словам прислушивались в губернской канцелярии. К тому же он слов на ветер не бросал, на сказанном стоял твердо. Силой его была сила хозяина, волю которого он никогда не преступал. И сейчас Кусаин не нарушал воли Шаяхмета. Шалматай и Шаяхмет были кровными врагами, больше того— конкурентами, и никогда не упускали случая досадить друг другу.
Но была у Кусаина и еще одна немаловажная опора. Он приходился хаджи Мысыку родным племянником и очень дружил с его дочерью Назипой. Если Назипа называла Сатана — нагаши то с ее стороны это было не более, как ласка к единственному аргынцу в ауле мужа, настоящим нагаши ее был Кусаин. Потому, когда она, прослышав о готовящейся Сатану тяжкой участи, просила Кусаина выручить джигита, рисковавшего жизнью в ночь ее позора, тот не посмел отказать. Мало того, он был рад лишний раз насолить Шалматаю.
Кусаин бушевал «в долговой юрте», полы его дорогого чекменя выбились из-под широкого «серебряного» пояса, котиковый верх треуха мрачной тенью метался по юрте, голос рокотал громовыми перекатами:
— Где это слыхано? Позор на всю степь! Нищего, забитого джигита вы, разжиревшие шакалы, хотите раздеть донага! Стыдитесь — у вас седые бороды. Где я? В стаде шакалов или на уважаемом суде биев?! Или правду говорят — нет бурана без снега, нет суда без обмана?..
Все подавленно молчали, один Мукажан продолжал хорохориться, но его спесь Кусаин обрезал, как ножом:
— Ты-то чего каркаешь? Думаешь, управы на тебя нет?! Хочешь с каркаралинцами судиться, поезжай в Каркаралы да захвати вексель на двадцать баранов! А здесь заткни рот!
Наконец бии обрели способность говорить, и сразу же их точно прорвало, но теперь решение было совершенно противоположным:
— Оказывается, этот аргынец — человек хаджи, пусть он и судит его. Нам негоже связываться с ним...
— Да-да, хаджи сам решит, как с ним быть, — пытались сохранить хоть видимость самостоятельности бии.
— Хорошо! Я отвезу его к хаджи! — сказал Кусаин и вывел Сатана на волю. Лишившиеся «положна» бии злобно смотрели им вслед.
ДОЛГ ТАМЫРА
Абдырайский съезд только поздним вечером несколько угомонился. Огромный людской муравейник, кипевший, как вода в котле, постепенно затихал. Гостевые юрты были набиты до отказа. Перед каждым порогом задиристо бормотал самовар, выбрасывая в темнеющее небо снопы красных искр. Было время великого поста мусульман — уразы и никто до заката солнца не держал и крошки во рту.
Одни — благочестивые, веря в святость шариата, другие — из боязни прослыть отступниками, безбожниками.
Зато теперь все с жадностью ублажали плоть. Громадные деревянные блюда с дымящимися кусками мяса то и дело ныряли в переполненные юрты и тотчас голые выскакивали обратно.
В доме, где расположился Шалматай, ногу некуда было поставить, — все ждали, что хозяин на разговение зарежет кобылу. И не ошиблись. После чтения разрешающей молитвы — актам — в юрту внесли свежее мясо и большие — из двух конских шкур мешки с кумысом — саба.
Не успевая вытирать пот, гости спешили набить свои желудки даровым угощением. С поразительной быстротой управлялись они с мясом, запивая его полуведерными чашами кумыса. Наконец даже испытанные желудки лизоблюдов притомились от непосильной тяжести, и а юрту торжественно, как генерал на царском смотру, вплыл пятиведерный тульский самовар, сверкая надраенной грудью и фирменными медалями.
В это время в юрту незаметно вошел и скромно стал в сторонке Сатан, только что кончивший спутывать для ночной пастьбы байских верховых лошадей. Вокруг он видел заплывшие жиром лица, на которых сверкали пьяной сытостью маленькие глазки, слышал шумные всхлипы, с которыми опорожнялись пиалы с чаем, обонял резкие запахи пота и распаренной кожи.
Но вот рты оказались не в силах втягивать в себя что- либо еще и с тем большей энергией готовы были изрыгать потоки слов. Гости жаждали беседы. Вначале отвалился от дастархана сам Шалматай, с трудом подняв руки и проведя ими по бороде, он, смачно рыгнув, пробормотал: «Алкамды лалля».
За ним, как по команде, подобно насосавшимся пиявкам, отвалились гости, икая и шепелявя слова благодарности аллаху за угождение их чреву. «Алкамды лалля», «Аллага шукир» зашелестело в воздухе. Почти сразу же разговор завертелся вокруг тяжб. Обсуждали, кому больше досталось, смеялись над дракой двух волостных, сожалели о проигранных делах. Сидевший неподалеку от Сатана низенький человек с широченными плечами и реденькой рыжей бородкой почтительно обратился к Шалматаю:
— Хаджи, меня обижает Досай!
— Что он у тебя съел?
— Решили мы с ним стать тамырами, и подарил я ему серебряное седло, верблюда и жеребенка...
— Ну, и стал он тебе тамыром?
— Как бы не так, игольного ушка от него не получил. Три гола уже прошло, а каждый год я не меньше двух раз к нему езжу...
— «Карту» на него не брал? — спросил хаджи.
— Нет. Хочу прежде с вами посоветоваться.
— А чего со мной советоваться? Без меня надумали с Досаем тамырами стать, а теперь советоваться приехал?
Ыдырыс, — так звали жалобщика, — поник. Шалматай продолжал:
— Ты что, не знал, что у Досая зубы расшатаются, если он не съест чужого? Но зато теперь ты знаешь, крепкие ли у него они, — добавил он и заколыхался в довольном смехе.
— Хаджи, ты наш отец родной, помоги! — взмолился Ыдырыс.
— Трудное это дело. Нелегкий он человек. Еще ни один судебный рассыльный не возвращался из его аула целым и невредимым.
— Отец, замолвите пару слов его волостному.
— Что ты?! Досай любого волостного в три шеи выгонит.
— Что же делать? — выдавил из себя подавленный Ыдырыс.
А чего тебе делать, сиди и жди, когда Досай соблаговолит одарить тебя, — и Шалматай стал раскуривать толстую с золотым обрезом папиросу.
Сатан слушал этот разговор, и невольно мысли его сворачивали на собственную нерадостную участь. Кусаин вырвал его из лап биев и привез к Шалматаю, надеясь, что само участие его как родственника Мысыка облегчит наказание Сатану. Так и случилось: увидев Кусаина, хаджи сделал вид, что ничего не знает, и пообещал ему, что не будет впредь притеснять аргынца. Шалматай всячески старался задобрить племянника Мысыка, говорил, что им нечего враждовать, оба хаджи, оба делают одно дело, и не стоит по пустякам мешать друг другу. Кусаин заставил Сатана просить прощения у Шалматая, но затем вывел его во двор и сказал:
— За один год и заячья шкурка не изнашивается. Побудь здесь еще эту зиму по договору, а летом — твоя воля: хочешь оставайся, хочешь — езжай на родину.
Сатану ничего не оставалось, как согласиться. Он продолжал жить при Шалматае. А хозяин ждал вестей о своих стадах, перегоняемых из степи в предгорья на зимовку. С ними и хотел он отправить беспокойного батрака.
Тем временем Ыдырыс вызвал Шалматая во двор и о чем-то долго шептался с ним. Когда оба вернулись в юрту, по их лицам было заметно, что они договорились...
Ни свет ни заря Ыдырыс собрался к Досаю. Шалматай вручил ему письмо, в котором писал:
«Дугай салем! Приветствую от всего сердца! Твой тамыр Ыдырыс — близкий мне человек. Я надеюсь, что ты его встретишь, как полагается тамырам, и одаришь сообразно его дарам».
С Ыдырысом послал Шалматай и Сатана — присмотреть за лошадьми, быть верным спутником на случай нежданной беды. Они покинули Абдырайский пикет еще до восхода солнца.
Аул Досая находился на расстоянии дневного пробега иноходца. Под путниками были добрые скаковые кони и, несмотря на немилосердно палившее днем солнце, они к вечеру оказались у аула Досая.
Бий Досай был дома. Встретил он их гостеприимно, зарезал барана. Вся ночь прошла за пустой болтовней, и только под утро они легли спать.
Несмотря на это, в обратный путь собрались рано. Досай не только не спросил у тамыра его «желания» — бююмтая, но даже не собирался их провожать. Он кормил ловчего беркута мелкими кусочками свежего мяса, возбуждая его аппетит — готовился к охоте, орал на аульных сорванцов и батраков и всячески старался показать, что он очень занят и ему некогда возиться с гостями.
Аул Досая раскинулся на пологом склоне громадной серой горы. Своими землянками, унылой окрестностью был он похож на гнездо лихих хозяев караванных дорог. Да и сам Досай, сухой, огромный, с крупным крепким черепом, похожим на головку казахской дубины — шокпара, никак не подходил для должности бия, произносящего в судебной юрте приговор. Скорее подстать ему была роль атамана шайки, предводителя барымтачей и конокрадов. Не было в этой долине человека, перечащего ему. Не было, да и вряд ли мог такой появиться.
Перед тем как отправиться в путь, Ыдырыс послал аульного мальчугана за Досаем. Издали было слышно, как приближался хозяин аула. Вот он пнул лежащее на дороге коромысло, ударил теленка, пугнул кур, шуганул собаку и наконец вырос в дверях, заслонив собою свет. Досай знал, зачем его звали; еще с вечера, прочитав письмо Шалматая, он ждал этого разговора. Ждал и оттягивал. Но вот пришла минута, когда тянуть дольше было невозможно, и, тяжело вздохнув, он грузно опустился на почетное хозяйское место.
— Мы собрались в дорогу! — промолвил Ыдырыс.
— Легкого пути! — пробурчал Досай.
— Есть привет, будет и ответ, дорогой бий, вот мы передали вам свой привет, а теперь, если разрешите, мы сядем на коней... — дипломатично начал Ыдырыс. Но Досай перебил его:
Садитесь на здоровье, я вам не помеха. Проводить не смогу, уж извините, сами знаете — время горячее: стрижка, отгон — голова кругом идет,— и Досай сделал движение, собираясь встать.
Тогда Ыдырыс перешел прямо к делу:
— Родичей связывает бог, скот связывают путы, а друзей-тамыров — объятия. Мы с тобой, Досай, обнимались и клялись быть братьями-тамырами. Говорят, приходя просить айран, не прячь пустого ведра — так вот и я с пустым ведром жду от тебя ответа.
Досай понял, что отвертеться не удастся, и нехотя, глядя в сторону, процедил:
— Ну, говори, чего хочешь!
— Хорошо... скоро в Абдыре будут скачки, и я хочу получить от тебя одного из скакунов, которыхты готовишь к байге.
— Ха-ха-ха! — раскатился по юрте громкий хохот Досая. — Ну и рассмешил ты меня, тамыр, да ведь ты все равно на нем приза не возьмешь!
— Это почему же? Что я коней не знаю?
— Других, может, и знаешь, а этих вовек тебе не узнать. К ним подход нужен, а ты только испортишь коня, — резко закончил внезапно посерьезневший Досай.
Закадычные братья-тамыры молчали. Говорить было не о чем. Вдруг Досай решительно поднялся и, бросив Ыдырысу с Сатаном: «Счастливой дороги», — быстро вышел из юрты. Сомнений не оставалось, а с ними не оставалось больше и надежд. Ыдырыс с кислым лицом молча поднялся и сделал знак Сатану следовать за ним.
Во время мусульманского великого поста разрешается есть только после захода солнца, и этой минуты с нетерпением ждут изголодавшиеся за бесконечный летний день постящиеся слуги аллаха. Незадолго до вожделенного часа Ыдырыс и Сатан на взмыленных лошадях подскакали к дому Шалматая. Хаджи как раз совершал в углу двора «очищение», освобождая свой желудок для ночной битвы с тушами ягнят, баранов, с ведрами кумыса и водки. Не прерывая важного занятия, он заговорил с Ыдырысом:
— Эй, тамыр, где же твой жетегин?!
— Нет жетегина, хаджи. Легко ли вырвать у голодного пса кость? — вздохнул Ыдырыс.
Разговор продолжили за чаем. Выслушав рассказ о злоключениях Ыдырыса, Шалматай махнул рукой в сторону Сатана:
— Пусть теперь поедет он!
— Зачем зря гонять лошадей? — ответил Ыдырыс.
— Молчи. Это моя забота, — прервал его Шалматай. — Если он джигит, сумеет увести у Досая одного из двух скакунов.
Сатан промолчал.
— Эй ты, чего молчишь? — спросил его Шалматай.
— Что я могу сказать, хаджи? Ваша воля!
— Так! — Шалматай довольно усмехнулся. — Это будет испытание. Аул Досая ты видел. Дам тебе иноходца в белых чулках, не подведет. Постарайся привести солового... Сделаешь — лучше джигита не будет у меня, понял?
— Коли удастся взять солового, пересаживайся на него, а иноходца веди в поводу, и тогда только крылатые твари смогут тебя догнать... — голос Шалматая задрожал от возбуждения, словно на миг вернулась к нему его воровская юность.
БАРЫМТА
Было время воробьиных ночей, коротких настолько, что сложилась поговорка: «Ягненку не наесться, ковшу не высохнуть». Вот в такую мимолетную ночь и пробирался среди поросших серебристой полынью холмов и заросших высоким чистозвучным чием степных речек одинокий всадник на белоногом иноходце. Конь под ним был выдержанный, без лишнего жира, шаг его был широк, размашист и в то же время бесшумен и пружинист. Ночь только- только вытеснила день, а уж торопкий всадник добрался до цели. Перед ним в долине лежал знакомый нам аул Досая. Шум и гомон, сопровождающие первую трапезу после утомительного дня, подымались над аулом и были слышны далеко в тихом, словно стеклянном воздухе.
Сатан спешился, привязал белоногого красавца за куст чингиля в балочке, а сам выбрался на взлобок, прилег и стал ждать. Он выбрал для своего дерзкого набега именно это время, когда даже самые бдительные стражи на время забывают о своих обязанностях, торопясь набить пустующий с восхода солнца желудок. Шум и гомон несколько утихли, переместившись с улицы в юрты, где разворачивалось неуемное бесчинство чревоугодия.
Сатан решил, что пора действовать. Он встал и весь напрягся от волнения. Движения его были скованными, когда он шагнул вперед. Но постепенно скованность исчезла, шаги стали мягче, бесшумнее, пружинистее, и только осталась внутри натянутой какая-то струнка, и ладони покрылись потом. Взгляд обострился, и Сатан без труда различил в темноте очертания юрт и загонов для скота. Вон отдыхают верблюды Досая, чуть в сторонке — загон для овец, а вот и сам хозяйский дом, где они с Ыдырысом провели прошлую ночь. А что это чернеет за домом Досая? А — это отау, юрта сына Досая, верно, та, вечно шмыгающая носом молоденькая девушка, что подавала им ужин вчера, и есть жена хозяйского сынка. Наконец между домом Досая и отау показался крытый деревянный навесконюшня, с небольшим унавоженным двором. Сердце у Сатана, казалось, готово было выскочить через горло, когда он осторожно пролез между жердями забора. Джигиту повезло. Хотя под навесом на привязи был всего один конь, зато это был именно тот конь, за которым он пришел.
Стройное, поджарое тело словно чуть светилось в тем-ноте, жаркое, нервное дыхание степного красавца заставляло и Сатана дрожать от возбуждения. Гибко и бесшумно, как песчаная гюрза, проскользнул он к голове скакуна и провел по шелковистой коже шеи разгоряченными ладонями. Конь весь подобрался, настороженно всхрапывая и тревожно вдыхая запах чужого человека. Сатан было попытался отвязать волосяной чембур, но не достал до потолочной балки, — так обычно привязываю тназначенных на выстойку коней за ночь-две до скачек, чтобы не опускал» головы. Тогда, недолго думая, он перехватил тонкий чембур ножом и через секунду уже был на спине солового бегунца, прижимаясь щекой к его гриве. На дробный стук копыт кто-то выглянул из юрты и, очевидно, успел заметить, как белая тень легко и плавно перемахнула жердяную изгороь, потому что раздался отчаянный вопль:
— Солового увели!
Весь аул так и вскинулся. Как выскакивает из потревоженного улья пчела-чужачка, вымахнула из аула в степь белесая тень скакуна. Всадник словно сросся с конем, и ему дела не было до шума за спиной, до погони.
А погоня уже началась. Люди выскакивали из освещенных юрт в темень ночи, взлетали на первую попавшую лошадь и, азартно крича, уходили бешеным наметом вслед конокраду. Пыль, улегшаяся было после возвращения с пастбищ скотины, снова, как шапкой, накрыла аул. А из облака пыли вырастал и вот уже вырвался ввысь к мохнатым низким звездам древний, леденящий душу крик тревоги:
— Аттан! На коня!
АТТАН! АТТАН!
Аул Досая был расположен при выходе горного ущелья в долину. И с двух сторон его окружали отроги хребтов, меж которыми по каменистому ложу бежала неглубокая, но быстрая и студеная речка. Близость воды располагала к земледелию, и все пространство близ аула, мало-мальски пригодное под пахоту, было занято посевами. Крохотные Участки посевов были разделены бесчисленными оросительными каналами, и скакать в полной темноте стремительным аллюром по этим полям было задачей далеко не из легких. Потому Сатан сделал то единственное, что ему следовало сделать в подобных обстоятельствах, — он дал полную волю скакуну, лишь неназойливо выдерживая общее направление скачки. Но все труднее было угадать, и в какую сторону мчаться, со всех концов — сзади, с боков и вот впереди вырастал грозный мстительный клич: Аттан!» К погоне присоединились и табунщики из ночного они-то и отрезали теперь Сатану выход из узкой части долины. Справа и слева от себя слышал джигит дробный стук копыт, и отчаянные вопли:
— Айырылма!
Казалось, сама земля кричит, корчась от нетерпения, от желания схватить преступника, который волчьим вольным махом гнал призового скакуна к тому месту, где оставил своего белоногого иноходца. Сатан поступал на первый взгляд неразумно, он как на крыльях летел навстречу табунщикам, самым опасным преследователям, закаленным в бесчисленных стычках с конокрадами и барымтачами.
Он мог бы уйти на своем ветроногом бегунце от любой погони, но нельзя было оставить в руках врагов такую важную улику, как белоногий иноходец. А место, где он привязал его, находилось между ним и табунщиками. «Успеть! Успеть бы!» — пойманной птицей билась в голове одна мысль. Страха не было, он бесследно исчез в горячке погони. Только в один момент сердце Сатана боязливо сжалось. Это когда он в первый раз услышал свирепое «Аттан!» А сейчас дело решали секунды, и для страха не оставалось времени. Соловый жеребец стлался в полете. И Сатан успел. Успел на какие-то секунды опередить преследователей-перехватчиков. В кромешной тьме он природным чутьем степняка угадал место, где бился на привязи белоногий конь, подскакал к нему, нагнулся, скользнул рукой вдоль спины лошади, дальше к шее, затем по ушам, жесткой сухой морде, влажным, трепещущим ноздрям, пенным, плотно сжатым зубам, нащупал чембур и одним махом перерезал его ножом. Перехватив поводья иноходца как можно выше, он погнал коней вдоль неглубокой травянистой балочки, надеясь выскочить по ней на широкий скотопрогонный тракт, где не мешали бы скакунам ни поливные арыки, ни высокая некошеная трава и кустарники.
Вот наконец и дорога. Сатан угадал ее по особому звуку который издавали копыта, со всего размаху опускаясь в мягкую, толстую подушку пыли. Наездник мгновенно повернул коней, и два благородных жеребца ударились во всю прыть по барабанно-гулкому шляху. Впрочем, из-за пыли казалось, что на барабан накинули стеганое одеяло. Тут-то наконец Сатан и оценил полностью резвость «соло-вого», тот шел размашистыми, заячьими прыжками, как ходит за лисой хорошо натасканная борзая.
Ветер так и свистел в ушах юноши. Но этот резвый аллюр солового, делавший его одним из лучших скакунов в степи, был крайне неудобен всаднику. И Сатан, вскочивший на жеребца охлюпкой, то соскакивал на самый круп, то, подброшенный пружинистой силой прыжка, взлетал чуть не на холку, к тому же иноходец — сразу начавший отставать от солового, натягивал повод и грозил стащить Сатана наземь. Джигит намертво вцепился в узду солового, старался слиться с ним воедино, и в то же время его правая рука, вытянутая до отказа назад, волокла за повод не столь резвого, да и притомившегося за неблизкий путь белоногого иноходца. Занятый борьбой с конями, Сатан не заметил, как чуть впереди него на дорогу выехали два всадника, и только крики: «Бери его в середину! Окружай!» —заставили его увидеть их. Что-либо делать было уже поздно, слишком близко, совсем рядом выросли из пыльной тьмы. Два неправдоподобно огромных преследователя. Оставалось только надеяться на прыть коней. И соловый не подвел, как все табунные жеребцы, редко ходящие под седлом, был пуглив и, почувствовав взмах соила — длинного резового шеста, обычного оружия табунщиков, он сделал такой скачок, что сразу же на полтора корпуса выскочил вперед, и грозная сила соила беспомощно заглохла в дорожной пыли. Этот прыжок вырвал бы Сатана с коня, если бы за мгновенье до этого второй соил не обрушился на круп многострадального белоногого и тот в отчаянии не вырвался резко вперед. Теперь оба коня, ноздря к ноздре, стлались в бешеном полете, и с каждой секундой все дальше отдалялись крики незадачливых преследователей. Перед Сатаном была теперь только степь да мягкие, полные горького запаха полыни волны воздуха, пропитанные хмелем удачи.
ЧЕРНАЯ СИЛА
Солнце близилось к полудню, когда участники съезда стали собираться у юрты уездного начальника. Волостные важно подъезжали, гордо выпятив тугие животы, на которых болтались медные знаки их высокого положения. Старшины и урядники в поту усердия сгоняли к юрте уездного простонародье. Люди, не понимая, куда и зачем их гонят, встревоженно спрашивали друг у друга:
— К чему бы это?..
— Сам не знаю...
— Может, уезднай хочет что сообщить?.. Наконец дружными усилиями урядников и старшин огромная жаркая толпа степняков была согнана к дому уездного начальника. Порядком помучив их ожиданием, из юрты вышли под палящее бесцветное небо белые кители, синие штаны и желтые сапоги царских чиновников. Толпа шумно слитно вздохнула и враз потянулась к сияющим пуговицам и золотому шитью погон, но их уже плотно окружили форменные фуражки, толстые халаты и шелковые пояса биев и баев. Сатан, как и все, энергично пробивался вперед, мечтая хоть краешком глаза увидеть богоравного «уездная».
Толмач Сурттай визгливым голосом прокричал, что сейчас «уезднай» будет обращаться к народу. Наступила полная жадного дыхания тишина. Затем вперед выступил сухой высокий, как старый тополь, «уезднай», из-под его сивых вислых усов раздался басовитый, слегка хриплый лай породистого волкодава. Толмач почтительно подлаивал начальству, разъясняя собравшимся смысл речи уездного.
Сатан смотрел на толмача Суртгая, и фигура этого человека в форменном кителе, с шашкой на боку, с обычным казахским лицом наводила на него необъяснимый ужас! Раз или два ему показалось, что Суртгай смотрит прямо на него, и душа у Сатана замирала. Сатан знал, что толмач — верный друг Шалматая и не без его помощи попал пять лет назад на этот важный пост. С тех пор сила и власть Шалматая среди степняков еще более укрепилась, теперь от одного его слова зависела судьба многих и многих людей... Но напрасно Сатан так испугался толмача, вернее, тревожиться надо бы не ему одному, а всем. И собравшиеся встревоженно загудели после первых же слов переводчика... Говорил он вкратце вот о чем:
— В настоящей богоугодной войне казахи принимают очень мало участия. Из других народностей все мужчины поставлены под ружье, а казахов до сих пор и пальцем не тронули. Некоторые аулы даже не выплатили денежного сбора. В других местах народ горит желанием помочь доблестному царскому войску, а казахи, тупые, как бараны, и не помышляют о войне, будто это и не за их степи льется на фронтах благородная русская кровь.
Фронту можно помочь всяко. Поделитесь тем, что у вас есть. Вот для этого и созвали сегодня сюда лучших представителей десяти волостей. Теперь «уезднай» ждет вашего ответа, заранее уверенный, что вы покажете себя достойными слугами великого русского царя...
Толмач смолк, «уезднай» ждал ответа, но люди молчали, лишь гулко билась в висках кровь, глаза смотрели в землю. Начальник нервничал, он о чем-то резко спросил у Сурттая, тот беспомощно развел руками, пытаясь что-то разъяснить в свое оправдание. И тут поднялся Шалматай:
— Мы согласны со всем, что говорил здесь наш высокоуважаемый уезднай. Мы сознаем свой долг перед отечеством и краснеем оттого, что так плохо выполняли его.
А молчат люди потому, что не знают еще, как помочь фронту. Надо подсказать им. Помоему, и речи нет о том, дадим мы или не дадим фронту помощь. Мы дадим. Но речь в том, что дадим! Я хотел бы предложить вот что: пусть каждый дым нашего уезда даст по рублю деньгами. Говорили, что фронту нужны мешки, — пусть каждый дым даст по одному хорошему мешку. От этого мы не обеднеем, а фронту подмога не маленькая...
Кривошеий волостной Егеубай с места крикнул:
— Я согласен с Шаке. Предлагаю с пяти дымов собрать по одной кошме!
Волостные и бии согласно загудели:
— Макул! Хорошо! Да будет так.
Но вот с другой стороны вскочил с места чернозубый кряжистый Карылбай и заорал на пол степи:
— Когда другие народы бьются с оружием в руках, нам остается хоть позаботиться получше об их еде и одежде. Они проливают кровь за нас, а мы даем им жалкие крохи, как последнему попрошайке! Я предлагаю еще с каждого дыма собрать по выделанной бычьей шкуре...
Все предложения старательно записывались щуплым писарем на большой свиток бумаги. А волостные, видя это и стараясь попасть в этот список, выкрикивали все новые и новые «обязательства» от имени народа. А народ молчал, потому как за долгие века отвык говорить сам. И только где-то в дальних рядах чуть слышался робкий неуверенный ропот:
— Ой, задавили совсем!
— Баям легко, а каково нам будет!
— Где же взять столько?
— Из земли заставят выкопать, из камня выколоть...
А баи, бии, волостные и старшины уже потянулись к столу писаря, торжественно закрепляя подписями «обещания казахского народа»...
Уездный начальник довольно улыбался и ласково посматривал на своего верного помощника Суртгая. План, предложенный им, удался как нельзя лучше. Еще с вечера Суртгай через урядников и старшин предупредил о сегодняшнем собрании верных людей, остальных не ставили в известность, а наиболее опасных смутьянов и вовсе постарались не допустить на собрание. И вот в результате ловкого хода перед уездным лежит длиннейший список обязательств, и все прошло гладко, без шума, под восторженные крики баев и купцов. Сурттай тем временем оглашал заранее заготовленную бумагу, где от имени царского правительства высказывалась благодарность наиболее активным подданным великого государя, и первым в списке стояла фамилия Шалматая.
Толпа, более не сдерживаемая стражниками, стала понемногу расходиться. Но в это время чернолицый огромного роста казах гаркнул прямо с седла:
— О бии, волостные! Добрые, справедливые. Дозвольте высказать вам жалобу!.. Не отверните ушей от моих слов... — Сатан повернулся на зычный голос и обмер: это Досай! А тот тем временем продолжал реветь, как обездоленный в весеннюю течку верблюд.
— Второго дня... После вечерней молитвы... я его берег для байги на этом съезде, увели из-под рук...
— Кто?
— На кого грешишь? — раздались голоса, люди приостановились, занятые происходящим.
— Если бы знал... Ушел трактом, догнать не смогли....
— Так чего же морочишь людям голову? — раздался из толпы выкрик, и все, потеряв интерес к беде Досая, стали расходиться по своим стоянкам. К Досаю подошел Шалматай:
— Е-е, мой батыр, хорошо, что явился на съезд, раньше три урядника не могли тебя заставить... Пойдем в долговую юрту, пусть бии рассудят вас с Ыдырысом.
— А чего ему от меня надо? Что это я у него заел? Шалматай, зная, что узда этого дикого верблюда Досая у него в руках, спокойно улыбаясь, заметил:
— То, что заел, твое брюхо, пожалуй, позабыло. А люди помнят и тебе напомнить рады. Пойдем!..
— Так ты стал его адвокатом? — усмехнулся уверенный в своей силе Досай.
— Придержи язык! Сейчас тебе откроют глаза, слепец! Ты не у себя в ауле, не забывайся — осадил его Шалматай и крикнул стоящему поодаль Ыдырысу:— Эй ты, гнилоротый, чего стоишь?! Бери его коня под уздцы.
Ыдырыс подошел и только было нацелился взять за узду Досаева гнедого, как взбешенный Досай резко толкнул коня вперед и взмахнул тяжелой плетью. Удар пришелся по протянутой руке тамыра, и тот с воплем отскочил вбок.
Досай перетянул плетью жеребца и выскочил из круга, но дорогу ему неожиданно преградил «жасаул», с тремя стражниками, и ругающегося, возмущенного Досая бесцеремонно поволокли к «долговой юрте». У входа в юрту Досай попытался вновь принять привычный независимый тон.
Ну-ка, посмотрим, что у вас выйдет, — сказал он, переступая порог. Но на этом и кончилось его геройство.
— Читай заявление Ыдырыса, — приказал писарю Шалматай. И мулла ровным бесцветным голосом забормотал слова жалобы.
По мере чтения лицо Досая приобретало не свойственное ему выражение неуверенности. Когда писец кончил оглашение жалобы, Досай ослабевшим голосом сказал Шалматаю:
— Да, я должен был по закону тамырства кое-что Ыдырысу. Но зачем же он подал на меня в суд? Как-нибудь уладили бы это дело промеж себя...
— Чего же ты раньше ходил? Я ведь тебе свое письмо послал с ним? Говори, сколько отдаешь тамыру?
— Ладно... одну лошадь и двадцать рублей деньгами... — сдаваясь, выдавил из себя Досай, но тут же ощерился, как загнанный зверь, защищающий свое логово. — Но больше не получит ни кусочка! Кусаться буду!
— Кусался бы, когда у тебя солового увели, — презрительно бросил Шалматай, — а нас кусать опасно, мы и сами не без зубов...
Одно упоминание о соловом вновь преобразило Досая. Он снова обмяк, глубоко вздохнул.
— Что, жалко солового? — вкрадчиво прозвучал в наступившей тишине вопрос Шалматая. — А сколько бы ты дал за него, если бы он отыскался.
Досай встрепенулся и с загоревшейся вдруг надеждой посмотрел на своего врага.
— Разве ж я оценивал его? — проговорил он медленно. — Да я б жизни не пожалел!
— Хорошо! Не будем тогда надоедать почтенным биям своими пустяковыми жалобами, — Шалматай поднялся, приглашая Досая следовать за ним. Бии согласно загудели: «Давно бы так», «Что за расчеты между своими?» — им тоже не хотелось впутываться в распрю сильных степи.
Когда отъехали порядочно от юрты, Досай не выдержал молчания и заговорил с Шалматаем.
— Шаке, — сказал он, — если вернешь солового, можешь меня арканом возле своего дома привязать.
Шалматай многозначительно усмехнулся.
— Досеке, — заметил он, — не будем говорить, где я нашел твоего солового, может, я его за триста верст отсюда у конокрадов купил, чтобы оказать тебе услугу? Но и ты сослужи мне службу, по дружбе, по тамырству.
— Что за разговор, Шаке, дай мне только увидеть солового, и я сам, и мой дом — все твои слуги вечные. Ыдырысу дам все сполна. А тебе отдавать мне нечего, все мое теперь твое, сам возьми, что хочешь...
— Ладно, будет тебе, — подтрунивал довольный Шалматай, — и волк прячется, когда охотник у логова...
Досай повернул разговор:
— А скажи, Шаке, как бы мне увидеть того жигита, что угнал солового? Верно, лихой парень. Как он ушел от меня, ума не приложу. Я ведь на гнедке в догон бросился, а ему еще и своя лошадь мешала...
— Что ж, можешь поглядеть, — с деланным равнодушием бросил Шалматай. — Вот он едет, — и черенком камчи указал на Сатана.
Досай пристально посмотрел на юношу, и сердце Сатана тревожно забилось от недоброго прищура его диковатых глаз.
— А-а, старый знакомый, — протянул наконец Досай и еще раз, запоминая, внимательно посмотрел на Сатана.
Через несколько дней пригнали с гор скот Шалматая, и бай, назначив Сатана старшим над чабанами, приказал ему перегонять отары в Куяндинскую степь к открытию ярмарки. На одном из перегонов встретился Сатану отряд вооруженных конников. Впереди ехал опоясанный саблей «жасаул» уездного начальника, а посреди плотного кольца людей виднелась сгорбленная в седле фигура учителя Фазыла. От отряда отделился и подскакал к Сатану всадник, в котором он с радостью узнал Кусаина.
— Куда едете?
— В Куянды. А вы?
— А мы в город. Видишь, арестовали учителя?
— Куда же его?
— К уезднаю. Говорят, на него поступило заявление. Его обвиняют, что он турецкий шпион и собирал в пользу Турции деньги среди казахов.
Сатан слушал, ничего не понимая, а Кусаин продолжал:
— Слушай, тебе не надоело глодать объедки Шалматая? Ах, надоело? Тогда дождись меня на ярмарке, скоро буду... — и, стегнув лошадь, пустился вскачь вслед заотрядом.
«Я НЕ УЧИТЕЛЬ ПЛЕШИВОМУ ХАДЖИ...»
Куяндинская ярмарка подходила к концу, и Сатан уже отчаялся встретиться с Кусаином, когда тот наконец появился на торжище. Кусаин нашел Сатана под вечер. Чабаны гнали непроданных овец на пастбище, и Сатан на коне объезжал отару. Кусаин, громко смеясь, окликнул его. Сатан от неожиданности вздрогнул. Поздоровались. Кусаин, заговорщически улыбаясь, спросил, не раздумал ли Сатан уходить от Шалматая.
— Как же, Кусаин-ака, — не думал уже вас дождаться и вчера сам ходил к нему...
— И что же он?
— Зверь зверем. Я, говорит, не для того тебя от тюрьмы спас, чтобы отпустить тебя. Или будешь, говорит, служить мне, или на собаках ездить в Сибири.
Кусаин весело расхохотался. Сатан был немного обижен его смехом, но Кусаин покровительственно хлопнул его по колену и шепнул:
— Приходи завтра утром к моему хозяину Шаяхмету, я там буду.
Только пригнали баранов из ночного, Сатан поспешил к купцу Шаяхмету, к которому он уже однажды чуть было не ушел. Кусаин был уже здесь и, завидев Сатана, почтительно обратился к розово-белой туше, разлегшейся на шелковых подушках:
— Бай, это вот и есть тот самый джигит, о котором я вам говорил. Ручаюсь за него... Хочет уйти от Шалматая...
— Ярый, восемь таньга в месяц. Одежда, пища и прочие расходы от хозяина. С закрытием ярмарки поведем караван в четыреста вьюков. С ним и поедешь в Капал,— бай говорил лениво, цедя слова, но глазки его внимательно ощупывали Сатана.
Кусаин выразил за Сатана согласие, и бай продолжал:
— Этого жигита возьмешь с собой. Дам вам восемь лошадей, и не позже первого августа чтоб были в пути.
Когда Кусаин с Сатаном выходили от Шаяхмета, бай, словно вспомнив что-то, крикнул Сатану:
— Эй, казах, тебе не стыдно являться ко мне в таких драных ичигах? Вот, возьми!— он нацарапал на клочке бумаги несколько слов и протянул записку Сатану — Пой дешь в мою лавку и выберешь добрые сапоги, а эту рвань можешь кинуть в лицо плешивому спекулянту Шапматаю.
Сатан, прижав к груди кулак с запиской, взволнованно произнес:
— Бай, бог соединил наши дороги. И по своей воле я до смерти не сойду с этого пути... Есть у меня только одна просьба к вам...
— Говори.
— Если хаджи меня станет требовать обратно, не выдайте меня ему...
— Я не учитель плешивому хаджи! Со мной у него игры плохи! Иди и не бойся, никто, кроме меня, тебя нетронет!
Благодарный Сатан низко поклонился и вышел.
Через несколько дней опустела шумная степная ярмарка. Сам бай Шаяхмет уже выехал в Капал. На ярмарке остался только его доверенный Кусаин с кучером Сатаном.
Кусаин перед отъездом в свой аул отпустил на денек Сатана домой. И жигит повидал родных, отдохнул. Из своего аула Кусаин намеревался отвезти в Жетису старшую жену — байбише, двоих сыновей и дочь-невесту. Шестерых лошадей по трое запрягли в тарантас и арбулинейку. Сатан сел за кучера на арбу, доверху нагруженную имуществом, с ним разместилась байбише с двумя сыновьями, и маленький отряд ранним утром тронулся в далекий путь.
В первый день сытые кони шли весело и дружно, и к вечеру путники добрались до дома зятя Кусаина, торе Муздибая. Зять встретил Кусаина по-родственному. Всю ночь напролет угощал и поил водкой, а поутру, прощаясь, велел привести из табуна чистокровную двухлетку гнедой масти и собственноручно привязал ее к задку тарантаса.
Второй день выдался ветреный, дорога шла по открытым выжженным местам, кони вяло и неохотно плелись по августовской жаре, и только глубоким вечером Кусаин с домочадцами добрались до места очередного ночлега. Это были пять домишек-развалюшек, где обычно останавливались на ночь проезжие. Хозяином здесь был человек по имени Маркатан.
— Что это вы, торе, вздумали путешествовать один? — спросил Маркатан.
— А что в этом особенного?
— Ходят слухи, на дороге неспокойно.
— Е-е, бог не выдаст...
— Бог-то, может, не выдаст, да нынче он слишком крепко и часто спит... Надо бы вам присоединиться к какому ни есть каравану...
— А мы и догоняем свой караван... Когда здесь прошел обоз в четыреста лошадей?..
— А, проходил, помню... позавчера проходил под вечер, да вы их догоните, они не торопятся.
Еще затемно они покинули двор Маркатана, торопясь поскорее нагнать свой обоз.
ТРУСУ И ЗАЯЦ С ВОЛКА
Дорога. Жажда. Истомленные зноем кони лениво перебирают нековаными копытами. Ни души. Только изредка в горячем мареве воздушных струй промелькнет призрачная тень степного коршуна, и опять все застывает в пугающей неподвижности. Кони фыркают, яростно отмахиваясь хвостами от слепней-кровососов, роняют в ноздреватую, как пемза, пыль грязно-белые ошметки пены. Путники, сморенные духотой и пространством, полудремлют, лишь изредка окидывая ленивым взором окрестности.
Вдруг раздался тревожный возглас Кусаина:
— Эй, что это такое?!
Все вздрогнули. Сатан протер глаза и явственно увидел, как чуть впереди в зарослях кустарника появились и тотчас пропали силуэты всадников. На взгляд их было не менее двадцати.
— Огради нас, аллах, не разбойники ли это?— испуганно прошептала байбише, приложив указательный палец к щеке.
— Куда они едут, ты не заметил? — спросил Кусаин.
— Сдается, что они стоят на месте, — ответил Сатан.
Загадочные всадники еще несколько раз на какие-то мгновения открывались взору встревоженных путешественников. Они, несомненно, ехали впереди отряда по обочине дороги, пользуясь как прикрытием высокими зарослями чия и кустарника джиды.
Они не торопились, держась все на одном и том же расстоянии от маленького отряда, и было похоже — выбирали удобное место для нападения.
— Да... верно, это они и есть... — медленно проговорил Кусаин. — Без боя не сдадимся, — добавил он, вытаскивая из вьюка двустволку с мешочком патронов и протягивая все это Сатану.
— Держи. Стреляй, как только они схватятся за лошадь.
Затем он подал дочери длинный нож с черненой серебряной рукоятью: «На всякий случай» и строго приказал байбише: «Даже мертвая не слезай с тюков!»... Сам он вытащил из седельной кобуры наган, провернул барабан, проверяя, на месте ли патроны, и опустил его в карман.
Сатан, зажав под коленом заряженную двустволку, продолжал погонять лошадей, стараясь не выдать своего волнения. Все члены малочисленной экспедиции сидели напряженно, с застывшими лицами. Ожидание тянулось томительно долго. Но вот впереди показался густо заросший овраг, в который круто сбегала дорога.
«Здесь!» — ударила всех одна и та же мысль. Сатан внутренне собрался, мысленно рассчитал, каким движением выхватит ружье, как станет стрелять.
Зловещие всадники спустились в овраг и больше не показывались. Чем ближе подъезжали к оврагу, тем сильнее ощущались Сатаном духота и зной неподвижного полуденного воздуха. Ладони Сатана вспотели, под коленкой, где лежало ружье, было мокро, губы пересохли, а внутри поднимался к горлу сухой ком.
Уже съезжая в овраг, он кинул быстрый взгляд на заросли тальника, и его словно холодом охватило, так неожиданно было то, что он увидел. На небольшой полянке струдались штук двадцать степных дроф-дудаков.
— Птицы! Это птицы! — сипло прошептал он. Кусаин взглянул и выругался:
— Ох, чтоб их... Ну и нагнали же страху,— он хохотнул коротким нервным смешком. — Ты как, стрелять?
— Могу! — ответил Сатан.
— Давай. Мы поедем дальше, а ты соскочи вон у тех кустов чия, они тебя и не заметят!
Сатан под прикрытием двухметрового чия соскочил с арбы, зажав в руках двустволку. Тарантас и арба продолжали свой путь и вскоре выбрались из оврага, а Сатан тем временем медленно подползал к осторожным птицам.
Кусаин правил лошадью и прислушивался. Вот сзади из оврага громыхнул выстрел из знакомой двустволки.
— Взял, — сказал Кусаин.
— Где ему, — отозвалась сидящая рядом байбише, — Он ружье-то как кнут держит.
Из оврага выскочили испуганные дрофы и стремглав понеслись по степи. Разбежавшись, они тяжело, медленно отрывались от земли и, быстро махая тяжелыми крыльями, трудно набирали высоту.
— Ни одного-то и не ранил, криворукий, — презрительно заметила байбише. Но из оврага уже выбегал Сатан, таща на плечах серую крупную птицу.
Под вечер добрались до зимовки хана Серикбая. Большая часть населения аула откочевала на лето в горы, и сейчас только в доме хозяина жили люди. Остался сам с двумя-тремя взрослыми домочадцами. Серикбай был старым знакомым Кусаина. Первым делом он приказал подать истомившимся от жары путникам освежающий — закисший молочный суп из пшеничных зерен. Усевшись на прохладные домотканые алаша, все принянсь угощаться этим волшебным питьем из больших деревянных чаш. Завязалась обычная в таких случаях беседа Кусаин расспрашивал, что делает здесь летом хозяин в самую жаркую пору года и почему не откочевал в горы на летовку. Серикбай отвечал, что задумал построить мектеб — мусульманскую школу — и уже отформовал для этой цели несколь десятков тысяч глиняных кирпичей, и теперь хочет еще до осени сложить стены. Кроме того, рассказывал хозяин, кому-то надо было смотреть за посевами, заготавливать на зиму сено.
— С джайляу есть вести?
— С неделю назад я побывал там.
— Как скот?
— Приволье скоту. Мои две верховые лошади здесь от слепней и оводов так отощали, что еле ходили, а за три дня, что я был на джайляу, у них и ребер не прощупать.
Настала очередь хозяина спрашивать, и он не замедлил воспользоваться этим:
— Апырмай, — воскликнул он, выражая крайнее удивление, — как же вы, торе, пустились в такой путь один?
— Наш обоз идет впереди, думаем скоро догнать его...
— И все же, какую смелость надо иметь...
— Е-е, — произнес Кусаин,— уж как-нибудь...
— Так-то оно так, да поговаривают, что шалят на дороге какие-то люди... Да не простые воры, сушие разбойники...
Кусаин навострил уши. Слишком часто за время этой поездки слышал он о разбойниках, чтобы пренебречь любыми новыми сведениями о них.
— А не слышали, в какой стороне они нынче? — спросил он.
Серикбай начал неторопливо и обстоятельно излагать суть дела:
— Да вот когда я в последний раз был на джайляу, без меня здесь побывали эти разбойники. Правда, ничего не разорили, скорее, не тронули вовсе. Выскочили средь бела дня из-за могилы моего деда, — он показал в окно рукой, где в темноте белела четырехстенная без крыши саманная гробница,— и помчались прямо к аулу, да завидели у речушки стреноженных лошадей и свернули к ним. Был у меня там светло-гнедой с подпалинами призовой иноходец. В горы на джайляу я его не отправил, хотел подле себя держать, может, сгодится когда, да и хозяйский глаз — думал, сохраннее будет. Все лето на колу. Меня-то не было, сыновей тоже, а бабы побежали было за ними, заголосили. Один из них повернул коня, подскакал к ним и говорит: «Вы должны в ноги нам кланяться, что отделались конем, а будете выть, так порубаем всех на месте». Ну, бабы сразу как воды в рот набрали.
Сатан молча слушал рассказ хозяина. Кусаин не вытерпел:
— Да кто же они такие? Сколько их?
— Кто бы ни были, видно, что не простые разбойники. Сдается, что и не из наших мест они. Думаю, они перекочевывают с одного места на другое. Найманы не стали бы озорничать среди бела дня в родных местах. Ходят слухи, что это один из отрядов самого Тауке. На джайляу говорили, что он подался в нашу сторону.
— Тауке?!— Кусаин даже привскочил. Имя Тауке было хорошо известно на Куяндинской ярмарке. О нем рассказывали всевозможные страхи ограбленные им купцы и баи, прибывшие в Куянды с севера и запада. Время от времени в безбрежной степи появлялись шайки, занимавшиеся разбоем на караванных тропах. Обычно на путь грабежа их толкали нужда и издевательства баев, эти изгои образовывали немногочисленные отряды и после двух-трех удачных набегов расходились по родным аулам, отягченные добычей. Но «отряды» Тауке существовали уже второй год, и число его джигитов доходило до нескольких сотен, в массе это были молодые парни, батраки, которых голод довел до отчаяния, бедняки, в юртах которых пухли с голодухи малые ребятишки. Все они смертельно ненавидели «жирнопузых» и сравнительно мягко обращались с остальным населением. Поэтому бедные казахи оказывали им помощь, предупреждали о карательных отрядах, давали суровой зимой место у спасительного огня. Известие о том, что Тауке появился в здешних местах, сразило Кусаина.
— Может, это и не Тауке?— с надеждой проговорил он.
— Нет уж, это точно он, — отвечал хозяин. — Другой на его месте весь аул бы распушил, а он только коня взял. Его повадки, — убежденно добавил он. — В прошлом году он забрал у одного керейца скакуна и оставил вместо него коня хороших кровей, но очень уж тощего. А через месяц вернул исхудалого скакуна и забрал отдохнувшего коня обратно. Говорят, что у них есть свое хозяйство — дойные кобылицы, верблюды, бараны. А недавно к Тауке присоединился со своими людьми кереец Самалык...
Наутро, прощаясь, хозяин после обычных пожеланий Удачного пути, закончил свое напутствие следующим образом:
— ... Да сохранит вас аллах от лихих людей. А все же поспешайте. Не жалейте лошадей и к вечеру нагоните обоз, он прошел незадолго до вас...
Сатан, гони! — приказал Кусаин, и отдохнувшие лошади весело пустились рысью. Над утренней тишиной ясно и чисто взлетел молодой сильный голос Сатана:
Сладок хлеб на Куянде,
Нелегок путь...
РАЗБОЙ
Кусаин рассчитывал еще до полудня догнать обоз Шаяхмета. Тройка лошадей весело неслась по степи. Облик местности значительно изменился, чувствовалась близость большой воды — степь зеленела, все чаще встречались заросли ивняка и чингиля, жара не так изнуряла людей и животных. Освежающий ветер отгонял слепней и мух, и ехать было бы сплошным удовольствием, если бы не опасность встречи с грабителями. Впереди на мягкой подстилке дороги отчетливо виднелись многочисленные следы колес и копыт — следы недавно прошедшего в этих местах обоза, и это вселяло надежду, что вот скоро, может быть, через час-два, они нагонят обоз, ямщики которого вооружены винтовками, и тогда будут в безопасности, Обоз из-за своей многочисленности и тяжелой поклажи двигался медленно и иногда останавливался на дневки. Сегодня он должен был остановиться на дневку в урочище мавзолея Камертал, где были родник и хорошее пастбище.
Сатан первым увидел белое пятнышко на гребне далекой возвышенности.
— Вон, наверно, Камертал, — сказал он Кусаину.
— Да-да, ну теперь мы, можно сказать, спасены, — с облегчением заметил Кусаин и приказал не гнать лошадей, немного погодя стали видны движущиеся точки.
— Чьи лошади?
— Кажется, обозные.
Сбруя пасущихся лошадей вспыхивала на солнце яркими бликами. Это были верховые кони. Разглядели и маленькие сидящие на земле фигурки людей.
— Нет, это какие-то путники молятся. Неожиданно люди вскочили на лошадей и помчались к ним, рассыпаясь на скаку в лаву.
— Тау! Враги!
— Не успеем!
— Боже, тебе вверяем наши жизни!
— Не робей!
Кусаин сделал знак Сатану заряжать двустволку, сам же выхватил из кармана револьвер. Один из нападавших, взмахнув саблей в сотне шагов от повозки, остановил лаву. Затем он отделился от группы и в сопровождении двух свирепого облика вооруженных винтовками телохранителей подъехал к дороге.
Завидя их вооружение, Кусаин понял, что сопротивление бесполезно, все же тихо сказал Сатану:
— Стрелять после меня, понял?..
Трое всадников остановились шагах в пяти от путников. Один из телохранителей был русский, винтовку держал привычно — локтем прижав приклад, второй — коренастый казах в разодранном бешмете и новеньких яловых сапогах, положил винтовку поперек седла. Меж ними и чуть впереди сидел на высоком ахалтекинце, вся сбруя которого была украшена серебром, акилистый, загорелый до черноты казах с пронзительным взглядом маленьких прищуренных глаз. Был он одет добротно, даже несколько франтовато, с шашкой в красных сафьяновых ножнах, сбоку болтался огромный револьвер, винтовка висела за спиной прикладом вверх.
Он заговорил спокойно, чуть пренебрежительно, но было в этом спокойствии столько зловещего холода, что во рту Кусаина сразу пересохло:
— Откуда?
— Из Каркаралинска...
— Куда?..
— В Семиречье...
— Каких родов?..
— А вы... сами кто?..
— Мы из рода Даганлы.
Кусаин не знал, что ему делать. Рука все еще крепко сжимала рукоять нагана. Мать и дочь уткнулись друг в дружку. Сатан глаз не спускал с телохранителей.
— Так какого же вы рода?
— Аргынцы.
— Что с Мади?
— Точно не знаю.
— Окружной суд вынес приговор?
— Я выехал раньше. А зачем вам Мади?
— Мади мой друг. Я — Тауке!
Сердца путников дрогнули. Одно это имя вселяло такой страх в души людей, что оружие вывалилось из рук. Сатан во все глаза рассматривал знаменитого бандита. Под бархатным тобыктинским халатом с засученными рукавами виднелось тонкое городское белье, на голове легкий войлочный колпак, на ногах мягкие ичиги.
— Слышал обо мне? — не без самодовольства спросил Тауке, заранее уверенный в ответе.
— Кто о вас, батыр, не слыхал? — отвечал Кусаин.
— Ну так раньше слышал, теперь увидел. Я уже девять лет в бегах. А это все мои побратимы. Живем с дороги. А ну показывай, что у тебя лишнего?
— Вы же и сами видите, что у меня есть. Возьмите, что надо, вы на дороге хозяева... — ответил Кусаин.
— В таком случае ты в первую голову отдай оружие, приказал Тауке, и телохранитель русский подъехал и забрал у Сатана двустволку, а у Кусаина револьвер.
— Вижу, у тебя впереди не близкий путь. Потому лошадей у тебя забирать не стану, — продолжал Тауке. — А ну доставай тысячу рублей!
Кусаин взмолился:
— Батыр, если бы у меня в карманах лежали тысячи рублей, разве бы я служил приказчиком у ногайца?..
— Ты эти шуточки оставь! Небось не обеднеешь от тысячи рублей!
— Милосердный батыр, я и не думаю смеяться, но где я возьму...
— Я не двурушный каркаралинский торе, понятно?! В этих тюках добра много больше. Сколько стоит одна одежда на твоей жене и дочери? Но зачем это нам, встретились мы случайно, и сегодня у меня нет охоты мараться вашей кровью! Гони деньги, живо!..
— Я же говорю, батыр, нет у меня денег, — начал было Кусаин, но его прервал крик Тауке:
— Нет, с ним бесполезно разговаривать: сворачивай арбу с дороги!
Сатан под дулом винтовки стал сворачивать лошадей с дороги. Но громоздкая арба никак не могла развернуться, тогда один из конных схватил под уздцы коренника и резко потянул его морду вбок. Левое колесо телеги провалилось в придорожную канаву, и вся повозка угрожающе накренилась. Дочь Кусаина заголосила. Тогда Сатан одним махом слетел с арбы и подбежал к конному:
— Погоди, чего стараешься, сейчас договоримся,— и крикнул Кусаину:— Кусаин-аке, отдайте им все, что у вас есть.
Кусаин сунул руку за борт пиджака, вытащил бумажник, раскрыл и вынул из него несколько аккуратно сложенных ассигнаций.
Второй телохранитель выхватил деньги из рук Кусаина и пересчитал их:
— Семьдесять шесть рублей всего...
— Не нравишься ты мне, — медлительно замети Тауке.
— Это все, что у меня... клянусь...
— Ладно... отдай ему десятку на дорогу... А ты знай, что только дети твои спасли тебя. Можешь убираться!
Кусаин молча стегнул лошадей, торопясь отъехать. Тарантас бодро запрыгал по неровностям дороги, также неровно прыгало в груди Кусаина ошалевшее от радости сердце. «Легко отделался, легко отделался», — билось у него в голове.
— Стой! — хлестнуло вдруг у него за спиной.
И Кусаин скорее судорожно натянул вожжи.
— Отвяжи гнедка!
— Батыр, возьми любую другую лошадь! Эту мне подарили. Я тебя прошу.
— Не... не выйдет. Она мне приглянулась! — один из джигитов Тауке уже отвязывал гнедка. Кусаин почернел от злобы. Уголки его рта нервно подергивались и, чтобы скрыть бешеный блеск налитых ненавистью глаз, он опустил взгляд на дорогу.
— Обижаешься на грабеж? — сказал Тауке. — Это не грабеж. Это милость. Проедешь дальше — поймешь. Будь ты русским или ногайцем, или даже казахом, но из другого рода, не из Семиречья, тогда бы увидел, что такое грабеж.
— Спасибо за вашу доброту! — с еле уловимой на смешкой сказал Кусаин. Но Тауке уловил ее, и голос его окреп, стал сух и властен:
— Торе, ты, может, думаешь, мы дураки? И не знаем, кто ты такой? А ведь я тебя хорошо знаю. Ты один из хитрых каркаралинских торе, привыкших пить нашу кровь. Лютее твоего отца не было бая в наших местах. Жизнь твоя на кончике ножа... Отпускаю тебя в память моего джигита Адилхана, которого ты два года назад спас от русского суда, Только из-за него. Ну, езжай. И благодари аллаха...
Прощайте, батыр-ага! — восхищенно глядя на Тауке, сказал Сатан.
— А ты кем будешь?
— Я батрак. Каракесек.
— За сколько в месяц?..
— Восемь рублей, одежда, еда...
— Даром спину гнешь. Мои джигиты в месяц по две-три сотни гребут... Слушай, оставайся у меня, не пожалеешь...
Простите, ага, мне не подходит, — робко отказался Сатан.
— Ну, смотри. Неволить не стану... — Тауке равнодушно отвернулся и, вспомнив что-то, сказал Кусаину:
— Дам тебе двух джигитов, чтобы проводили. А то неподалеку здесь на дороге снова мои люди стоят... — с этими словами Тауке с места развернул коня и ушел вскачь, к своим джигитам. А вскоре от толпы разбойников отделились два всадника, подскакали к Кусаину и поехали рядом.
ДОГНАЛИ ОБОЗ
Хмуро ехали Сатан и Кусаин с домочадцами по степи. К разговору не располагали две мрачные фигуры разбойников, которые, не желая глотать пыль, поехали впереди повозок.
Через полчаса езды внезапно впереди из лошины с гиком вылетели человек тридцать всадников и в мгновение ока окружили путников. После недолгого разговора с посланцами Тауке они раздались в стороны, пропуская отряд и дальше путники поехали одни. Но долго еще никто из них не раскрывал рта, и так бы промолчали, может, до самой ночи, но Сатан заметил нечто такое, что заставило его громко вскрикнуть от удивления. Остальные присмотрелись и также не удержались от возгласов изумления.
Неподалеку от дороги валялась разбитая повозка и четыре убитых лошади, возле которых прыгали вороны.
Одна из лошадей показалась Сатану знакомой:
— Посмотрите, Кусаин-ага, ведь это пегая кобыла из нашего обоза! — крикнул он.
Кусаин молча кивнул головой. Он уже понял, в чем дело: одна из повозок обоза подверглась налету разбойников. Теперь доверенного Шаяхмета мучила одна только мысль: «А что с остальными?» Вскоре выяснилось и это — поле впереди было сплошь покрыто разбитыми повозками, рассыпанным товаром, трупами пристреленных лошадей. Впрочем, большую часть лошадей бандиты, видимо, угнали. И наконец они увидели трупы ямщиков.
Кусаин гнал лошадей так, что громоздкая арба Сатана еле поспевала за тарантасом. Он торопился покинуть это страшное место, а возможно, хотел поскорее добраться до крупного аула и вызвать карательный отряд семипалатинского губернатора.
К вечеру они домчались до урочиша Туксиген. Здесь ночевали три или четыре каравана общей численностью в полтысячи человек. В эти тревожные времена редко кто рисковал выезжать в степь без большого вооруженного отряда.
А с появлением в округе Тауке купцы и баи решили сплотиться и дальше двигаться всем вместе. С этой целью некоторые уже с неделю сидели в урочище Туксиген. Кусаину на его расспросы о ямщиках обоза Шаяхмета показали на два костра, разведенных в отдалении.
Завидя Кусаина, ямщики подняли дружный вопль...
— Ограбили...
— Опозорили...
— Беда на головы наши...
— Пятерых на месте уложили...
— Среди бела дня налетели...
Выкрики и причитания оглушили бледного от злобы Кусаина. Наконец он пришел в себя и властным окриком заставил их примолкнуть, затем, усевшись у костра и усадив близ себя старшего из ямщиков, Бейсембая, приказал: «Рассказывай».
Степенно огладив жиденькую бородку, Бейсембай принялся рассказывать неторопливо и бесстрастно:
Как выехали мы из Куянды, так всю дорогу гнали лошадей, хотели догнать караваны, ушедшие раньше. Одним-то беспокойно в степи. Сегодня в полдень остановились мы переждать жару. Лошадей стреножили, чай вскипятили. Тут и налетели они. Мы даже и за ружье схватиться не успели, а кто успел, тех сами, верно, на дороге видели. Было их человек семьдесят, и все с винтовками и саблями. Согнали нас в кучу, и подъехал к нам их главный. Глаза как у беркута. А рука так и играет «шестизарядной». Приказал он отпустить нас с миром и еще добавил: «Идите и передайте своему хозяину благодарность от Тауке и Самалыка».
Старик замолчал, а Кусаин все еще сидел, яростно, до боли вглядываясь в затухающий костер. Ведь с товарами Шаяхмета погибло немало и его добра.
А Сатан между тем думал о том, почему такой смелый человек, как Тауке, приглашал его в свой отряд. Неужели он, Сатан, показался ему достойным джигитом? А что в этом такого? Кто угнал солового, кто одной рукой поднимает годовалого барана, кто лучше всех джигитов Шалматая стреляет в цель? Но не такой славы, которая ходила по пятам Тауке, хотелось джигиту. А какой, он и сам еще не знал.
Часть вторая
ТЕЧЕНИЕ
ВСТРЕЧА
Ветер гонит мусор узкими улочками к порту. «Куралайдын салкыны» называют местные жители — ветер весенних заморозков. Особенно достается от него грузчикам. Они только что кончили работу и потные, задыхающиеся толпятся у длинного трапа, переброшенного с дощатой пристани на железный борт парохода. Ветер студит их разгоряченные тела, еле прикрытые грязным рваньем. Ветер вырывается на простор Иртыша, срывает белые шапки пены с серых мелких злых волн могучей реки.
Навигация только открылась, но по широкой водной дороге вовсю снуют суетливые суда. Низко стеля черный дым над вечерним Иртышом, идет пароход «Светлана». Надвигается ночь, крепчает ветер. Низкий рев пароходной сирены напоминает дикий, неутоленный крик нара в весеннюю, холодную пору.
На носу «Светланы» торчит фигурка с шестом. Она мерно наклоняется, выпрямляется и монотонно выкрикивает по-русски: «Два!.. Два с половиной!» Промерами занят молодой матрос Мамбет. Ему скучно, холодно, неуютно. Пароход выходит в фарватер, обозначенный тусклыми огоньками бакенов. Мамбет поднимает свой шест, укладывает его вдоль борта, садится на бухту каната и ждет, когда кончится фарватер и придется снова кланяться Иртышу с полосатым шестом в руках.
Он думает о реке, о ветре, о скорой весне, о судьбе, о жизни... Дни и ночи несется эта большая река все вперед и вперед... Зачем? И воды не возвращаются... Не покоили это на человеческую жизнь?.. А этот пароход?.. Он весь из железа, на нем столько груза... а он не тонет! Как счастливы, верно, кто много знает... Им все доступно, они могут все...
Вдруг Мамбет почувствовал, как сильные руки обвили его, приподняли, и страшный голос крикнул над ухом: «Ах!»
— Ой, кто это?! — вырвалось у Мамбета, но, обернув, шись, он радостно воскликнул: — Эй, ты откуда взялся?
— Думаю работать на этом пароходе, — ответил Мардан.
— Правда?!
— Да, — как можно небрежнее подтвердил Мардан, усаживаясь рядом с Мамбетом, — с зимы никуда не устраивался, мечтал плавать на пароходе. Вчера капитан обещал мне какую-то работу, и вот я здесь. Завтра, бог даст, буду работать с тобой.
Они не виделись больше года. Батрацкая доля раскидала их в разные стороны, и они не только не встречались, но и письмами не обменивались. Да и какие письма от неграмотных, где батраку взять конверты, марку, бумаги, время, а главное — куда писать, когда не знаешь, где будешь ночевать сегодня.
И вот они встретились ночью на пароходе.
— Ты не женился? — спросил Мамбет...
— Не удалось еще...
— А удалось бы, так ты не прочь?!
— Э-э, брат, ты это о чем? Неужто бродягой без роду, без племени лучше?
— Сейчас нам жена ни к чему. Жениться — лакеем становиться.
— Как это?
— Да, чудак, кто тебе жену даром даст? За нее нужно скотом платить, тридцать-сорок голов. А где нам взять — в малаи идти к баю: авось угодишь ему, будет у тебя лет через двадцать калым.
Так что же? Выходит, бедному казаху и жениться нельзя.
— Да пойми, не достанет у него силы жениться...
— Не-ет. Неправ ты. Коли есть у бусины дырка — найдется на нее нитка. На всякую жену отыщется свой муж.
— Да ты рассуди, положим, задумал я жениться. Только к сорока годам отработаю свой калым. Вот и выходит, что я всю жизнь буду спину гнуть ради какой-то сопливой девчонки. А какой мне с нее прок, когда все силы я отдам за ее калым, а ей-то и не достанется ничего. Да мало ли в степи у нас таких горемык! А если в одной семье два-три парня, то и совсем оставь мысли о женитьбе. Вот у кого хорошо, так-то у русских. Никакого калыма тебе, полюбили — женись, живи, плодись, размножайся. Отчего, думаешь, в русских деревнях так много ребятишек? То-то... Потому их и больше, чем нас... а казахов скоро совсем не будет, жениху уже не под силу на коня влезть, а он за невестой собирается...
Мардан возражал:
— Ну, это ты загнул. Если бедняк вовремя не может жениться, то уж погулять вволю ему никто не запретит. Пока еще джигитам никто я... не завязывает. У баев всегда по нескольку жен, гладких и охочих... А с кем им миловаться — со старым жирным мужем или со здоровыми ариями... То-то и оно... Природа своего требует, и уж как ты ни верти, а она извернется, сама свои прорехи залатает...
— Да, это правда...
— Вот и сам ты согласен. Бедняки от жизни свое берут. Они хоть и не имеют жен, зато байские сыновья и дочки это их дети.
— Ну, это редко бывает...
— Сплошь да рядом...
— Теперь ты загнул, Мардан.
— Я?! Загнул?! Да если хочешь знать... Посмотри на меня, кто я, по-твоему, такой?!
— Ты?! Завшивевший и пропахший помоями батрак — вот ты кто!
— Постой, постой! Ты не про то толкуй, ты лучше скажи, могу я нравиться женщине?
— Разве что у нее бельма на глазах... Морда-то у тебя — смотреть страшно...
— И вот такого меня любят белотелые байские жены. Ну, что скажешь?
— Врешь.
— Да спроси об этом хоть у вашего же кочегара, каракесека Тагара, он знает мою последнюю историю.
— Что за история? — всерьез заинтересовался Мамбет. Но Мардан ни с того ни с сего сник и не стал рассказывать. Мамбет, заинтригованный молчанием друга, не отставал, упорно добиваясь своего. Наконец Мардан согласился, но, не зная, с чего начать, некоторое время собирался с мыслями.
СИРОТА
Мардан родился на склонах горы Баян. Его родители принадлежали к одной из ветвей рода Сюндык. Ветвь эта кочевала на территории волости Шидет и носила имя Сары. Аульный во время сбора налогов искал их в ауле Майкара. Отца своего — мастера Жакыпа — Мардан не помнил, тот умер, когда мальчику не было и года. Позднее, когда он вырос и стал ходить из аула в аул в поисках заработка, он часто видел в домах резную деревянную утварь, сработанную на славу искусными руками его отца. «Эта чаша работы Жакыпа», — бывало, говаривал какой-нибудь аксакал, любовно гладя выпуклости тонкой резьбы на крутых краях кумысницы.
Мать помнил смутно. Истерзанная непосильной работой, согнутая горем женщина умерла, когда ему было четыре года.
Пяти лет Мардан остался один-одинешенек на подворье бая Машая. Целыми днями возился он в золе, дрался с собаками из-за объедков. Семи лет Машай пристроил его пасти ягнят, девяти — доверил овец, и с тех пор чего только не натерпелся Мардан. И холод степного бурана, и свирепость волков, и голод, и побои — всего хлебнул с лихвой. Но доброй варки железо от закалки только твердеет, так случилось и с Марданом. К шестнадцати годам это был крепкий, сильный, здоровый юноша с железными мускулами и луженым желудком.
Однажды в февральский буран волки потрепали отару, и Машай жестоко избил Мардана. После этого джигит ушел от ненавистного хозяина.
Как раз в тот год стали строить железную дорогу от Барнаула до Алтайска. Многие парни сбивались в артели и шли на строительство в надежде заработать денег. По сравнению с байской кабалой работа на строительстве казалась райским блаженством. К одной из таких артелей примкнул и Мардан.
Работа досталась земляная, так как никто из степняков не владел никаким ремеслом. Здесь Мардан встретился и подружился с Мамбетом, таким же, как и он, круглым сиротой. Им обоим, как самым молодым, поручили готовить пищу и охранять лагерь. Они поочередно собирали топливо, варили пищу, вдвоем с трудом поднимали трехведерный котел с водой, вешали его над костром и кипятили чай. Мардан, как более крепкий — он был на два года старше Мамбета — иногда уходил помогать друзьям рыть землю, в такие часы Мамбет не находил себе места от скуки. Часто они коротали время за бесконечными беседами, в которых более бойкий на язык Мамбет подшучивал над неуклюжим Марданом, а тот, в свою очередь, частенько его за это поколачивал. Несмотря на такие размолвки, дружба их крепла день ото дня. Но кончилось строительство, и друзья расстались.
Мардан вернулся в свой аул поздней осенью. В воздухе уже летали белые мухи, и по утрам хрустел под сапогами ледок на лужах. С собой у Мардана было двадцать пять рублей денег, заработанных на строительстве. Такая крупная сумма придавала ему уверенность, он как бы вырос в глазах аулчан. Его приглашали в гости, сердечно здоровались с ним при встрече, набивались в приятели. Особенно досаждал ему некий Садык, неожиданно оказавшийся его родственником — чуть ли не дядей, — и он так энергично обхаживал Мардана, что тот и взаправду поверил в его родственные чувства и стал испытывать к нему нечто вроде сыновней привязанности.
— Преврати деньги в скотину! — мудро наставлял племянника заботливый дядя. — Отдай мне двадцать рублей, к лету я тебе куплю хорошую лошадь...
Так ушли двадцать, а пять рублей забрал аульный, который забрал бы и больше, но пока он искал в полусгнивших налоговых книгах тридцатилетнюю недоимку отца Мардана, его опередил более разбитной дядюшка.
Не успел Мардан оглянуться, как вновь остался без копейки. Почти сразу же заметил он некоторое охлаждение приятельских чувств со стороны вчерашних знакомых, а через день охлаждение превратилось в прочный, зимний холод, а до весеннего тепла было несомненно дальше, чем до райских гурий.
Чтобы не умереть с голоду, Мардан пошел в пастухи к тезке вероломного дяди, хитрому и безжалостному баю Садыку.
ОБЪЯТЬЯ ЧАБАНА
Потекли тяжелые однообразные дни батрачины. Мардан пас овец и помогал по хозяйству. Иногда его отправляли в ночное, стеречь табун. Во время своих поездок в город бай Садык брал его в качестве кучера. Так прошла зима и наступила весна.
Снега сошли бурно. Дружная весна решительно и споро захватывала степь. Все живое билось и трепыхалось в любовной лихорадке. Жеребились кобылы, верблюдицы не желали покидать по утрам пуховых верблюжат. Каждый вечер, пригоняя отару с пастбища, Мардан приносил полные охапки новорожденных ягнят. В домах, где отелились коровы, варили густое молозиво. Аул Садыка перебрался в летние юрты, поставив их в отдалении от глинобитных зимовьев. Для ягнят и козлят соорудили загон с чиевой загородкой, и облезлые линяющие псы злобно ворчали, когда маленькие пленники пронзительными воплями мешали им выполнять весь сложный ритуал ухаживания за тощей борзой сукой Кудайбергена.
Доить овец в байском ауле принимались засветло, иначе не успевали выдоить всех. На дойку собиралось пятнадцать-двадцать женщин со всего аула и трудились они до поздней ночи. Девушки и парни подтаскивали овец и ягнят к дояркам. Овец привязывали по очереди к длинному аркану, протянутому меж двух кольев, и к ним перед дойкой подводили ягнят рассосать вымя. Затем их безжалостно оттаскивали и пускали к матерям уже после дойки. У Садыка было две взрослых дочери и молодая невестка — они также принимали участие в ежевечерней дойке. Байский сынок Кудайберген, муж крепкой, статной Сакатай, предпочитал по молодости лет материнские колени полной белой груди своей жены. Да и побаивался он оставаться с ней наедине. Истомившаяся желанием молодая женщина пугала его своей ненасытностью, требуя от ребенка того, что не всякий здоровый мужчина в состоянии дать. А Сакатай, в свою очередь, презирала мужаподростка, сумевшего разжечь костер, но не имеющего сил потушить его.
Однажды вечером Мардан гонялся за резвым ягненком, который норовил прорваться к доящейся матке, и вдруг заметил, что ему помогает Сакатай. Белой гусыней мелко бежала она впереди него, то и дело нагибаясь, чтобы схватить ягненка, и смутное желание поднялось в молодом джигите. Не помня себя, он в каком-то забытьи кинулся вперед и страждущие руки их соединились на спине жалобно заблеявшего ягненка. Словно невзначай, весь дрожа от возбуждения, Мардан провел влажной горячей ладонью вдоль спины молодухи и сквозь тонкую материю ощутил, как ответно бьется в призывной дрожи холеное сильное тело. Сакатай резко выпрямилась, прижав к груди ягненка, и, отвернувшись, слабеющим голосом «пригрозила»: — Уйди, проклятый, Кудайбергену пожалуюсь!
Вскоре после этого случая Садык уехал в город вместе с сыном Кудайбергеном. Невестка осталась одна в отау — доме молодых. Днем стояла необычная жара, парило. Душный вечер не принес желанной прохлады. Небо заволакивали тучи, ожидался дождь. Мардан, опасаясь промокнуть под дождем, перебрался на ночь в переднюю комнату отау и растянувшись на рваном сырмаке, заснул крепким, без сновидений сном. Молодухе же в соседней комнате не спалось. Ей было жарко, и она, разбросав покрывала, обнаженная металась на шелковых подушках. Духота стала невыносимой. Сакатай вскочила и вышла в переднюю. Подойдя к порогу, она распахнула дверь, надеясь обрести желанную прохладу. Но тих и неподвижен был воздух, напоенный зноем страсти, все в природе дышало горячим, исступленным вожделением, от резкого запаха трав кружилась голова, испуганной птицей билось сердце. Она знала, отчего бьется ее сердце — оно тосковало по сильным рукам, по мужским объятиям, по сладостной боли. Безумно, в каком-то наваждении, она тихо прикрыла дверь и тенью скользнула к постели Мардана. Трепетная рука ее проникла под рваное лоскутное одеяло и, вздрагивая не то от робости, не то от нетерпения, стала гладить, ласкать широкую мускулистую грудь юноши, его шею... Мардан вскинулся от неожиданности...
— Кто это?
— Я, тише... — влажная ладонь легла на его губы.
— Сакатай?
— Тише, глупый!..
«НЕ ЕЗДИ!»
Ну и деньки настали! Мардан от счастья сам себя не помнил. И нищему пастуху улыбнулась удача. Все отары и табуны, все женщины, все богатство, весь мир, казалось, принадлежали ему. Помогая ловить ягнят, таща к загону блеющих маток, он как бы ненароком старался прикоснуться к своей возлюбленной, к своей нежной Сакатай. Подстерегал ее, когда она ходила по воду или просто отдалялась от дома, и тут же средь бела дня обнимал и миловал свою ненаглядную. Сакатай расцвела такой яркой красотой, светилась такой неудержной радостью и так нетерпеливо ждала свиданий с Марданом, что о ее связи с пастухом уже на второй день знал весь аул. Но никто ничего не сказал влюбленным — ждали приезда хозяина. А любовники упивались друг другом, ничего не замечая вокруг. Но недолгим было их ворованное счастье — приехал из города Садык.
С первых же минут приезда он знал все. Но, будучи от природы осторожным, не терпящим поспешности в делах человеком, порешил отложить это дело на следующий день. За ночь он продумал, что излишняя огласка может только повредить ему, и положил наказать Мардана окольным путем, но так, чтобы дерзкий понял, за что терпит истязания. Случай представился довольно скоро. На следующий же вечер после приезда бая Мардан гнал с водопоя табун кобыл, охлюпкой взгромоздясь на серую кудайбергеновскую кобылу-трехлетку. Садык громко позвал его к себе. Все население аула, с нетерпении ожидавшее расправы с наглым рабом, насторожилось.
Мардан подъехал к хозяину, спешился и, вопросительно мигая глазами, стал перед ним — живое воплощение байского позора. Кровь вскипела в тяжелых руках Садыка, витая семижильная камча, подобно хвосту барса перед прыжком, забилась в его сильной кисти. Этот наглец обидел его семью, его сына, его самого (еще довольно крепкий Садык и сам не раз сладострастно поглядывал на пригожую сношку, да приберегал лакомый кусочек к особому аппетиту).
— Ты зачем это ездишь на кобыле Кудайбергена? — сиплым от ярости шепотом произнес Садык.
— А что в этом такого?! — удивился обнаглевший батрак. И в тот же миг байская плеть ожгла его между глаз.
— Собака! Собака! — хрипел Садык, полосуя голое тело Мардана. — Не езди на кобыле! Не езди! Не езди! — оскорбленный отец мстил за сына.
Мардан стоял под градом ударов не шевелясь, закусив губы, и побелевшими от боли глазами молча смотрел на мучителя. Наконец бай утомился, отбросил плеть и выдохнул:
— Иди и к кудайбергенову добру рук не протягивай! В ту же ночь Мардан оседлал гнедого байского скакуна и бежал в городок Кереку, что на берегу Иртыша.
Все это всплыло в памяти Мардана, когда он собирался начать рассказ о своих приключениях.
— Да говори же ты, чего молчишь? — услыхал он нетерпеливый вопрос своего друга. Вздохнув, Мардан начал рассказ.
ЛИШИЛСЯ БЫКА
— ... Ты, может, слышал, что я удрал от Садыка... Ну, так я прямо потянул в Кереку. Продал на базаре байского скакуна и приоделся немного, да и в карманах денежки завелись. Ночую в караван-сарае, слоняюсь целый день по базару, хожу на пристань — ищу работы, но работы нет... возвращаюсь опять на базар... Жил я так, не тужил. О Садыке ничего не слышно. Я так понимаю, что ему было невыгодно разыскивать меня, отдавать под суд... Но пришел конец и денежкам... Продал бешмет, штаны, сапоги... На пароходах для меня места не было, и стал я пробиваться любой работенкой... Одному чистил колодец, другому двор, крыл сарай.
Все заработанное тут же проедал. День на день не приходится — два дня есть работа, шесть сидишь без дела.
А когда уже совсем подвело меня с голодухи, встретил я на базаре спекулянта Усейна. Ну и проныра этот Усейн! Чего только он не делал! Сколотил под конец артель. По Иртышу в Кереку весь лес сплавлялся по его подрядам. Было их два брата — Усейн и Асайн — и немало нажились они на этих подрядах. А кроме всего прочего, были у них в верховьях Иртыша, в Ушкамысе, свои покосы и пахотная землица. Ловкач был этот Усейн, да и работящ — ничего не скажешь. С утра, бывало, торчит на базаре, покупает скотину, продает кожи, скупает урожай — одним словом, ничего не упустит, не просмотрит, урвет, хоть одним зубом, хоть краешком ногтя, да урвет.
Слыхал я о нем разное, все больше нехорошее. Да куда же мне было деваться? Как увидел меня Усейн, он даже не стал со мной торговаться, как торговался бы из-за поганой шкурки козленка:
— На первое время будешь собирать в степи кизяк,— заявил он мне.
— А потом?
— Потом увидим...
— На сколько?..
— Два месяца.
— Сколько?
— Постель, еда...
— Только-то?
— Ну, одежонку кой-какую.
— И все?
— В месяц три рубля... Понравится — останешься... Не понравится — я не держу... Вольному воля!..
Куда мне было деваться? Видно, Усейн понимал это не хуже меня. Он велел идти за ним и привел на свой двор. Открыл чулан с кожами и показал мне:
— Здесь покуда спать будешь. А вот бричка, вот вол, а это водовозная бочка — все это твое хозяйство. Следи за ним.
Назавтра принялся я за работу. Со вторыми петухами напоил быка и лошадь. Запряг бричку и отвез хозяина на базар. Вернулся, поел, запряг быка и выехал в степь за кизяком. За городом по берегу Иртыша все чернело кругом от кизяка. Там останавливались на ночевку табуны, отары, что шли на Куяндинскую ярмарку. Распряг я быка, пустил его пастись, а сам принялся за работу и к вечеру так загрузил арбу, что она покривилась, а бедный красный бык еле дотащил ее до двора Усейна.
С тех пор я стал каждый день ездить за кизяком и скоро весь угол двора завалил им. И еще бы ездил, да случилось несчастье. Однажды в жару решил я выкупаться в Иртыше. Разделся, влез в воду, а в это время на моего быка напал бзык. Бык взревел и понес в степь, да так, что тяжелая арба моталась у него за спиной, как банка на хвосте у кошки. Выскочил я на берег, оделся наспех и побежал догонять арбу. Да куда там! Скоро у меня закололо в боку, дышать стало нечем, и я с размаху хлопнулся в полынь, да так и пролежал с полчаса. А быка тем временем и след простыл. Пошел я домой, думаю — бык вернулся сам, а его там нет. Ждал до вечера — не придет ли. А вечером все хозяину рассказал. Ну и ругани же было! Однако не дрался. Утром выехали с ним в степь, искали долго и под вечер нашли разбитую вконец арбу, а бык как в воду канул.
НА УБОРКЕ
Думал я отдохнуть после пропажи быка, но не тут-то было. Пришла пора сенокоса, уборки, и хозяин, оставив городские дела на брата, сам с токал — младшей женой — Кулзейне перебрался в Ушкамыс, да и меня прихватил. Спозаранку выехали мы из Кереку, а уж заполночь были в Ушкамысе. В этих местах зимовал Жунус. С ним мой хозяин договаривался насчет охраны посевов, полива, а после уборки отдавал ему его долю. Косцов и жнецов тоже нанимали в ауле Жунуса. На этот раз наняли восемь джигитов и в их числе меня. Вставали до свету, ужинали ночью... А все же молодость своего требует, и некоторые из нас находили еще время и на забавы. Ну и я не отставал. У старика Жунуса было три замужних дочери, и самая видная из них была Калима, муж ее Доненбай был в то время где-то на заработках. Пока мы косили траву, женщинам было нечего делать, и они все вертелись около нас на лугу. Я работать люблю, а особенно когда на меня девушки смотрят. У себя на родине я не бог весть какой силач, но у здешних казахов, что жмутся к реке, кость жидковатая. Никто из восьми джигитов не мог угнаться за мной. Не успеют, бывало, они до конца загона дойти, а я уж по второму разу их догоню, грожу пятки обрезать. Да и остальные джигиты в ауле уступали мне. Иной раз в лунные ночи соберутся к нам на выгон девушки, джигиты, и начинаются игры: борьба, кыз куу, или боремся на конях — не было мне равных. Ну и понятно, что девушки все глаза на меня проглядели...
В святую пятницу отдыхали... В такие дни мы обычно ходили в аул к Жунусу — попить кумысу, поговорить, развлечься... Вот однажды в пятницу утром отправились мы в аул. А там — шум, крики. Весь аул высыпал наружу и смотрит, как с десяток молодцов не могут поймать одну жеребую кобылу сивой масти. На шее у нее болталось уже четыре курука; со всех сторон ее окружили всадники, а она дико храпит, запрокинув голову, и носится вокруг аула, не дается в руки табунщикам. Вот один из них подскакал к ней, изловчился и достал один из куруков, висевших на ее шее: Но кобыла прянула в сторону, и табунщик вылетел из седла, проволочился за ней по земле, да не удержал. Вдруг ко мне подбегает мальчишка и говорит:
— Тебя зовет Жунус.
Ну, я и пошел к нему. Подхожу, а Жунус трясет своей бороденкой и говорит мне:
— Иди ты и поймай эту кобылу, нашим соплякам это не под силу.
Я выбрал крепкий березовый шест и приделал к концу петлю из тонкого волосяного аркана. Сделал я курук и говорю джигитам: «Гоните ее на меня, — а сам спрятался за кустами чия. Стали молодцы гнать кобылу, а она не дается, крутится, вертится, но в мою сторону не идет.
Наконец прижали джигиты ее так, что деваться некуда, один выход — скакать в мою сторону. Она и поскакала прямо на меня. Несется, голову запрокинула, грудь в мыле, глаза красные, того и гляди сомнет. Ну, я изловчился, накинул петлю и изо всей мочи как рванул, так она винтом и закрутилась на месте. Стала как вкопанная, вся дрожит, жилочки под кожей так и бегают. А я, пока она не опомнилась, обернулся с куруком вокруг куста чия — привязал ее. Тут и джигиты подскакали, помогли мне спутать ее, стреножить.
Поглядел я в сторону аула и вижу: Жунусова дочка Калима с меня глаз не сводит, загорелась вся. Подошел я к Жунусу, а тот меня в дом приглашает кумысу выпить, мяса отведать. Усадил на торе, выше хозяина... Жунус мной нахвалиться не мог и все жалел, что дочерей уже повыдавал замуж...
Ладно... Попили мы кумыс, а разливала Калима. Я с ней раза два переглянулся — вроде не прочь. Ладно, думаю, дай срок. Под вечер Жунус с женою уехали в город продавать ту самую бесноватую кобылу. Я вышел их проводить и возвращался уже поздно. Иду мимо Жунусова аула и думаю: что-то поделывает сейчас пригожая Калима? Глянул, а у ней уже ни огонька, ни света — спать легла. Подошел я к юрте, смотрю, заперта изнутри. Тогда я лег на землю, отвернул край кошмы, просунул руку, отодвинул маслобойку. Прислушался — тихо. Как я пролез сквозь кереге не знаю, только прополз. Калиму я сразу по запаху нашел, знаешь, как молрчай пахнет, когда разотрешь? Лег к ней, осторожно разбудил, она меня, верно, тоже узнала. Ни звука не молвила, только прижалась вся как есть — и ногами, и телом, и лицом — и дрожит, мелко так дрожит, вроде как кобылица, которую я заарканил...
Мардан замолчал, взволнованный своим рассказом.
— Так ты же не женился на ней! — рассмеялся Мамбет.
— Не женился, а все-таки как бы женился...— буркнул Мардан, — хочешь слушать — слушай, а нет...
— Да рассказывай, я же в шутку...
КУЛЗЕЙНЕ
—... Кончился покос. Сметали мы сено в стога. Убрали пшеницу. Обмолотили. Осталось дел на неделю, не больше. Усейн оставил все хозяйство на жену свою Кулзейне и укатил в город. Остались мы с Кулзейне одни. Ну и глаза у токал были — как два озера, потонуть можно. Давненько подбирался я к ней, да все несподручно было. Днем я на работе, ночью она с мужем. А тут такой случай выдался. Ну, думаю, если этой ночью не попытаешься, грош цена тебе.
Как только уехал муж, Кулзейне сварила мясо. Принесла из аула бурдюк кумыса. В тот вечер напрасно ждала меня на условленном месте Калима. Я сидел сытый, довольный, бренчал на домбре и любовался байской токал.
Когда она ходила по комнате, я слышал шорох ее шелковых одежд, скрип хромовых сапожек. Меня обдавало сладким запахом душистого мыла, терпким запахом охочего женского тела. Голова у меня дурманилась, я не соображал, что я играю, что говорю.
Перед тем как ложиться, начала Кулзейне мыгь волосы. И вдруг говорит мне:
— Братик, ты не обидишься, коли я попрошу тебя полить мне...
Меня как ветром сдуло с места. Вскочил и говорю:
— О дорогая женге, разве не честь это для меня? Пусть собаки сожрут мою силу, если я пожалею ее для тебя, — взял кумган и стал поливать ей на голову. Две тяжелые смоляные пряди заполнили почти весь медный таз. Тонкие руки в браслетах и перстнях нежно перебирали их. Я лил тоненькую струйку воды на эти руки, на затылок, на маленькие розовые ушки, на стройную, в пушистых завитках волос шею, и колени мои дрожали, губы тянулись к гладкой, чудесно пахнущей коже, и я боялся, что не выдержу. А она, словно дразнясь, мыла их без конца, и когда поднимала голову, в вырезе ее платья я видел маленькие бело-розовые груди с коричневыми сосками. Я задыхался и наконец не выдержал:
— Аллах велик, женге Кулзейне.
— Что? — не поняла она.
— Ах, как вы мне нравитесь...
— О, негодник!
— Нет, я серьезно, женге, я люблю вас. Вы такая красивая...— шептал я и все ниже склонялся к ее шее.
Она сказала совсем не сердито: — Ты что это задумал, негодник? Лей воду... Кулзейне постелила мне стеганое одеяло, положила подушку. На подобной постели мне еще не приходилось спать в этом доме. Но мягкое одеяло казалось мне тверже камня, я ворочался и не мог уснуть. Не спала и хозяйка, я слышал, как скрипела ее кровать. Я не решался пойти к ней, и в то же время желание сжигало меня.
— Кулзейне! — тихо позвал я.
— Ау, — откликнулась она.
— Я мерзну...
— Я же тебе постелила теплое одеяло.
— А мне холодно. Одному трудно согреться... Наступила жаркая тишина. Я вновь не выдержал:
— Кулзейне!
— Ай.
— Честное слово, я дрожу.
— Что же мне делать?
— У тебя я согрелся бы.
— Так чего же ты лежишь...
Не успела она досказать свои слова, я уже был у нее под одеялом и жадно вдыхал душистый запах нежной прохладной кожи...
Я — ТВОЯ
— Ну и что дальше? — спросил Мамбет.
Поудобнее устроившись на канатах, Мардан не спеша продолжал рассказывать:
— Зимовал я у Усейна. Он не платил мне ни полушки. Да я и не просил у него. Боялся, что начнет вычитать за потерянного быка. Еды было вдоволь, да и чем другим, слава аллаху, обижен не был. Жил я припеваючи за пазухой у Кулзейне. Чего еще мне? Но не сиделось мне на одном месте, и я задумал уйти от хозяина, как только потемнеет от солнца лед на Иртыше. Задумать-то задумал, а расставаться с Кулзейне тоже неохота. Пошел к ней и говорю:
— Я ухожу от вас, Кулзейне.
— Куда ты?
— На пароход наймусь.
— Не уходи, ради меня...
— А чего мне ради тебя не уходить? Все равно женой ты мне не будешь.
— А разве нам плохо сейчас?
— Нет. Я батрак, ты хозяйка. Жена Усейна. Я не хочу делить тебя с ним.
— Но ты же знаешь, что я твоя. Вся твоя...
— Выходи за меня...
— Нет, не могу...
— Вот, видишь... Не могу я любить с оглядкой, не по нутру мне... Вот я и ухожу...
Заплакала она, кинулась мне на грудь, оплела руками, бьется, как птица в силке, и говорит шепотом:
— Твоя, твоя... уйду с тобой хоть на край света...
— Правда?
— Правда, милый, я твоя!
И решили мы с ней: как вскроется река, уплыть вдвоем на пароходе.
ОБРЕЧЕННЫЙ КИИК НА ОХОТНИКА СКАЧЕТ
... Случилось это в одну из пятниц. Усейн ушел в мечеть читать намаз. Оттуда он хотел заглянуть к приятелю в гости. Жену он оставил дома, и Кулзейне поругалась с ним. «Мои ноги отсохли, что ли, ходить в дома, куда тебя приглашают?» — кричала она. И только Усейн за ворота, она велит мне запрягать в кошевые санки двух рысаков из конюшни. Я запряг, сам сел за кучера, разобрал вожжи и глянул на нее: «Куда?»
— На лед, — говорит, — промнем рысаков!
А надо тебе сказать, у тамошних богатеев зимой одна вабава — гонять по льду Иртыша рысаков. Гоняют и в будние дни, ну, а в пятницу по вечерам там такое творится... Версты три по Иртышу, куда ни глянешь, мчат в морозной дымке рысаки, а в легких беговых саночках сидят баи, купцы, чиновники с женами, дочерьми, любовницами. А на берег весь город высыпает, спорит, чьи рысаки лучше, чей платок богаче, чья жена красивее.
Мы с Кулзейне с шиком промчались через весь город прямо на иртышский лед. Чую — смотрят на нас, и еще больше поддаю жару. Кони стелются, идут ровно, без сбоя. Дух захватывает. А за спиной смеется молодая красавица в дорогих мехах, тело ее еще хранит запах безумной ночи, твой запах, запах твоей ночи. В лицо тебе кидает морозную пыль, спереди, сзади ты слышишь храп чужих коней и визг седоков, кажется, что санки летят по воздуху, а дробная рысь кованых копыт как в барабан гремит о ледяную грудь Иртыша... Гоняли мы рысаков до захода солнца. Уже трудно дышали кони, уже острые морды их стали круглыми и мохнатыми от инея, уже народ стал понемногу расходиться и разъезжаться, а мы все мчались круг за кругом. Но вот чувствую я, что Кулзейне мне протягивает что-то.
— Что это, Кулзейне?
— Возьми! На память...
Смотрю — платочек шелковый. Глаза ласковые с горчинкой, губы чуть покривились — вот-вот задрожат.
— Что ты, — спрашиваю, — зачем это?!
— Звала я тебя остаться и жить со мной, — отвечает она, — да не послушался ты. Оно и верно, беркута к неволе сызмальства приучают... Вот и прощаюсь я с тобой. Скоро сойдет лед с Иртыша, и я уже боле ни тебя, ни льда нового на Иртыше не увижу...
Испугался я этих слов, начал говорить ей что-то, успокаивать. А она так серьезно, нежно на меня посмотрела и говорит:
— Нет, чего уж... Поцелуй меня лучше на разлуку... Бросил я вожжи, обнял ее, целую, а сам чую, как бьется она в моих руках, кажется, вот-вот закричит, вырвется наружу ее боль. Но сдержалась, отстранилась от меня, легонько передохнула и приказывает:
— Правь домой, Мардан, откатали мы свое.
Как я правил, не знаю сам. Перед глазами ровно туман какой... Очнулся, когда при выезде на берег кто-то жесткой рукой остановил коней.
— Стой! — говорит Усейн.
Остановились... Усейн сел к нам в санки и всю дорогу до дому молчал. Молчали и мы. Только закрылись за нами ворота, Усейн выскочил из саней и ко мне:
— Атана налет собака, гадящая в чашку, чтоб ноги твоей здесь не было... Вон!!!
Я посмотрел на Кулзейне, но она уже шла, поникнув вся, в дом. Вышел и я за ворота в сырую мартовскую ночь.
ЧЬЯ ПРАВДА?
Я не знал, куда идти. Шел и думал: «Как-то там бедная Кулзейне? Сживут ее теперь со свету... А я? Опять на улице, без гроша в кармане... Да когда же наступит день моей правды... чтобы смог я требовать, а не униженно просить... чтобы хоть чем-то отличался от бездомного пса...»
Так бродил я всю ночь напролет. Горькие, злые, обидные мысли толклись в моей голове. Обидные от бессилия, злые от безвыходности, горькие от отчаяния...
К утру я оказался у дома Тагара. Он знал всю мою подноготную. Знал он и о моем решении увезти Кулзейне и был согласен со мной. Тагар принялся меня утешать.
— Пусть провалится могила ее отца за это! — горячо воскликнул он, узнав об отказе Кулзейне ехать со мной. — Не горюй, жена на дороге, дети в чреслах! На ней свет клином не сошелся...
Жить я стал у Тагара. Вместе мы ждали прибытия парохода, чтобы уплыть на нем вниз или вверх по Иртышу. Кулзейне я не видел, даже на улицу, где она жила, не ходил больше.
— На этом и кончилось? — спросил Мамбет.
— Конец этой истории разыгрался только сегодня вечером, — продолжал Мардан.— Утром ко мне пришла сама Кулзейне. Я спрятал ее у Тагара до отплытия. А сам как ни в чем не бывало целый день слонялся на пристани. Люди Усейна рыскали по всей пристани. Перед самым отплытием вывели мы с Тагаром голубку из убежища. Спешим провести на пароход, укрыть понадежнее. Да не тут-то было! У самых сходен напали на нас джигиты Усейна во главе с его шуряком, плешивым спекулянтом Абирашитом. Только и успел я рвануть Абирашита за ворот шубы, как уже насели на меня с разных сторон. Ну, да мне не привыкать бывать в переделках: кинул я одного, второго, двинул по скуле самого ретивого и отбил Кулзейне. Стою я у сходен, сдерживаю их, а Тагар с Кулзейне уже на палубе. Держался я крепко, да и то сказать, откуда у разжиревших спекулянтов сила, чтобы свалить меня. Кишка у них тонка табунщика осилить. Но правды голыми кулаками не докажешь. Появился Усейн с полицейским, переговорил тот с капитаном, вывели мою голубку и отдали прямо в когти коршуну. Тут и пароход стал отплывать, а вместе с ним и мы с Тагаром. Ты всей этой заварухи не видел, наверно, отсыпался с вахты, а хоть и видел бы... чем бы помог?
Мардан, тяжело вздохнув, смолк. С реки тянуло холодом. Воздух пах влажным снегом и свежей водой. Было зябко и неуютно. Мамбет тоже молчал. Мардан вдруг с натянутой веселостью выпалил:
— Ну как, дружище, проиграл спор?
— С чего бы это я проиграл? Ведь ты же не женился на Кулзейне...
— Но мог бы. Если бы она пришла днем раньше, все могло быть по другому. Сидели бы сейчас мы все втроем и беседовали по душам.
— И все же одинокому ягненку всякая овца мать, да сыт не бывает. Промотаешь свою жизнь за байскими объедками, помяни мое слово, — сказал Мамбет.
Мардан и сам чувствовал свою неправоту, молчал. Пароход торопливо резал тупым носом вязкую непроглядную темень, шлепал по воде широкими плицами, спешил вперед.
ИРТЫШ И ЛЮДИ
Пароход, на котором плыли Мардан с Мамбетом, принадлежал именитому омскому богачу Ганшину. Он владел тремя пассажирскими пароходами и несколькими сухогрузными баржами. Пароходы Ганшина доили и высасывали Иртыш, а вернее — труд прибрежных бедняков. В Омске, Тоболе и Семипалатинске орудовали так называемые «пароходные товарищества». Все они были связаны друг с другом, с другими компаниями. И в «пароходных товариществах» Иртыша имели крупные паи и делили выручку люди, никогда и в глаза не видевшие стремительные, мутные воды славной реки.
Длинен Иртыш. Начинаясь в далеких китайских горах, стекая с ледников дремучего Алтая, он мчится восточной окраиной Казахстана, рассекает Сибирь и врывается в Ледовитый океан. Могуч и своенравен, стремителен и полноводен Иртыш. Когда-то повелением русской царицы Екатерины на его берегах появились старатели. Потому что царице слово «Алтай» перевели как «Алтын тау» — «Золотые горы». На месте поселков старателей и возникли затем города.
Тогда берега Иртыша не были тронуты посевами. Кочевые казахи нагуливали лошадей на его заливных лугах н только изредка, по особой нужде, переплывали бурные воды. Разве не с появлением Омска и Семипалатинска на «дикий брег Иртыша» пришли знание и культура? Техника приблизила далекое, облегчила трудное. Вчерашний абаевский девственный необжитый Иртыш превратился в удобную широкую дорогу. И с этого времени люди начали больше общаться, больше знать друг о друге. Казахские баи стали совладельцами пароходов и тоже принялись выжимать из ранее бесполезного Иртыша завидные барыши. Да и бедняки, раньше не знавшие другой работы, кроме батрачины на степных богатеев, теперь стали наниматься матросами на пароходы, баржи, грузчиками на пристани... Ежегодно ко времени ледохода к берегам Иртыша тянулись из степей отощавшие за зиму джигиты. Многие из них становились грузчиками, и лишь малой части удавалось устроиться матросами. На всех иртышских пристанях работали артели грузчиков казахов. Как только пароход или баржа подваливали к причалу, буйная толпа грузчиков облепляла сходни. Определенных часов работы не было. Есть пароход — есть работа. Грузчики жили впроголодь, еле сводя концы с концами. А осенью, с закрытием навигации, пересчитывали новые дыры и заплаты на своей одежонке. Словно заезженные за лето верховые лошади, отощавшие, с выпирающими ребрами, они со страхом встречали долгую лютую зиму. И только редкие счастливчики, получающие на пароходах регулярное жалование и к тому же бережливые и непьющие, могли к осени похвастать кой-каким приработком. Оттого, что денег было мало и были они случайными, среди грузчиков процветали выпивка, карты, походы в кумысную и к женщинам. И к зиме большинство из них разбитые, раздетые плелись пешком в свои аулы. Так и получалось, что, с одной стороны, Иртыш манил молодежь соблазном крупного заработка, возможностью повидать иные места, а с другой — обирал до нитки, высасывал все силы и выбрасывал обратно в степь.
И все же связанные с Иртышом казахи жили лучше, чем батраки в степи, видели больше, больше понимали, были смелее, опытнее, сильнее. Общаясь с русскими рабочими, сдружившись с ними, привыкнув к городу, к людской толчее, они начинали поиному смотреть на свою жизнь. Джигиты, плавающие на пароходах, знали русский язык, обучались ремеслу. Они любили Иртыш и, отвыкнув от степной подневольщины, даже на зиму оставались в городе. Постепенно таких набралось немало, и на зиму они устраивались в городе извозчиками, грузчиками, кучерами, пробивались случайными заработками и звали друг друга «зимовщиками».
Со временем казахи стали обзаводиться семьями в городе, постоянно служить матросами, кочегарами, механиками и слились с русским рабочим и мастеровым людом. Они раньше степных казахов поняли, где правда, как за нее бороться, и позднее были в первых рядах восставших против самодержавия, бились насмерть с черными бандами белых атаманов и со своими баями.
С незапамятных времен Иртыш был матерью людям, кормящимся его дарами. Он давал воду посевам, траву скоту, мужьям работу. Но жадные компании, вроде ганшинской, торговцы, вроде Шакира, спекулянты типа Усейна припали ненасытными, острозубыми ртами к молочным соскам и терзали, рвали, кусали грудь кормилицы, отпихивая голодных мардагюв. Силой, обманом, разбоем существовали они, и только герой из героев, кремень из кремней мог соперничать с ними. Многие из джигитов, пришедших к Иртышу, не выдерживали и, ослабев в напряженной борьбе, робкие, приниженные уходили назад в степь. Но были и другие. Их не сломила сила богатеев, они закалялись в трудностях, с каждым днем делаясь все сильнее, все тверже, и выжидали своего часа.
Именно такими были Мардан и Мамбет.
ДРАКА
Пришло время осенней поры. Дни стали короче, ночи холоднее, и северный ветер уже схватывал по утрам края лужиц прозрачным ледком. Степняки перебирались в зимовье, а городские жители протапливали печи. Вода в Иртыше стала холодной, и плицы пароходов обросли льдом.
Джигиты, работавшие на пароходе, стали думать, как им устроиться на зиму. Мамбет, как и в прошлом году, решил устроиться на зиму ломовым извозчиком у Ганшина. То же самое решили и другие джигиты. Ганшин набирал ломовых извозчиков из числа матросов своего пароходства, чтобы с открытием навигации были они у него под рукою. Среди джигитов, решивших остаться у Ганшина, были и Ыскак с Нурадилем.
Как-то джигиты спали в пристанской казарме. Среди ночи их разбудил подрядчик Мубарак. Это был один из самых прожженных пристанских ловкачей. Обычно он брал подряд на разгрузку или погрузку судна, нанимал грузчиков и разницу между оплатой клал в карман. Чем меньше плата грузчикам, тем больше разница, и Мубарак — эта ходячая биржа — не упускал случая набить карман. Джигиты знали об этом, но ничего поделать не могли.
— Эй, джигиты! — приветствовал их Мубарак.
— Что, груз есть?
— Есть, сегодня ночью надо срочно загрузить семь и два пассажирских парохода.
Грузчики обрадовались. Они уже больше недели не имели работы.
— Пошли, ребята, — раздались голоса, и джигиты торопливо стали собираться. Через несколько минут сорок крепких мускулистых парней уже подставляли свои плечи под яшики, мешки, тюки. Истосковавшиеся по работе руки ловко подхватывали груз, вскидывали его на спину, крепкие ноги проворно бежали в сторону барж, и громадная гора грузов, еле освещенная керосиновым фонарем, таяла на глазах. К утру джигиты загрузили все семь барж и приступили к пассажирским пароходам. Но не успели первые грузчики подняться по трапу к трюмам парохода, как на пристани показалась еще одна партия грузчиков. Подрядчик этой партии, юркий ногаец, кочетом налетел на Мубарака:
— Вы чего это воруете чужой груз?
— Как воруем?
— Так и воруете! Это наш груз. Мы его еще вчера грузили!
— Чего мелешь, груз пришел только вечером. Мы уже почти кончили...
— Не выйдет! Баста, бросай грузить! Запахло дракой.
В обеих партиях были люди из самых различных мест и самых различных национальностей: здесь были и русские, и татары, и китайцы, и дунгане. Были и хакасы, алтайцы, словом, почти все сибирские народности, но больше всего было казахов-степняков. Ни одна из партий не желала уступить.
В это время Мардан подошел к трапу, с трудом неся на плечах большой ящик с деталями жатки.
— Вернись. Не пройдешь! — остановили его несколько рук.
— Пусти! — рванулся Мардан.
Кто-то резко толкнул ящик. Джигит покачнулся, теряя равновесие, и тяжелый ящик упал, придавив собою Мардана.
— Аттан! — закричали грузчики и бросились друг на друга. Драка сразу же стала жестокой. Разозленные парни молотили пудовыми кулаками, дрались головой, ногами. В партии Мубарака кроме Мардана было ранено еще двое, у одного сломана рука. В противной партии сильно пострадали двое русских и четыре казаха. На шум драки поспешили проснувшиеся пассажиры парохода. Некоторые пассажиры, не ограничиваясь ролью наблюдателей, также приняли участие в потасовке. Одна из дам, желая прекратить побоище, еще больше разожгла страсти. Нурадил не выдержал и выматерил ее. Женщина с плачем убежала на пароход.
Драка уже начала выдыхаться, когда на сходнях показалась обиженная пассажирка в сопровождении военного из младших офицерских чинов.
— Меня оскорбили, — нервно говорила она спутнику, — вот эти.
Офицер деревянным шагом подошел к грузчикам. Подрядчик Мубарак попытался что-то объяснить офицеру, но тот не стал слушать его.
— Убирайтесь с пристани! Немедленно! — отрывисто скомандовал он.
Мубарак неожиданно проявил твердость.
— Не уйдем! — заявил он.
Офицер коротко и сильно ударил подрядчика по щеке. Мубарак упал. Джигиты стояли оцепенев, не решаясь напасть на офицера. Вдруг, раздвинув товарищей, вперед выбежал Мамбет.
— Чего бьешь? Закон есть бить, что ли?!
Сбоку к офицеру подскочила давешняя женщина и закричала:
— Вот, вот, вот этот самый киргиз!
Офицер схватил Мамбета за воротник. Мамбет одним движением отбросил офицера, и тот полетел на землю. Снова разгорелась схватка. Дрались беспорядочно, чем попало. Ногайца-подрядчика сильно ударили палкой, и он, мгновенно огрузнев, мешком свалился под ноги сражающимся. Офицер позорно бежал на судно. Мамбет еле вырвал из рук Нурадила ту самую женщину. Нурадил держал ее за затылок и бил лицом об угол крыльца конторы. Все лицо женщины представляло сплошную рану...
Но вот подоспела полиция... Выстрелы, брань, снова выстрелы в воздух, свист нагаек — и драка стала стихать. Около двадцати грузчиков было арестовано, остальным удалось убежать.
На допросы джигитов водили по одному. Допрашивал их сам пристанский атаман, человек, привыкший к неограниченной власти. Допросы были жестокими, и ни один из них не обходился без мордобоя, но грузчики прибегли к испытанной тактике — притворились ничего не понимающими и ни на одни из вопросов не давали вразумительного ответа. Избитых, измученных джигитов полицийским пришлось стащить в камеры, так и не добившись от них ответа.
Все же некоторые из ребят не выдержали круглосуточного допроса, и в камере вдруг раздались жалобы:
— Теперь Сибири не миновать.
— О аллах, даже родных не сумеем повидать...
— А все из-за Мамбета, он-то убежал, а мы отвечай за него...
При последних словах Мардана словно кто подбросил на нарах.
— Заткни свою глотку! — заорал он. — Ты и ногтя Мамбета не стоишь, сопля! Будь он на твоем месте, он бы радовался, что товарищ на воле. Да и не бросит он нас, вот увидишь. А будешь еще скулить, собственными руками зарежу! — и Мардан так выразительно показал, как это он сделает, что парень испуганно отодвинулся в дальний угол камеры.
А на следующий день узники получили вести с воли. Мамбет писал:
«Не отчаивайтесь, друзья! Дело на мази. Ребята собрали пристанскому атаману деньги, и скоро вас должны выпустить...»
Так и случилось. В тот же день атаман, сильно подобревший от ста рублей, полученных им, освободил узников.
Выйдя из тюрьмы, ребята увидели, что наступила зима. Мамбет и Нурадил, как и договаривались заранее, пошли к купцу Ганшину в ломовые извозчики.
Мардан отправился искать работу на Экибастузских шахтах.
«КАМПАН»
Зима. Сибирский мороз обжигает лицо. Низенькие, полузанесенные снегом домишки робко глядят на улицу подслеповатыми оконцами. Все кругом искрится и скрипит, визжат полозья, хрустят колеса, скрипят сапоги, шкурлычаг валенки. Веселый жестокий мороз пахнет бодростью, силой, свежестью. Прохожие закутаны так, что наружу торчат только скулы да веселые озорные пуговки глаз.
Впрочем, не всем весело на омской главной улице в лютую стужу...
Вот, развалившись в удобных беговых санках, откинув с разгоряченного лица воротник волчьего тулупа, мчит по улице почтенный спекулянт. А вот по закраинам сугробов торопкой рысью поспешает к базару продавец кизяка, на ходу он безуспешно пытается поплотнее закутаться в рваный чекмень.
По улице — со стороны вокзала — движется беспрерывный поток саней — грузы крупнейшего омского торговца Ганшина.
Ганшинские ломовые извозчики образовали целый обоз. На передних санях, груженных разной величины ящиками, лошадьми правили джигиты из родов Кереку, Казбек и Шаршай, следом за ними ехали Жаксыбай и Мурат из рода Каракесек, а далее правил санями, груженными добрым десятком огромных бочек, наш старый зкакомец Мамбет.
Обоз Ганшина поравнялся с длинным глинобитным забором. Идущий возле передних саней невысокий кряжистый Шакшай бросал по сторонам быстрые настороженные взгляды. Но вот он решился — неуловимым движением сорвал белый из свежих досок ящик и одним махом перебросил его через забор. Проделав все это, Шакшай продолжал невозмутимо шагать рядом с санями, не выпуская из рук ременные вожжи, обросшие куржаком. Никто на улице не успел заметить ничего подозрительного. Только один человек, кроме Шакшая, видел, куда полетел ящик. Этот человек подождал, пока пройдет обоз, отошел к концу дувала и перешагнул через него. За дувалом он сразу же увяз по колено в снегу, но это не остановило его. Человек спешил забрать ящик и выбежать полем и переулками на другую улицу. Этот человек был Сатан.
Сатан в этом городе появился осенью. Услыхав от джигитов каракесекцев, что в Омске неплохие заработки, он присоединился к ним. С тех пор он перепробовал всякую работу: и кирпичи таскал, и сараи подправлял, и воду носил — но еле-еле сводил концы с концами.
Здесь, в Омске, он и познакомился с Шакшаем, который сколотил артель из ловких, верных джигитов, и основным занятием этой артели было воровство. Шакшаю понравились смелость и расторопность Сатана, и понемногу он стал поручать ему разные дела. После же того как Сатан, разобрав крышу конюшни одного богатого русского купца, увел его аргамака, при этом пуля сторожа продырявила на нем рубаху, а он все-таки не бросил лошади и ушел от погони — после этого Сатана стали уважать все члены воровской артели...
Сатан добежал до места, и тут его окликнул Сулейман:
— Эй, джигит, извозчик нужен?!
— Нужен!
— Куда?
— До Нахаловки сколько возьмешь?
— Э, сколько дашь, не обидишь, клади ящик в сани. Сатан, тяжело дыша, повалился в розвальни, а Сулейман закрутил кнутом, погоняя пегую хромоногую клячу.
Отъехав от моста, Сулейман с трудом повернулся к Сатану и просипел:
— Куда повезем?
— К тебе домой! Шакшай так велел,— ответил Сатан.
КУМЫСНАЯ
Трое друзей жили в домике старухи Ольги на окраине Омска, в Нахаловке. Джигиты величали хозяйку по имениотчеству — Ольгой Никифоровной. Одного из них звали Нурадил, другого Черкес Али, оба они летом работали на пароходе Ганшина. Третьим был Сатан. Неделю назад Черкес Али нашел эту квартиру, и они поселились здесь.
В один из воскресных вечеров трое друзей вышли на базарную площадь прогуляться. Путь их лежал прямехонько в кумысную Белгибая. Кумысная Белгибая была одним из известнейших мест в городе. Сам Белгибай славился как набожный человек, ревнивый почитатель заповедей шариата. Он не пропускал ни одного из пяти ежедневных намазов и, заказав суфию мечети очистительную молитву за три медяка, считал себя свободным от грехов и снова шел в кумысную.
Все окрестные аулы сливали свой кумыс в бочки Белгибая. Белгибай разбавлял его водой и поил посетителей. Иногда знатоки спрашивали Белгибая:
— Не жгут ли ваш карман деньги, полученные за воду?!
— Уа, аллах. Да пусть на том свете я не увижу светлого лика единого и неделимого, если здесь есть хоть капля воды, — торжественно клялся Белгибай и добавлял. — Времена сами знаете какие, кобылицам и тем спокойно не дадут попастись — вот и кумыс жидковатый....
Когда трое друзей открыли дверь в кумысную, их оглушил шум веселого беззаботного пьянства. Низкое просторное помещение полуподвала было битком набито гуляющими. Друзей заметили.
— Эй, идите сюда!
— К нам!
— Сюда пробирайтесь! — раздались со всех концов призывные возгласы.
Вот, покачиваясь, поднялся Черный Казбек, уступая место, вот из другого угла вынырнул Галабагали и ухватился за Мамбета. Но друзья решили, что лучше сидеть за отдельным столом, и разыскали в дальнем углу свободное местечко.
Черкес Али стукнул кулаком по струганым доскам стола и крикнул в пространство:
— Беке, нам кумысу!
Распаренный, весь в мелких капельках пота, Белгибай ловко орудовал черпаком у огромной кумысной бочки. Услышав приказ Черкеса, он сделал вид, что вытер руки о влажный кожаный передник, и, налив четвертную бутыль кумыса, вместе с пестрыми чашками поставил ее перед друзьями.
— Пейте, родные, кумыс, как шестнадцатилетняя девушка, — пошутил он и рысью устремился на новый призыв. Торговля шла хорошо, и Белгибай работал в поте лица своего. Кумысная была местом сбора всех омских казахов зимою и летом. Не было ни одного джигита, не побывавшего в этом месте. Здесь сидели казахи из Каркаралы, Баяна, Кереку, Атбасара, Кокчетау, Тургая, прииртышские, сибирские казахи. Особенно большой наплыв посетителей был летом, когда джигиты со всех мест собирались в Омске в поисках работы. Но и зимой кумысная не пустовала, около шестисот-семисот джигитов ежегодно оставались зимовать в Омске, работая грузчиками, извозчиками, перебиваясь поденной работой. Да и казахи из окрестных аулов, бывая в городе, не проходили мимо кумысной Белгибая.
Друзья выпили по одной чашке кумыса и стали оглядываться. Сегодня кумысную заполнили пристанские рабочие, рабочие с бойни, извозчики. Все хорошо знали друг друга. В кумысной пировала и «верхушка» — спекулянты с базара, гимназисты, семинаристы. Сидели здесь и степняки в огромных овчинных тулупах и лисьих малахаях с нагайками за кожаными дедовскими поясами. Словом, «кумысный дом» Белгибая собрал всех представителей казахского населения Омска и его окрестностей: баев, мирз, рабочих, спекулянтов, учащихся, батраков, воров и просто голытьбу.
Воздух в кумысной был невероятно густ, и нельзя было разобрать, чем же сильнее пахло: кожами и потом или же водкой и кумысом.
Наши друзья чувствовали себя как дома. Кругом знакомые лица, свои ребята. Хотя эти ребята и собрались сюда из «сорока мест и родов», но все были дружны. Особенно эта спайка проявлялась во время скандалов и драк. Тогда джигиты Арки, Каркаралы, Прииртышья и других мест объединялись против общего врага, которым чаще всего была «верхушка». У ребят были свои клички, данные им за те или иные свойства друзьями. Черкес Али, например, получил свое прозвище за пристрастие к кавказской одежде, он зиму и лето не расставался с черкеской и длинным кинжалом.
Высокого, очень сильного парня прозвали Черный Казбек за его литые бугры мышц под загорелой до черноты кожей.
Говорливого Жукена, способного часами болтать на самые невероятные темы, называли Курпаткин в честь анархиста Кропоткина.
Клички были самого различного сорта: Бочка Бекжан, Мокрогубый Кали, Гришка Кали, Рыжий Жапар. Друг друга джигиты называли только по кличкам, забывая об именах.
В одном из углов кумысной шла оживленная игра в карты. Банк держал кадет Ыбраим, одетый в офицерскую форму. Ыбраима хорошо знали в Омске. Его аул был недалеко от города, и богатство отца позволяло сыну вести беззаботную жизнь.
Сегодня Ыбраиму везло. Он важно пыхтел толстенными папиросами, небрежно перебирал кучу радужных бумажек, лежащую перед ним, и неуловимо быстрыми опытными движениями коротеньких пальцев сдавал карты.
За одним из столиков сидел кучер купца Гайноллы Кокбай и, терзая коротенькую, потемневшую от старости домбру, пытался петь голосом, походившим на свист треснувшей камышины.
Белгибай изредка подбадривал его криком: «О, бале!»
Рядом со столиком Черкеса и его друзей четверо перекупщиков до хрипоты спорили о барыше за проданную партию коней.
Вдруг раздались хлопки в ладоши и требовательные крики. Это посетители просили домбриста Кокена сыграть им несколько кюев.
Кокен — бедный джигит, ничем особенным не отличался, кроме своей способности играть на домбре все, что ни прикажут. Как только Кокен взял инструмент в руки, джигиты очистили в центре кумысной место и стали вокруг него плотным кольцом. Кокен подкрутил колки на домбре, выскочил на середину круга и, заиграв «Черного иноходца», сам пустился в пляс.
Джигиты восторженно загудели, подбадривая любимца.
Кокен вытворял чудеса с домброй: он играл не только на ее струнах, он щелкал по ней, ударял ладонью и локтем как заправский тамбурист, домбра побывала у него за спиной, над головой, между ногами.
Зрители восторженно ревели. Раздался мощный голос Черного Казбека:
— Ящик! Ящик!
— Ящик, ящик! — подхватили все.
Белгибай принес средних размеров ящик, который Кокен одним движением поставил себе на плечо, и стал играть и отплясывать «Камаринского».
В самый разгар веселья в «залу» вошла дочь Белгибая Камеш.
СКАНДАЛ
Камеш недурно играла на гармони, и компания, зная это, восторженно приветствовала ее выход. Шумные аплодисменты и не менее шумные просьбы заставили двадцатилетнюю певицу послать за гармонью. Затем она села неподалеку от Ыбраима.
Ревнивый взгляд Черкеса Али, с недавних пор мечтавшего об объятиях хозяйской дочки, не упустил, какими взглядами обменялась та с краснорожим кадетом.
Словно нехотя Камеш растянула меха гармони, улыбнулась Ыбраиму, и «залу» заполнил ее чистый, сильный голос:
Чернобровая, тебе поклон.
Я тоской любовною оглушен,
и слеза сползает на ресницу
горечью всех памятных времен.
Ничего дороже нет тебя.
Если, красотой своей слепя,
где-нибудь такая же родится —
разве заменит она тебя?
По тебе, одной тебе грущу,
лучшего на свете не ищу.
Камеш пела песню Абая, и, очарованные мелодией и словами песни, слушали ее джигиты. Игроки бросили карты, чаши с кумысом, все замерло. Когда смолкли последние звуки гармони, вспыхнули такой силы рукоплескания, джигиты так громко выражали восторг, что даже Камеш, привыкшая к полупьяному обожанию, смутилась. Гимназист Жумаракым по европейскому обычаю поцеловал ей руку, чем вызвал шумное одобрение всей залы. Такой успех прыщеватого гимназистика привел Ыбраима в ярость. Зато компания Черкеса Али, заметив налитый кровью взгляд кадета, пришла в восторг. Все подмигивали, толкая друг друга в бок.
После этого Камеш спела «Дудар», «Кара орман» и еще несколько песен. Когда она пела известную татарскую песню «Зиляулук», горло у нее вдруг перехватило. Певица закашлялась и выбежала.
— Чахотка у нее! — пояснил кто-то Сатану. Но джигит не успел посочувствовать певице...
— Дайте домбру Сатану! — закричал Нурадил. — Дай домбру нашему Сатану!
Все заинтересовались новым певцом, и домбра в мгновенье ока оказалась в руках Сатана. Сатан по-своему настроил инструмент и вполголоса размеренно начал петь озорную песню знаменитого Безлошадного Мусы:
Если девушка стан удивительный свой
Не обвяжет платком, словно синей весной,
И коня Мустафа заберет вороного —
Ты меня называй тогда пешим Мусой.
Четкий ритмичный рисунок песни, ее задорные слова и голос певца, свободно и легко ведущий песню, заставил зрителей широко вздохнуть и выразить свой восторг криками:
— Уа, баракелды! Давай, Сатан!
Ыбраиму уже давно не нравилось поведение наших друзей, а тут еще неожиданный успех этого молокососа, и, оторвавшись от столь любезных его сердцу карт, он рявкнул:
— Прекрати!
Все стихло. Авторитет задиристого кадета был слишком велик. И только Черкес Али, задыхаясь от ярости, шептал товарищам:
— Пусть наши головы побелеют от сибирских снегов, но мы должны проучить этого гада!
— Скандал нужен! Скандал!— подхватил Нурадил. — Ребята поддержат!
— Без скандала нельзя,— гулким басом подтвердил Бочка Бекжан. — Гришка Кали проигрался ему вчистую.
Черкес Али с нарочитой медлительностью поднялся с места и подошел к играющим.
—Ты чего дрожишь, как баран под ножом? — равнодушно спросил он Гришку Кали.
— Ой бай, — неожиданно завопил тот, — обманывают меня!
— Ну-ка, дай мне карты! — Али вырвал из рук Гришки карты.
— Он сам... сам... ты не мешай! — путая казахские и русские слова, брызгая слюной, накинулся Ыбраим на Черкеса. Но Али не так-то легко было смутить. Он прочно уселся против кадета и угрюмо бросил:
— Все равно! Айда, ходи!
Это была обычная повадка джигитов. Когда кто-нибудь из них играл в карты, все остальные, что говорится, «держали за него мазу». Если их товарищ выигрывал, то он честно ставил весь выигрыш «обществу», и деньги пропивались — неважно как: то ли на кумысе, то ли на пиве. Если же свой проигрывал, то джигиты или складывались и платили его проигрыш, или затевали драку, и все карточные счеты ликвидировались добрым мордобоем.
У Ыбраима в этой кумысной была своя компания дружков, поэтому он не особенно испугался, когда против него сел играть Черкес.
Раньше им не приходилось сталкиваться, и Ыбраим чувствовал себя довольно уверенно.
Черкес первым же ходом нарушил все принятые правила игры, побив туза шестеркой и забрав взятку.
Ыбраим свирепо уставился на Черкеса и схватил его за руку.
— Отпусти руку!
— Если ты, шпана, сейчас не уйдешь отсюда, плохо тебе будет, — с расстановкой внушительно проговорил Ыбраим.
— Ну-ка, попробуй вывести, если ты бог! — презрительно усмехнулся Черкес.
Дальше терпеть такую наглость Ыбраим не мог. Он размахнулся и ударил Черкеса. Одним прыжком Али перескочил через стол и навалился на Ыбраима. В тот же миг вспыхнула всеобщая свалка. Дружки Ыбраима — учащиеся, спекулянты, ринулись со всего зала на помощь, но навстречу им поднялись со своих мест грузчики, ямшики, пристанская голь. Их крепкие кулаки, жилистые руки и отчаянная решимость быстро перевели драку в одностороннее избиение. В ход пошли скамейки, столы, четвертные бутыли — пустые и с кумысом.
Черкес Али выволок обомлевшего от страха Ыбраима во двор. Здесь он выхватил кинжал со словами:
— Зарежу как собаку!
— Ради бога, ради бога! — взмолился кадет, в отчаянии хватаясь за полы черкески.
Выбежала Камеш, с плачем ухватилась за руку с кинжалом. Черкес несколько раз пнул своего врага и, схватив Камеш за руку, пригрозил ей:
— Я тебя знаю, но если завтра меня возьмет полиция — обоим вам несдобровать — прирежу, как щенят. Скажи это ему, если не окочурится со страху!
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Зима в этом году была долгая и затяжная. И только к концу апреля седая старуха, недовольно бормоча, нехотя уступила свое место юной проказнице весне. В мае все уже зеленело, играло на солнце буйными красками молодости.
В просторной зеленой пойме небольшой речушки приютилась жалкая развалюха пастуха Ыскака. Но свежая зелень, чистый воздух, тишина скрадывали нищенскую обстановку самого жилья, заставляли забыть о грязных «рокопченных стенах, о низком, готовом обвалиться потолке.
Вот к этой-то лачуге потянулись однажды майским утром из Омска гости. Прибывали они по одному, по два, иногда целой компанией, и в основном это были учащиеся со своими подругами. Молодость, избыток энергии, первая прогулка за город после долгой распутицы — все это заставляло звонче смеяться, громче петь и беспрестанно ощущать в себе тот запас жизнерадостности и веселья, без которых немыслима молодость.
Сатан был в доме Ыскака своим человеком. Ыскак тоже оказался из рода Каракесек, и это обстоятельство еще зимой сблизило с ним Сатана. Джигиту не впервой было проделывать пятикилометровый переход, чтобы принести родственнику городских гостинцев — чаю, сахару, соли, а иногда и твердых, как камень, пряников, облитых сахарной глазурью. В свою очередь в доме Ыскака обшивали Сатана, стирали его немудреное белье, следили за одеждой — когда заплатку поставить придется, когда на полушубок баранью шкуру дать. Словом, Сатан был в этом доме своим, и когда он вчера, по обыкновению, пришел проведать Ыскака, тот сообщил ему, что завтра здесь молодежь собирается провести праздник весны, который они как-то чудно называют «маевкой». Ыскак пригласил Сатана также принять участие в этом пиршестве. И Сатан рано утром тоже отправился из города в гости. По пути его обгоняли извозчичьи пролетки, верховые, а когда он подошел к заимке Ыскака, там уже полным ходом шло приготовление к пиршеству. Ыскак с женой носились как угорелые. То требовалось наточить нож, чтобы зарезать овцу, то нужно было ставить самовар и раздувать уголья в нем дырявым сапогом. Сатан тоже изо всех сил принялся помогать Ыскаку.
Надежда вдоволь поесть свежего мяса заставляла Сатана работать проворно, сноровисто. Он быстро снял шкуру с зарезанной овцы и принялся за разделку туши. Таким горемыкам, как Сатан и Ыскак, вдоволь поесть свежего мяса это уже само по себе праздник. Недаром ведь говорится: «Бедняку сытно поесть — что скупому разбогатеть». А зачем собралась сюда «ученая молодежь», им не было никакого дела.
А в низенькой обшарпанной каморке Ыскака между тем разгорались страсти. Собранием руководил круглолицый толстенький джигит, в которого, казалось, ткни палец, и потечет розовый прозрачный жир. Он говорил:
— При ближайшем рассмотрении деятельности нашего общества можно наблюдать следующую картину. В обществе тридцать восемь членов. Большинство из них активно работает по заданию общества. К настоящему времени многие из заданий выполнены, но с огорчением должен заметить, что некоторые наши задания не выполнялись вообще. В основном это касается нашей работы в городе. Выпуск журнала, организация вечера отдыха с агитапионными целями, сбор средств помощи нуждающимся учащимся — ничего из этих намеченных мероприятий проведено в жизнь не было. Причиной этому, с одной стороны, слабая дисциплина членов нашего общества, с другой стороны — недостаточность денежного фонда, которым мы располагаем. Несмотря на это, будет в корне неверным утверждать, что правление общества не ведет никакой работы. Егли в городе наша деятельность проявляется довольно слабо, то в степи мы заметно активизировались. Посланные нами в степь от имени общества люди прекрасно справились с задачей. К примеру, они собрали более тысячи подписчиков для газеты «Казах». В кассу поступило 700 рублей в помощь нуждающимся учащимся. Бывшие в нашем распоряжении книги трех поэтических сборников, изданных «Гражданским единством», были распространены в степи членами нашего общества, и деньги уже поступили в кассу общества «Казах».
Была проведена значительная работа среди состоятельных граждан степи, чтобы они приобретали сельскохозяйственные машины и открывали на средства пожертвователей начальные школы в аулах. В двух волостях учреждены займы.
По мере того, как продолжалось перечисление, одни — и это были в основном сидевшие на почетных местах — находили деятельность правления вполне удовлетворительной, и на их лицах утвердились спокойные, уверенные улыбки. Другие, сидевшие поближе к порогу, явно были недовольны состоянием дел и бросали презрительные гневные взгляды на членов правления.
После долгой и утомительной речи председательствующего посыпались вопросы, на многие из которых оратору ответить было явно затруднительно. Страсти разгорались как хорошо просушенные дрова. Особенного накала они достигли, когда стали определять размеры членских взносов.
Начали скромно, с пятидесяти копеек. Но тщеславие и зависть — две неразлучные сестры — скоро сделали свое черное дело. Послышались предложения назначить членские взносы по рублю, по два, три... И наконец чей-то задиристый, сам испуганный своей смелостью голос выкрикнул:
— Сто!!
Наступило молчание, которое взорвалось отрезвляющим смехом.
— Ты что, сумасшедший?! — кричали черноусому, плотному джигиту, предлагавшему эту сумму. А тот, задетый за живое, сердито огрызался:
— Если меньше ста рублей, то надо распустить общество. Укради, а сто рублей в кассу внеси! — упорствовал черноусый.
— Эй, да ты сам первый не найдешь этих денег!— возразили ему.
— Найду. Уведу двух кобыл с Чуйских кочевий — вот вам и сто рублей.
Сатан равнодушно слушал эту перебранку. Он разделывал овцу и не обращал внимания на спор. Он пришел сюда не речи слушать, а приятно и сытно провести весенний майский денек. Вот он и старался честно отработать свою долю участия в пире, усердно орудуя узким ножом. Такого же мнения держались и Ыскак с женой. Хозяйка деловито вертела над огнем баранью голову, вся поглощенная сложным процессом опаливания, а Ыскак с философским спокойствием закапывал в горячую золу почки, куски селезенки и прочую мелочь. Но вот Сатан с хрустом вырезал жирную грудинку и подал ее Ыскаку. Тотчас же хозяин проворно вскочил и спрятал лакомый кусок под мешковину.
— Пусть полежит здесь,— прошептал он и подмигнул Сатану...
А в доме между тем шум все усиливался. Собравшиеся кричали, не слушая друг друга. Возбужденные джигиты вскакивали с мест, готовясь произнести речь, достойную истории, но их нетерпеливо усаживали на место, дергая за одежду, очередные ораторы.
— Не хуже, чем в степи, когда делят приз за байгу, — усмехнулся Сатан.
— А ты думал, — подхватил Ыскак, — самые на спор зловредные эти «ученые»!
— Добро, было бы делить что... А то небось из-за своих газет-мазет спорят... — философски вздохнул Сатан и принялся доканчивать разделку бараньей туши...
ПОД ЗЕМЛЕЙ
Мардану посчастливилось — он получил работу откатчика. С пяти утра до пяти вечера — вот его подземный рабочий день. Нельзя сказать, чтобы он совсем не видел солнца — в воскресенье он мог бы им любоваться, если бы не так сильно хотелось спать... В шахте царила вечная непроглядная темень, лишь изредка отступающая, да и то ненадолго, перед слабым светом шахтерской лампочки. Начальства над шахтерами было едва ли не больше, чем самих шахтеров—десятники, бригадиры, мастера... На шахте процветало взяточничество. Условий для этого более чем предостаточно, не говоря уже о возможности произвольно занижать оценку труда шахтера, мастер мог запугивать еще и целой системой штрафов и вычетов — до нельзя запутанной. Этих штрафов шахтеры боялись больше всего. Главное, непонятно, за что штрафуют и положено за это штрафовать или нет. И почти каждый шахтер с трепетом ждал дня получки, часто оказывалось, что он не только отходил от кассы с пустыми руками, но еще оставался должен администрации шахты. Кроме этого существовала система вычетов — за квартиру, на военные нужды, на очистку уборных, на воду, на керосин, на погребение мертвых, на соль, на дрова и множество других разнообразных, делающих честь изобретательности хозяев налогов.
Главным притеснителем Мардана на шахте был ногаец-подрядчик Токай. Его спекулятивные операции в Семипалатинске не имели успеха, и он решил перенести свою деятелькость на ниву угольной промышленности. Токай был грамотен, недурно, с проворством наследственного торгаша считал на счетах, а кроме того обладал практичным, трезвым умом и деловой сметкой, чего оказалось совершенно достаточно для карьеры подрядчика. Надо отдать справедливость, Токай не зря зарабатывал хозяйский рубль. С утра и до конца смены он не вылезал из шахты, неотступно присматривая за рабочими. Стоило одному из шахтеров зазеваться или же разрешить себе передышку, как Токай был уже тут как тут и с бранью набрасывался на рабочего, не останавливаясь и перед побоями, чему он довольно быстро научился у других подрядчиков. Не один шахтер имел злобу против Токая, но открыто выступить против него боялись...
Под управлением Токая были в основном джигиты-казахи. Заводское начальство, ценя его безусловную преданность и учитывая знание языка, охотно предоставляло ему полную свободу в расчетах с рабочими-казахами. Токай сразу же уловил выгоду своего назначения. Он становился как бы единоличным вершителем судеб своих подчиненных, ибо заводская администрация в своих решениях по поводу увольнении и принятия на работу опиралась только на его рекомендации. Кроме того, забитых, темных степняков было легко обманывать, здесь открывался простор деятельной натуре Токая.
Однажды, когда Мардан выкатывал вагонетку на крутой поворот штрека, впереди показался Токай.
— Стой!
Мардан остановился.
— Почему вагонетка неполная?
— Где же неполная, абзи. Если только не прикажете и на колеса загрузить...
Тут же Мардан получил сильный пинок в живот и покатился на рельсы. Джигит с усилием поднял голову, и взгляд его упал на спокойно удаляющуюся спину подрядчика. Острая резь в животе чуть было не опрокинула его снова на рельсы, но он только сжал зубы и простонал: «Ну, погоди!»
Назавтра он встретил обидчика в дальнем конце штрека.
— Ты что, сволочь, здесь околачиваешься? Отлыниваешь от работы? — заорал. Токай, не дав себе труда посмотреть внимательнее, кого ругает.
— Меня бригадир послал, — угрюмо огрызнулся Мардан, чувствуя, что еще немного — и он не сдержится.
Токай узнал Мардана и внезапно до тошноты явственно ощутил, что он один на один с этим мускулистым парнем, недобро глядевшим на него. Но чувство власти и безнаказанности, к которым он успел привыкнуть, заглушили голос осторожности и, коротко размахнувшись, он с силой пнул в левый бок Мардана:
— На, получай, сволочь!
В тот же миг Мардан перехватил его ногу, резко вывернул ее, отчего Токай, раскинув руки, крутнулся на месте, и крепким пинком в зад бросил обидчика лицом прямо на огромные куски породы. Не успел Токай вскочить, как Мардан уже сидел на нем верхом и левой рукой прижимал его лицом к земле, а правой что есть силы молотил по пояснице и спине. Токай не в состоянии был позвать на помощь, рот его был наполнен угольной пылью, и плохо бы ему пришлось, как вдруг Мардан одумался и, поняв, что еще немного — и он совершит убийство, отпустил подрядчика.
В тот же день Мардан был вызван в контору и уволен.
Около десяти дней Мардан без работы слонялся по поселку. Он пытался договориться на какую угодно работу, на самых кабальных условиях. Но в поселке было полно дешевых рабочих рук, и брать смутьяна никто не желал.
Однажды, когда он бесцельно шатался около шахты, его подозвал старый рабочий Герасимов — человек всеми в поселке уважаемый за справедливость и за полнейшее отсутствие какого бы то ни было низкопоклонства к хозяевам.
Его уважали не только русские шахтеры, его земляки, но к словам его прислушивались и казахи, татары, хакасы — для всех у Герасимова находились свои слова, к каждому у него был свой разговор. Его уверенность, невозмутимость и твердость шли от богатого жизненного опыта и еще чего-то, что оставалось для большинства знавших Герасимова людей тайной. Было известно, что Герасимов сослан в степь с Урала после волнений пятого года, но немногие знали, что он был членом РСДРП и, кроме того, руководителем тайного марксистского кружка в Экибастузе. Шахтеров всегда тянуло к этому сероглазому, на вид такому суровому, а на самом деле добрейшему человеку. Вот и сейчас не ускользнула от его внимания беда Мардана, и Герасимов подозвал его.
Мардан хорошо знал Герасимова и, как все, относился с уважением к нему. Он подошел, поздоровался.
Пристально оглядев его, Герасимов помолчал немного, потом заговорил:
— Трудно тебе, парень, с таким-то характером.
— Какой уж есть, — невесело отшутился Мардан.
— А ты послушай меня, старика, — продолжал Герасимов. — Две стороны у такого характера. Первая — не боишься ты никого, себя в обиду не даешь, гордость не позволяет — это хорошо. А второе — ни с кем не уживаешься, драчуном слывешь, одиночкой бродишь по свету — это плохо. Да неужто в голову тебе такое могло прийти, что в одиночку ты со всеми подрядчиками справишься?! Это же махина... И бить ее нужно товариществом, всем вместе и враз — тогда только толк и выйдет.
Впервые в жизни слушал Мардан столь откровенные смелые слова. Не скоро, не сразу доходил до сознания их смысл, но смелость, покоряющая целеустремленность их, уже завоевали его душу. С этого дня Мардан перестал чувствовать себя одиноким. Герасимов правдами и неправдами устроил его работать в мастерской, где табельщиком был его товарищ Морозов. И день ото дня жизнь Мардана становилась все более осмысленной. Он уже начинал разбираться в том, кто его истинный враг.
Работал Мардан усердно, да, впрочем, он никогда и не чурался работы. Его сильное тело охотно принимало любую нагрузку на мускулы, а пытливый ум жадно вбирал все новые и новые знания. Теперь уже Мардану было не до того, чтобы при любом удобном случае пускать в ход кулаки.
Но однажды он все же не сдержался...
К ИРТЫШУ
Степная зима была в разгаре. Степная — это ничем не задерживаемый стремительный бег ветра, низкие серые тучи и перехватывающий дыхание мороз. Редко выпадали солнечные дни — ветер и без облаков исправно крутил поземку, а то, разойдясь, заваривал и метель.
В один из таких дней, когда плоский диск солнца играл всеми цветами радуги в космах начинающейся пурги, Мардан и Морозов обедали у себя на квартире.
Вдруг снаружи к привычному свисту ветра примешались визгливые крики, брань. Друзья вышли на улицу. Навстречу им большая толпа гнала троих пленных австрийцев. Пленные работали на шахтах. Сейчас же, невесть каким способом вырвав изпод охраны этих троих, толпа учинила над ними форменную расправу. Разношерстную толпу составляли базарная голь, приказчики и подрядчики. Здесь был и Токай со своим другом, тоже подрядчиком, Акишем. Над всеми возвышалась могучая фигура картежника Омара, старого знакомца Мардана. Он бессмысленно вращал посоловевшими от водки глазами и нелепо взмахивал пудовыми кулаками. Пьяная толпа бросала в несчастных камни; звериный согласный вой висел в воздухе. Слепая жажда крови, стремление убивать владело этим скопищем, и из всех глоток взмывал, пробиваясь сквозь поземку к равнодушному небу, вопль: «Бей!»
— Бей собак! — орал десятник Соловьев.
— По голове его, по голове! — задыхаясь, кричал подрядчик Токай и совал в руку Омара булыжник.
Вид у всех троих пленных был ужасный. Кто-то уже успел сорвать с них армейские ботинки, и они бежали теперь босиком по скользкой, припорошенной ледяными крупинками земле. Лица их были залиты кровью, шинели разорваны. Они бежали, обреченно вытянув вперед руки, спотыкаясь, падая, вновь поднимаясь под зверскими пинками, Они не кричали уже — бесполезно было кричать, и только хриплое, затрудненное дыхание вырывалось из черных ям на месте ртов, разбрасывая кровавые капельки угасающей жизни.
Мардан распахнул дверь, втолкнул пленных в комнату, рывком захлопнул дверь и стал, заслоняя ее широкой спиной.
— Убью, кто сунется! — сказал он тихо, но так, что услышали все.
Мардан, оставив дверь на Морозова, схватил за ворот Омара, и две звонкие пощечины разорвали полную ожидания тишину. Омар сразу отрезвел и недоуменно оглянулся вокруг, соображая, как он здесь очутился. Но остальных угомонить было не так-то просто.
— Врага укрываешь, паскуда! — выскочил вперед чернявенький парень, известный башибузук и заводила драк. Он часто дышал и, нервно оглядываясь по сторонам, стал боком приближаться к Мардану, держа руку за пазухой полушубка. Мардан спокойно выждал, когда он подойдет вплотную, и одним ударом кинул его под ноги дружкам.
Чернявенький с воплем вскочил, в руке у него блеснула сталь. Дружки собирались было уже скопом навалиться на Мардана, и неизвестно, чем бы кончилась эта стычка, если бы не появился Герасимов с десятком товарищей шахтеров.
— Дураки безмозглые, — говорил Герасимов, расталкивая толпу, — за что бедняг мордуете?! Они такие же рабочие, как и мы. Думаете, по своей охоте они на фронт пошли? Дудки, небось ихние цари да богатеи расстарались!.. А ну, расходись, расходись, говорю...
И таково было влияние Герасимова, к тому же подкрепленное недвусмысленным выражением лиц подошедших шахтеров, что толпа, шумно матерясь, все же разошлась…
... А на следующий день Мардана вызвали в контору и рассчитали, на этот раз уже окончательно, за дебош и драку в поселке. Урядник кроме всего прочего «отечески» посоветовал Мардану подобрупоздорову убираться из Экибастуза.
Герасимов провожал Мардана до окраины поселка, где начинался большой шлях. Вместе с Марданом уходил Омар, которому по роду его деятельности нельзя было долго задерживаться на одном месте.
Сухой морозный снег равномерно скрипел под ногами, горизонт терялся в белесой дымке, неясные серые тени колыхались сбоку, а где-то лежал еще закованный в ледяную броню, но уже наполненный некстовой весенней силой могучий Иртыш.
Часть третья
БЫСТРИНА
ЧЕРНАЯ ВЕСТЬ
Мобилизация!
Это слово перевернуло жизнь казахов в Омске, да и не только в Омске. Повсюду, где жили казахи, черным вихрем пронеслось это слово.
Как всегда, слухи перевирались, и в конце концов трудно было отличить правду от вымысла.
Сатан услыхал, что джигиты убегают из города, и поскорее, бросив дела свои, поспешил к дому Сулейманабиржевого. Его встретила испуганная Муксипа.
— Абау кудайым, вы еще здесь?!
— Что случилось?
— Все бегут из города...
— Куда?— спросил Сатан, но Муксипа ничего толком не могла объяснить. Она только несвязно бормотала, что все джигиты убегают в степь от «мебилизации» — и Шакшай, и Жакшай, и Myкыш, и Кокыш — все уже с утра убежали из города...
— Где Сулейман?
— Сейчас только пошел на пристань, проводить последних джигитов на пароход... Бегите и вы, а не то поймают и на войну погонят...
Сатан выскочил на улицу и стал как вкопанный, не зная, куда бежать. «На квартиру, забрать вещи?.. Нет, туда нельзя. Может уйти пароход... На пристань...»
И Сатан затравленным зайцем бросился к пристани.
Кассу речного вокзала осаждали джигиты из рода Каракесек. Расхватывались последние билеты на ближайший пароход.
— Ой-бай, мне тоже билет! — заорал Сатан, с ходу врезавшись в толпу у окошечка.
— Давай деньги! — крикнул кто-то. Сатан впопыхах сунул все свои сбережения в чью-то протянутую руку, которая, на счастье, оказалась рукой Шакшая.
Тут же рядом Сатан встретил Сулеймана биржевого.
— А-а, Сатан, хорошо, что ты успел, — обрадовался он. — Я думал, отстанешь. Ну, ничего, теперь вот с джигитами выбирайся в степь... Там безопаснее...
— А ты как же?
— А что нам сделается? Перебьемся как-нибудь... Да и бежать некуда... От семьи не убежишь...
— Переехали бы в свой аул...
— Э-э, аул без меня не опустеет, да и со мной многолюдней не станет!
— Но ведь говорят: «И яд можно принять вместе с родом», — вмешался третий джигит. На что биржевой невесело усмехнулся.
— Э-э, птенчик, что мне делать в степи?! Отвык я от той жизни, да и она от меня отвыкла...
... Сатан схватил за рукав Сулеймана:
— Ага, сходи ко мне на квартиру...
— Что нужно?
— Одежонка кое-какая осталась!
— Э-э, теперь не до нее. Смотри, пароход вот-вот отвалит.
И действительно, уже началась посадка на пароход. Причем джигиты полезли так густо и беспорядочно, что грозили завалить судно набок, и капитан в рупор крыл их с мостика каким-то особым, ранее не слыханным матом, составлявшим, очевидно, профессиональную тайну иртышских капитанов.
Шакшай в последний момент сумел буквально вырвать оставшиеся билеты и растрепанный, торжествующий выбрался из толпы осаждавших кассу. Джигиты ринулись теперь на штурм пароходного трапа. И после некоторых отчаянных усилий им удалось попасть на борт.
Белый пароход быстро отвалил от Омской пристани, увозя в родные степи десятки джигитов, надеявшихся найти там спасение...
«ЧТОБ ТЫ ПОДАВИЛСЯ, КАРАКЕСЕК!»
В Павлодаре джигиты: и каркаралинцы, и баяновцы, и прииртышские — все сошли на берег. В городе было много таких же, как они, джигитов, возвращающихся в степь. Сатану нашлись попутчики почти до самых родных мест. Один из них, Абиш, приходился ему нагаши и был из соседнего с ним аула, а двое других — Кышак и Пышак — были братьями из того же аула. Все трое возвращались в родные места с Алтая, где пытались поймать за хвост переменчивое старательское счастье.
Многие из джигитов по нескольку лет не бывали в родных местах, но никогда в своих странствиях не забывали степных просторов и если встречали весну и провожали осень в далеких чужих краях, то виною этому была нужда. Теперь они с восторгом вдыхали свежий, напоенный полынной горечью ветер и в чудесном забытьи повторяли, как клятву, древние слова:
«О аруах, дай силы коснуться хоть праха Родины». Все четверо образовали в Кереку своеобразный караван. Сложили все свои деньги в общий котел, купили старенькую арбу и тощую лошаденку, сложили в повозку немудреные пожитки, сами решили идти пешком. Кроме того, Сатан на последние гроши накупил на базаре обрывков аркана и ремней.
В Павлодарском уезде паника, вызванная мобилизацией, была в самом разгаре. Джатаки бежали из города в степь. Если раньше город казался им вместилищем всех благ и соблазнов, то теперь бежали они без оглядки в бедную степь свою, подальше от городского многолюдья и городских порядков. Казалось им, что стоит только очутиться в степи, среди родичей, и уж они не выдадут царю своего человека, спрячут, схоронят от беды. В эти минуты даже баи и волостные казались им своими людьми, неспособными на предательство. И бежали люди в степь затем только, чтобы немного погодя снова бежать обратно и затеряться в городском многолюдии, таком страшном для них сейчас...
Уже шли из степи встречные слухи...
— Говорят, из губернии приказали списки по аулам составлять...
— От девятнадцати до тридцати одного года всех мужчин заберут в армию...
Голова кружилась у джигитов от всего этого, страх подгонял их и, не зная, на что решиться: оставаться в городе или же нет, — все же пришли к выводу, что лучше податься в аулы — хоть попрощаться с родными перед разлукой.
Ранним утром они поспешно покинули город и остановились только на второй день в местности Тогызкудук. Неподалеку расположилось стойбище какого-то аула. По расположению юрт джигиты поняли, что здесь собирались провести ас — годовщину смерти какого-то человека.
— Джигиты, нам повезло, — обратился к спутникам Сатан, — наш серый приморился за ночь, а здесь мы и коня попасем и сами отдохнем.
— Да, серому нужно отдохнуть, а то он к вечеру ноги протянет,— поддержал Сатана его нагаши.
— А вдруг эти люди не позволят нам у них остановиться, — сказал Кышак, кивая в сторону аула. — Ведь это бейсентиыны. Они ненавидят каракесеков.
— Ну и пусть, — отмахнулся Сатан, — провизия у нас есть, а пастбище ими не куплено, остановимся вот здесь в сторонке, — и все дела.
— Тяжелый народ эти бесентиыны, — вздохнул Пышак. — Видно, аул богатый, а где богатый, там не жди привета...
— Делать нечего, Серко устал, и нам не дотянуть до хорошего пастбища. Так что давайте располагаться, — решил Сатан.
— Кажется, это аул волостного, — сказал вдруг нагаши, пристально всматриваясь в белую восьмикрылую юрту.
— Э-э, если это аул волостного, то доля наша в наших руках. Отсюда на четырех конях уедем!— весело воскликнул Сатан.
— На своем языке ты уедешь, — оборвал его нагаши Абиш.
За этими разговорами джигиты подъехали к расположенному в стороне роднику, распрягли серого, напоили его и пустили пастись, а сами занялись приготовлением чая.
— Эх, — мечтательно сказал Сатан, — до смерти хочется шурпы похлебать...
Упоминание о жирной баранине, о вкусной шурпе до того расстроило джигитов, что у них не стало уже сил думать о чем-либо другом, кроме сытного ужина. И потому с жадной надеждой уставились на Сатана, когда тот поднялся и словно нехотя предложил:
— А что, если я схожу в этот байский аул да попробую разжиться чем-нибудь.
Сатан направился к самой богатой юрте, что подобно снежной горе возвышалась среди черных, закопченных юрт. Лежащий у порога лохматый волкодав лениво приподнял голову и снова уронил ее на широкие лапы. Сатан с «приветом на устах» вошел внутрь.
У правой стенки на горе подушек отдыхала байбише — крупная, дородная старуха с сытым и чуть брезгливым выражением липа. Увидев, что вошедший чужой, с неожиданной для ее возраста грацией тигрицы поднялась со своего ложа.
— Кто ты?
— Каракесек, — ответил Сатан, незаметно оглядывая жилище.
Его взору представилось богатое убранство просторной восьмистворчатой юрты. У левой стенки сидела молодая келин и, низко опустив голову, строчила на швейной машинке.
Услышав слово «каракесек», она быстро, но внимательно посмотрела на Сатана и, вновь опустив голову, продолжала шить.
— Чего бродишь здесь? — продолжала свой допрос суровая старуха.
— Из Кереку домой возвращаемся.
— А к нам чего пришел?
— Не продадите ли барашка? Байбише вся передернулась:
— Ах, барашка тебе, проклятый каракесек! В прошлом году такие же голодранцы из вашего рода трех коней у меня увели. А тоже прикидывались смирными овечками. Не желаю я больше дела иметь с вашим отродьем. Иди своей дорогой, не погань юрты моей.
Сатан молча принимал поток ругани — чего только не приходилось слышать каракесекам в байских аулах! Он успел заметить, с каким сочувствием глядела на него келин, и теперь терпеливо дожидался, когда старуха выйдет, верно рассчитав, что старухе не под силу выгнать его, а находиться в одной юрте с нежеланным гостем она не захочет.
Так и случилось. Старуха, еще раз прокляв род каракесеков до восьмого колена, смачно плюнула в золу очага, грузно поднялась и вышла из юрты. Тотчас же снаружи донесся ее визгливый голос.
— А-а, собаки! — кричала она женщинам аула. — Вы что, скот уморить вздумали? Табун собрался у родника, а ленивые жабы и не думают налить им воду, — и байбише в перевалку быстро зашагала к черным юртам.
Как только байбише вышла, Сатан смело подошел к стенке и взял в руки домбру. Истосковавшиеся по игре пальцы нежно охватили гриф, легко прошлись по струнам. Он играл кюй «Жамбас сипар». При первых же звуках келин оставила работу и благодарно взглянула на джигита.
— Вы играете кюй нашего аула, — ласково сказала она.
Не прерывая игры, Сатан спросил: — Из какого же вы аула, дорогая?
— Аул мой далеко, — грустно ответила келин,— вот уже четыре месяца, как я покинула его, и до сих пор от родных нет ни весточки. И так тепло стало у меня на душе, когда я услышала, как вы играете «Жамбас сипар».
— Скажи, хорошая, далеко от Жамандалба, или Жаксыдалба твой аул?
— К западу от Жаксыдалба!
— Так не аул ли это Шормана?
— Да, мы родственники Шорману, — келин встала и подошла к двери. Посмотрев, далеко ли старуха, она быстро наклонилась, достала из-под конской сбруи у стены кожаный сосуд и налила в большую деревянную чашу свежего кумыса.
— Пейте скорее, в этом доме не любят каракесеков... Сатан выпил кумыс, поблагодарил келин и ступил за порог.
МЕСТЬ
На бескрайнюю степь быстро опустились сумерки, когда нищенский обоз джигитов покинул негостеприимный аул. Жалобно скрипела арба, увозя немудреные пожитки жатаков, не отдохнувший Серко печально хромал навстречу надвигающемуся мраку. И только Сатан шел весело, пружйнистой походкой. Когда дошли до оврага, густо заросшего кустарником, Сатан внезапно остановил повозку.
— Распрягайте и немного попасите Серко, — сказал он товарищам.
— Зачем? — спросил Абиш.
— Я недостоин джигитом называться, если не отплачу за оскорбление. Отсюда мы должны уехать только на байских конях из табуна этого проклятого аула.
— Что ты городишь?! — испугался Абиш. — Нас догонят и убьют, а не убьют, так последнего коня отберут!
— Нет, нагаши, на этом одре мы не доберемся до родных мест. Ну, кто смел? Айда со мной.
Кышак и Пышак словно воды в рот набрали — ни один из них не решался на такое рискованное дело. Тогда Абиш, видя, что Сатан, в крайнем случае, пойдет и один, со вздохом сказал:
— Ну, что ж. На корабле у всех судьба одна. Все равно отвечать всем, так хоть будет за что.
Сатан и Абиш повязали платами головы, чтобы волосы не падали на глаза, разулись, взяли в руки по уздечке и длинному курыку и двинулись в сторону табуна. До него было еше далеко, и Сатан с Абишем пока что не особенно таились.
Абиш все еще пытался отговорить Сатана:
— Послушай, люди в степи сейчас злы, как балхашские тигры. Если нас поймают — езда на собаках покажется нам слаще весенней байги. Надо скорее добраться до родных мест... Нечего нам наживать беду на свои головы в чужих аулах...
— А как ты доберешься до них? На этой кляче? Может, наши аулы откочевали к самому Балхашу! Хороши мы будем, если пешие начнем их разыскивать по всей степи... Правильно сказал — время тревожное... И я хочу быстрее добраться до своих... Понял?!
В сторонке чуть засветился костер. Ноги почувствовали кочковатую мягкость пахоты.
— Постой, — прошептал Сатан, — наверно, это русские переселенцы выгнали коней в ночное. Подожди меня здесь.
Сатан быстро разделся почти догола, отдал Абишу одежду и неслышно скользнул в темноту.
Абиш с тревогой ждал его возвращения. Ему чудилось, что вот-вот вспыхнет русская брань, зальются в истошном дал собаки. Ему уже мерещилось, как трещат их кости, кости конокрадов под тяжелыми сапогами мужиков. Но вместо этого он услышал негромкий треск сухого стебля: вернулся Сатан, ведя в поводу двух тяжелых битюгов.
— Садись на этого, — прошептал ему Сатан, торопливо одеваясь, — давай скорее.
Абиш с трудом взгромоздился на рослого коня, и они медленным шагом поехали прочь по пахоте в сторону байских табунов.
Когда отъехали достаточно далеко, чтобы без опаски пустить коней рысью, Абиш не выдержал:
— Послушай, эти лошади привыкли к лесу. В наших краях им не выжить...
— Сам знаю. Отвяжись... Эти кони были стреножены, вот и удалось их пешему взять, а как ты думаешь ловить байских скакунов? На своих двоих, сопляк?! — Сатан говорил не зло, просто он чувствовал свое превосходство и ясно давал его понять.
Минут через пятнадцать они приблизились к табуну. Остановившись чуть поодаль в высоких зарослях чия, они стали прислушиваться, стараясь определить, большой ли табун, где табунщики, пасутся лошади или же сбились в косяк и с какой стороны находится хозяин табуна — жеребец.
Через некоторое время Сатану все стало ясно: многочисленный табун спокойно пасся, разбредясь вокруг невысокого холма. На самом холме собрались все табунщики, и у них там шла оживленная беседа. Все складывалось удачно, и темная облачная ночь тоже помогала джигитам.
Сатан с Абишем осторожно въехали в середину табуна и постепенно стали отжимать к краям с полсотни лошадей. Перепугавшийся было вначале Абиш, как только завидел у себя под носом великолепных скакунов, сразу забыл свои страхи и держался молодцом. Как только удалось отогнать косяк в сторонку, Сатан приказал Абишу сбить коней в одну массу, а сам, забрав у него длинный курык с петлей на конце, приготовился отбирать коней. Абиш на своем неуклюжем громадном жеребце рысью скакал вокруг косяка, заставляя его кружиться почти на одном месте. Сатан, придерживая свою лошадь, пропускал косяк мимо себя, опытным глазом даже в темноте угадывая достоинства коней. Вот он пригнулся и, завалившись набок, как это делают степняки, без поводьев, одним лишь наклоном тела направил лошадь в середину табуна. Правая рука его плавно занесла курык, и петля из прочного волосяного аркана, легко соскользнув с шеста, прочно охватила шею каурой четырехлетки. Сатан вывел ее за собой, передал Абишу и опять въехал в табун. Через пять минут джигиты уже отловили трех скаковых лошадей. Но последний конь — стройный гнедой жеребец в белых чулках— долго не давался Сатану. Наконец петля перехватила горло степного красавца. Почувствовав прикосновение аркана, жеребец вздыбился, пытаясь вырваться на свободу, но Сатан крепко держал в руках курык и, подняв своего коня на дыбы, не дал сдернуть себя наземь.
Когда отъехали от табуна, Сатан пересел на гнедого, Абиша посадил на каурую четырехлетку и приказал отпустить коней русских переселенцев:
— Может, это их последние кони, не дело брать на душу грех...
Снова стреножив двух лесных битюгов, друзья вскачь направились к месту, где их ждали товарищи.
Подскакав к повозке, Сатан быстро приказал Пышаку и Кышаку седлать коней, забрать с собой самое ценное, а повозку и хромого Серко бросить...
Через минуту дробный перестук копыт уже таял вдали, а темная облачная ночь укутывала следы беглецов мраком, только на мгновение приоткрывая лунный глаз свой, чтобы показать лихим джигитам дорогу.
ВСТРЕЧА
Скакали всю ночь и только перед рассветом дали передохнуть коням. Все лошади, выбранные Сатаном, в ночной скачке держались хорошо, а гнедой Сатана даже не вспотел ничуть и до самой остановки сохранял спокойное ровное дыхание. Теперь, когда страхи были далеко позади, джигиты шумно и откровенно радовались своим коням, не переставая хвалиться друг перед другом их достоинствами. Пока товарищи отдыхали, Сатан съездил на своем гнедом к ближайшей отаре и прихватил гам барана. Приехав, он поторопил друзей, и к вечеру они оставили между собой и враждебным аулом еще один добрый кусок пространства. На закате выбрали уютное местечко, поодаль от дороги, в ложбинке с ручейком, и, стреножив лошадей, принялись за приготовление сытного ужина, всем существом отдаваясь восхитительному чувству безопасности.
Ароматное варево весело бурлило в казанке, прихваченном Кашыком из повозки. Неподалеку паслись отменные скакуны, не единожды бравшие призы на многочисленных тоях, черная ночь ласково укрывала их бархатными объятиями от нескромных глаз, и уже мерещилось джигитам, как они приезжают в родные кочевья на сытых призовых скакунах, каким почетом встречают их соплеменники. Сатану хотелось петь, и он жалел, что нет с ним домбры, которая так пригодилась бы ему сейчас...
Вдруг все четверо друзей были пригвождены к месту леденящим душу воплем. И сразу за этим со всех сторон послышался нарастающий конский топот. В круг, освещенный костром, стремительно влетели всадники, в неверном свете бегущего пламени казавшиеся огромными.
Первым опомнился Сатан. Одним гибким движением он, не вставая, опрокинулся назад, быстро отполз за куст, вскочил и бросился к своему гнедому — если сражаться, то на коне. Сзади уже слышался глухой треск соилов — это ужасные всадники расправлялись с его друзьями. Сатан уже был около гнедого. Времени, чтобы взнуздать лошадь, не оставалось. Одним взмахом ножа перерезал он путы и уже в следующее мгновение был на коне.
Его заметили, и сразу четыре всадника, отделившись от костра, кинулись к нему. У Сатана в руках не было иного оружия, кроме ножа, а у врагов — березовые соилы, грозные шокпары. Ближе всех скакал громадный всадник на сером коне. Сатан, развернув гнедого и сжав в руке нож, приготовился к нападению. Всадник подскакал к Сатану, резко вздыбил коня и взмахнул шокпаром. Сатан поднырнул под удар и замахнулся ножом. Всадник не растерялся, бросив поводья, он левой рукой перехватил руку Сатана и громовым голосом крикнул:
Бросай нож, гнида!
Сатан оторопел — голос был до странности знаком.
— Мардан?! — крикнул он.
— О-о, Сатан! — услышал он ответ.
«Противники» крепко обнялись, и тотчас посыпались вопросы «откуда», «зачем», «куда»...
А в это время друзья Мардана, связав Абиша, Кышака и Пышака, готовились учинить над ними лютую расправу. И только когда в освещенный круг вступили обнявшись Мардан с Сатаном, они удивленно остановились.
Мардан сказал, что это друзья, и жалобные стоны, гневные крики сменились дружелюбным смехом и шутками.
Мардановских джигитов было около двадцати — все это была молодежь, бежавшая в степь от мобилизации. Здесь же находился и друг Мардана Омар.
Когда все уселись вокруг котла, Сатан спросил Мардана:
— Что думаете делать?
Мардан повернулся к нему всем своим крупным телом и заговорил:
— Э-э, Сатан. Разве может сидеть мужчина дома на подушках, когда такое творится в степи? Вот мы и оседлали по одному скакуну из байских табунов Баян-Аула. Правда, забыли спросить у баев разрешения, — прибавил он под дружный хохот джигитов и продолжал: — Решили, чем погибать в солдатчине в чужих краях, лучше умереть здесь, на родной земле, да кстати и прихватить с собой одногодругого бая...
— А сейчас куда путь держите?
— Прослышали мы, что джигиты рода Ыргайты поднялись на войну за свободу. Вот мы и решили присоединиться к ним. Послушай, давай с нами?!
Сатан вопросительно глянул на Абиша. Абиш, боясь лишиться такого спутника, как Сатан, торопливо заговорил:
— Извини, дорогой, но мы торопимся к сородичам. Сказано ведь, что даже смерть сладка в своем ауле.
Сатан согласился с Абишем, и Мардан больше не настаивал.
До поздней ночи веселились джигиты, устраивая потешную борьбу, рассказывая диковинные истории, подшучивая друг над другом.
А рано утром Мардан, прощаясь, сказал:
— Ждите нас. Мы с ыргайтинцами захватим город Баян, а затем нагрянем в ваши края — в Каркаралу.
— Приезжайте, — ответил Сатан, — мы будем готовы.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Через два дня джигиты добрались до родных мест. Прощались у одинокого мазара на развилке степных дорог. Сатан вскочил на гнедого, и скоро только маленькое облачко пыли показывало друзьям, где он скачет.
Сатан погонял и погонял коня. Гулким барабаном звенела под копытами скакуна дорога, и ветер родины пел ему встречную песню. Он узнавал пригорки, ложбины, знакомый камень промелькнул обочь дороги, прозрачными брызгами окатила его обмелевшая степная речка. Вот и осталось только преодолеть длинный пологий подъем, а там, в низине, откроется кочевье его аула. Аргамак машистыми заячьими прыжками выносится на гребень холмистой гряды и как вкопанный останавливается, сдержанный сильной рукой.
Вместо одного аула Сатан видит внизу в долине юрты пяти или шести аулов. Толпы людей собрались на вытоптанной площадке.
Кто-то из собравшихся на площади людей заметил всадника. И тотчас все стали глядеть в ту сторону, пытаясь догадаться, что это за человек и какие беды сулит его появление. В то смутное время от всадника на хорошей лошади да еще в городской одежде добра не ждали.
А всадник между тем неспешной рысью спускался вниз к аулам. Мчаться наметом ему не позволял древний обычай. И люди, увидевшие это, радостно заволновались:
— Друг едет.
— Да.
— Кто бы это мог быть?
Люди терялись в догадках. А мать Сатана, прижав руки к груди, вдруг тихо проговорила:
— О, аллах, не Сатан ли это?,
— Что ты, старая, где Сатану взять такого аргамака?
— Не знаю. Да уж больно посадка схожа.
В это время старый табунщик Уйрекбай первым разглядел гостя.
— Суюнши! — гаркнул он. — Эй, старуха, готовь суюнши — твой Сатан едет!
Мать покачнулась, ноги не держали ее. Но затем, встрепенувшись, она птицей полетела навстречу сыну. Ее обогнали шустрые аульные мальчишки. Они уже были около Сатана и с шухмом и криками карабкались на гнедого. Сатан соскочил с коня и, бросив его на попечение мальчишек, поспешил навстречу матери. Она крепко обхватила сына, и силы оставили ее. Сатан неумело гладил ее по плечу, рядом стоял его брат Тажи и тоже успокаивал мать, а она, забыв обо всем на свете, только еще крепче обнимала сына, словно боясь разжать объятия и снова потерять его, теперь уже навсегда.
А Сатана уже окружили аулчане, многих из которых он узнавал с трудом:
— Э-э, хорошо, что приехал…
— Будь счастлив, джигит, а ну развяжи хурджин, покажи, что невестке в подарок привез...
— Ты только посмотри — и сам вернулся и какого аргамака привел...
Толпу встречавших растолкал древний старик в потертом лисьем малахае и изношенной шубе на плечах, которую он не снимал несмотря на жару. Сатан узнал его — это был Сандыбай.
— Дай-ка мне обнять тебя, дорогой Сатан, — прошамкал старик, раскрывая объятия, — слава аллаху, увидели тебя живым...
Сатан обнял старика и спросил о здоровье.
— Да вот хожу, родной, как обглоданная незакопанная кость, как муха, забывшая заснуть на зиму... Видно, бог прогневался на меня, не хочет к себе брать, а заставляет смотреть на эту проклятую жизнь. Все перевернулось. Народ обезумел... Но ты молодец, вовремя приехал, сейчас будем обещанный скот резать...
— Обещанный? — удивился Сатан.
— Сегодня здесь собрались наши аулы и хотят молить богов, чтобы отвратили немилость свою от нашего народа. Кто может, барашка режет, кто козу, кто ягненка, а которые и лепешку с айраном пожертвуют— и того довольно...
— Значит, здесь жертвоприношение?
Сатан огляделся. Вокруг лежала высохшая, выжженная солнцем рыжая степь. Неподалеку от родника, что еле выбивался из-под раскаленных камней, белели четыре могилы. Это были гробницы предков Сандыбая, сыздавна пользующиеся в народе славой святых. Со всех сторон к гробницам, возле которых были разложены костры, съезжались верховые, сходились пешие.
Возле костров уже шла деятельная подготовка к жертвоприношению. Но не было слышно обычного при такого рода многолюдных сборищах гомона. Сумрачны, невеселы были лица людей — мужчины молча точили ножи на оселках и резали жертвенный скот, женщины угрюмо, но деловито разделывали туши и складывали в казаны мясо, не оставляя впрок ни кусочка, ибо откладывать впрок от жертвенного великий грех. Да и аульная ребятня, обычно шумным табунком пасущаяся у котлов с варевом, на этот раз присмирела и послушно подносила кизяк и хворост к кострам.
Вскоре сварилось и мясо. Прямо на земле длинными рядами разослали дастархан и уселись вдоль него, располагаясь по старшинству и достоинству. Сандыбай посадил Сатана рядом с собой.
В это время стали разносить блюда с мясом. Перед Сандыбаем остановился мальчик и, протягивая аксакалу вареную голову белого жертвенного барана, от имени всех попросил его прочесть молитву. Все собравшиеся одним общим «аумин» поддержали его просьбу.
Сандыбай величественно провел старческой рукой по серебряной бороде и, раскрыв ладони для молитвы, начал:
О всемогущий аллах! О духи предков!
Исполните желание плачущего народа!
Избавьте нас от великой напасти!
Свяжите убийственные ветры!
Остановите свой гнев!
Пусть веют над Сарыаркой только ласковые ветерки
да проливаются благодатные дожди!
Убей врага его же пулей!
Посмотрите на слезы наших детей.
Не делайте их сиротами!
Успокойте народ, верните мир в наши дома!
О бог! О духи предков!
Не оставьте в беде детей своих!
Изведите черную напасть.
Изведите ее битьем и борьбой!
Мы поддержим вас жертвенной едой!
Аллах велик!—
и Сандыбай провел ладонями по лицу, словно очнувшись от транса. Все повторили его жест, означающий конец молитвы. Лица собравшихся посветлели, точно тяжелая глыба свалилась у них с души. Казалось, что все страхи, огорчения позади, а впереди счастливая жизнь под благостным присмотром самого бога.
Мирные звуки обильной трапезы слышались теперь у священных могил. Не часто удавалось беднякам наедаться вдоволь, и казалось, ничто не в силах лишить их удовольствия полакомиться жирным куском. Но это только казалось. Внезапно послышался крик: «Аульный едет!»
— Кто едет? — переспросил Сандыбай, отрываясь от берцовой кости.
— Ой, отец, Ажибек, аульный едет...
— Чтоб его разорвало. Видно, не с добром появился. Мне видеть этого Ажибека все равно, что собачье мясо есть... — и Сандыбай тяжело стал подниматься, опираясь на суковатую палку.
Аульный, не слезая с коня, подъехал к самому дастархану и приказал Сандыбаю:
— Завтра в ауле волостного сходка, отправляйтесь туда, не дожидаясь ночи.
— Погоди, светик, а что это за сходка?
Ажибек обнажил кривые зубы в нехорошей усмешке:
— Будут составлять списки джигитов на мобилизацию...
Всех словно холодом обдало. Аульный развернул коня и умчался прочь. В угрюмом молчании продолжался жертвенный пир.
ПАВОДОК
Незадолго до этих событий всех волостных собрали в уездном городе Кереку. Никто из аксакалов не знал, зачем их собирают. За последнее время их несколько раз вызывали в уезд, и всегда оказывалось, что звали для внеочередного побора. To требовали лошадей, то мешки, то денег. Волостным зачитывали решение уездного начальства, заставляли поставить свои печати под указом и отпускали восвояси с тем, чтобы к назначенному сроку и лошади, и мешки, и деньги были в наличии.
На этот раз все обстояло иначе. К собравшимся вышел сам начальник уезда и приказал толмачу зачитать высочайший указ от 25 июня «О мобилизации коренного населения Большой, Средней и Малой орды на тыловые работы».
Волостные встретили высочайшее повеление по-разному. Некоторые тут же принялись угодливо поддакивать и выражать чуть ли не восторг, другие же, хмурясь, отводили глаза. Но вслух недовольство свое высказать не решались. Дело кончилось тем, что их заставили расписаться и строго наказали не позднее чем через две недели предоставить списки подлежащих мобилизации.
В тот же день тревожная весть о том, что джигитов с 19 до 31 года забирают в солдаты, облетела правобережье и левобережье Иртыша. В одну ночь ее услышали все найманы и аргыны. Люди не знали, что делать, и со страхом ожидали, как повернутся события. Все притаилось. Каждый род втихомолку обсуждал, как ему спастись от напасти, в какие края откочевать, кому давать взятки и сколько; Все скрытничали, таились друг от друга.
Карабукара косилась на аткаминеров, справедливо полагая, что в предстоящей мобилизации их головы будут откупом за головы богатеев. Всюду царили страх, неуверенность. Ожидали больших событий. В народе жила надежда на неповиновение, на отказ от мобилизации, на восстание. Но кто выступит первым, кто возьмет на себя ответственность зачинщика. Тут нужны смелые, сильные духом люди, нужно, чтобы весь род поддержал смельчаков, благословил их на трудный подвиг.
В это-то смутное время и восстал род Ыргайты.
Полуденная жара заставила все живое искать спасения в тени. И только в одной из ложбин невысокой гористой гряды, в ауле, состоящем сплошь из прокопченных черных юрт, толпился народ. Старики и старухи, женщины и дети, суровые мужчины и отважные джигиты плотным кольцом окружили древнего как мир певца-акына.
Рокочущие звуки домбры и старческий надтреснутый голос взмывают в белесое от зноя небо.
Акын одет в изношенное сумилте с короткими рукавами, голова его повязана черным засаленным платком, из провалившегося рта торчат пеньки зубов, но жилистые сухощавые руки уверенно держат домбру, лицо акына словно озаряет свет вдохновения, и струящиеся из пустых глазниц слезы лишь подчеркивают душевную взволнованность поэта.
Он поет о том, что степняков из года в год притесняют все больше и больше, что уже не осталось ничего, что бы не забрал у них «белый царь» и его прислужники — торе, волостные и бии. Он поет о том, что ненасытный царь и его война забирают теперь самое дорогое у казахов — их сыновей. И он призывает народ не покоряться злой царской воле, не идти умирать за царский трон в далекую гибельную сторону, а если уж придется умереть в битве, пусть это будет на родной земле, пусть храбрые джигиты падут, защищая от притеснителей родной очаг, родной аул...
Нет для степняков важнее слова, чем песня правдолюбца-акына. «Акын — сильнее хана», — говорится в степи. Сыздавна к голосу акынов прислушивалась вся степь, не раз народные восстания возглавляли акыны. Песня, талант акына — дар богов. Не все акыны в степи дружили с правдой, но таких народ не держал в памяти своей. Зато какой любовью, каким почитанием окружал он того, чье слово дышало истиной, было откровенным и искренним, как улыбка возлюбленной, как крик новорожденного, как слезы матери, как клятва воина.
Люди рода Ыргайты слушали степенного Алеке — знаменитого народного акына. В молодости слава Алеке гремела по широкой казахской земле. Он встречался в айтысах с Жанаком, сидел на коврике состязаний против Шоже, он один победил семнадцать акынов из рода Сыбан. Он пел своим слушателям о Бухаре, о судьбе батыра Жасбая. Он пел сказания Асана-кайгы. Он наизусть пересказывал книги Маши-хура «Хал-акуал» и «Сарыарка». Когда он пел о печальной гибели скакуна Кулагера, никто из слушавших не мог сдержать слез.
В последние годы он оставил домбру. Старость неумолимо сжимала костлявые пальцы свои у него на горле. Но вот он услышал о постигшей народ беде и не смог усидеть в юрте. Его потянуло в степь, к народу, которому так нужно было в это трудное время слово правды.
Люди слушали акына, каждым нервом своим принимая его слова.
— Давай, давай, пой, аксакал, — шептал Мардан, сжимая кулаки.
Когда старый певец в изнеможении откинулся назад и замолчал, старики подвели к нему серого с пролысиной жеребенка. Его зарезали для прощального пиршества, и по древнему обычаю казахских воинов, идущих на священную битву, джигиты клялись на его крови:
— Клянемся не подчиняться ни волостному, ни царским солдатам. Умрем на родной земле...
ПЛАМЯ РАЗГОРАЕТСЯ
Прослышав о событиях в роде Ыргайты, все окрестные волостные поспешили подать начальству рапорты.
— Род Ыргайты взбунтовался, клялся на крови серого жеребца не подчиняться властям. Род этот многочисленный. Его кочевья не только в Баяне, но и в Каркаралы, Акмоле и по берегам Иртыша. Кроме того, к этому роду со всех сторон стекаются бунтовщики из других аулов Экибастуза, побережий Иртыша, — доносили они.
Волостной Асылбек также донес о том, что, по данным его лазутчиков, род Ыргайты имеет связь с заграницей и что именно он, волостной, имеет все сведения о бунтовщиках и в дальнейшем будет рад оказать властям посильную помощь.
Получив эти донесения, встревожился и уездный начальник. Он, в свою очередь, направил рапорт о беспорядках губернатору, а сам срочно созвал совет волостных. Надо было поскорее закончить мобилизацию и реквизицию лошадей, пока смута не охватила всю степь.
Собравшимся волостным рыжий уезднай объявил:
— Меры по усмирению бунтовщиков будут приняты. А пока с каждой волости нужно по тысяче двести скакунов для доблестного казачьего войска, проливающего кровь за русское отечество. Коней будет отбирать специальная комиссия. И поскорее представить полные списки подлежащих мобилизации джигитов.
Волостной рода Ыргайты Асылбек, как только вернулся в свой аул, собрал всех старейшин и приказал:
— Через три дня чтобы лошади были!
Аульные зашумели:
— Ой-бай, отец, разве нам дадут сейчас лошадей, когда в народе такое творится?
—Что же делать прикажете?
— Вот если бы нам дали солдат. Хотя бы каждому четыре- пять русских казаков с винтовками, тогда мы бы еще достали коней.
— Хорошо. Я передам вашу просьбу властям. А вы пока езжайте и готовьтесь...
Назавтра из Баяна на помощь аульным в отборе лошадей выехал участковый пристав с восемнадцатью казаками.
Он остановился в ауле Асылбека, и тотчас по степи разнеслась весть:
— Из Баяна вышли войска. Они теперь в ауле Асылбека. Коней будут отбирать.
Люди уводили скакунов на дальние пастбища, в пески.
Пристав сразу же отрядил во взбунтовавшийся аул урядника Кекебая и двоих русских казаков. Они выехали ночью. Надо было спешить, чтобы в ауле не успели угнать табуны. Проводником у них был аульный Оразбай.
В аул урядник и казаки нагрянули в серых утренних сумерках. Табунщики, караулившие лошадей, как только завидели на бугре силуэты вооруженных всадников, с криком стали угонять табуны в степь. Но в страхе растерялись, не зная толком, куда гнать, лишь мешали друг Другу. А всадники, пустив в карьер коней, были уже тут как тут и заворачивали табуны. Табунщиков они просто отогнали, наставив на них винтовки. И вот уже табуны аула Аяпбергена запылили прочь.
В это время в самом ауле поднялась тревога. Один из табунщиков успел доскакать до аула и поднять отчаянный крик:
— Аттан!
Из юрт выскакивали полуодетые джигиты, торопливо седлали поставленных на выстойку коней. Между юртами волчком вился на саврасом жеребчике Мардан. Он размахивал шокпаром, и его зычный голос покрывал разноголосый шум встревоженного аула:
— Э-эй, джигиты! Проклятье тому, кто в этот час останется дома! На коней! Аттан!
Когда около него собралось с десяток всадников, Мардан, не дожидаясь остальных, повернул саврасого в степь и с места наметом ушел в погоню. За ним помчались джигиты, и первым скакал на громадном черном жеребце Омар, мерно размахивая огромной дубиной.
Они быстро настигли уходящие табуны. Ни Оразбек, ни урядник с казаками не умели управляться с таким большим количеством лошадей. Кроме того, они допустили ошибку, не отвязав жеребят. И теперь дойные кобылицы так и норовили повернуть обратно, заставляя всадников метаться из одного конца табуна в другой.
Все это задерживало табун, и надежды уйти от погони уже не было. Первыми поняли это русские казаки. Они остановились, соскочили с коней и, положив винтовки как на подставки на седельные подушки, изготовились к стрельбе. Но то ли они не решались еше открыть огонь, то ли просто не успели, но волна джигитов захлестнула их в тот самый момент, когда клацнули затворы. Мардан проскакал дальше, стремясь поймать урядника, а Омар с ходу, прямо с коня прыгнул на казака и подмял его под себя. Другого казака обезоружили подскакавшие джигиты. Аульному Оразбеку удалось уйти, его спас призовой иноходец из знаменитых кустанайских табунов. Мардан нагнал урядника, и тот, видя, что иначе ему не уйти, выхватил револьвер и прицелился в джигита. Мардан подскакал и крикнул так громко, что ствол револьвера подпрыгнул в руках вздрогнувшего урядника и пуля пропела мимо, в следующее мгновение Мардан ударом шокпара выбил оружие из рук урядника и схватился с ним врукопашную. Одолеть хлипкого урядника не составляло для Мардана труда, и через некоторое время тот уже лежал связанный, как запеленатый младенец.
Джигиты тотчас же принялись делить добычу. В один миг и урядник и двое казаков были раздеты до исподнего. Джигиты Мардана завладели виктовками, и из-за этого чуть не возникла ссора. Предводитель ыргайтинских джигитов Аккошкар потребовал у Мардана хотя бы одну винтовку. Мардану пришлось уступить, чтобы не вызвать раздоров.
«ТЫСЯЧЕ ВОРОНОВ — ОДИН КУСОК»
Джигиты не чуяли земли под собой от гордости. Участники схватки с казаками ходили героями. По выражению их лиц можно было понять, что, захоти они только, и в одну ночь возьмут и сравняют с землей и Баян, и Кереку, и Каркаралы. И это для них все одно, что щепотку насыбая за губу заложить. Даже трусоватый Тлеубай, гордо оседлав ожеребившуюся кобылу и размахивая самодельными вилами, со значительным видом рассуждал о преимуществе внезапного стремительного нападения, когда даже винтовки не успевают выстрелить, о грозной сокрушающей силе шокпаров, и соилов, перед которыми русские пушки не что иное, как детские хлопушки.
Расходившиеся джигиты требовали немедленно напасть на аул Асылбека и разгромить оставшихся русских казаков. Самые отчаянные пытались даже скакать в направлении аула волостного, но, заметив, что никто за ними не следует, возвращались и снова поднимали крик, настаивая на немедленных самых решительных действиях.
Вооруженные косами, березовыми соилами, дедовскими шокпарами да короткими ножами всадники представляли собой пеструю неорганизованную толпу, неспособную на военные действия. Но все джигиты были так возбуждены своей победой, успех настолько окрылил их, что, казалось, скажи им сейчас одно слово — и конная лавина ринется на регулярный полк, вооруженный пулеметами и винтовками.
Шум и крики все возрастали. Джигиты с нетерпением носились по степи вокруг аула, поднимая клубы пыли. Скакуны уже были покрыты пеной, пеной были покрыты и уста ярых сторонников набега, когда в это мгноголюдное многошумное сборище тихо и незаметно въехал на соловом жеребчике хаджи Зулжалал. Но как только его заметили, сразу утих гомон, и все тотчас собрались вокруг знаменитого хаджи, четырежды ездившего в Мекку и в Медину поклониться святым местам. Ждали, что скажет по поводу последних событий духовный отец народа. А Зулжалал не спешил отвечать на вопросы, молча сидел на цветном коврике, угодливо подстеленном ему аксакалами, и задумчиво поглаживал свою сивую реденькую бородку, пряча в неразличимых щелочках глаз мысли и чувства.
Наконец он невнятно забормотал что-то, и звук слов его был так тих — словно в древнем кувшине осыпались ветхие стенки:
— Не бойтесь, дети мои. Если вы будете вместе, если объединитесь для священной борьбы и с именем всевышнего нападете на неверных, то благословение аллаха на вас в ваших делах. Павший на поле битвы с неверными найдет место в раю.
Его слова словно искры, брошенные в сушняк, разожгли пламя страстей.
— Смерть в священной войне праведна, — поддержали его.
— Без крови по домам не пойдем...
— И скот и головы принесли мы в жертву...
Теперь уже ничто не могло остановить всеобщего порыва. Всадников собралось более тысячи, и это была грозная сила, объятая одним стремлением сразиться поскорее с врагом. Джигиты ждали только последнего напутствия в дорогу от старейшины рода старца Аяпбергена. И он сказал:
— Слушайте меня, дети! Старое время уступает дорогу новому. Не отставайте от нового времени, может, оно даст народу светлую долю.
Сделанного не вернешь — мы пошли против власти, и негоже сворачивать на полдороге.
Опора рода — войны. Будьте воинами. Не щадите врага.
Жалость к врагу — это раны друга. И еще скажу: надо первыми напасть на аул Асылбека.
Так вперед, джигиты!.. О бог! Дай удачи моему народу!!
После этих слов разом прорвалась плотина молчания.
— Что же стоим?! Вперед!
— На аул волостного!
Некоторые всадники уже скакали к табунам, чтобы гнать их впереди себя на винтовки казаков.
Аул Асылбека располагался у колодца Шортанды. В восьми километрах от аула в ложбине джигиты остановились. Они по-калмыцки связали своих коней и ненадолго присели отдохнуть. Хвастливым речам не было конца. Джигитам уже мерещилось, как они с налету берут солдатские укрепления, как выходят к ним навстречу с униженной мольбой волостные и баи, как вся степь покорно ложится под некованые копыта их скакунов. Никто уже не думал о предстоящем сражении, когда их более тысячи собралось здесь, и многие из них могли похвастать победами в конной борьбе, в кокпаре. Лихие сорвиголовы — их знали в родных аулах как непревзойденных джигитов, и им ли было тревожиться о захвате какого-то аула? Не было предводителя — как-то никто об этом не подумал, все решалось стихийно. Не договорились, как будут наступать, что делать с захваченнымя в плен казаками. Все это придет потом, а сейчас: «На коней!»
Лавина всадников неудержимо хлынула на пологий длинный подъем. И когда одолели его, когда впереди завиднелись рассыпанные по лощине юрты, азартный тысячеголосый крик всколыхнул воздух, и, казалось, у коней выросли крылья.
В ауле поднялся переполох. Женщины забегали, не зная, куда спрятать детей и спрятаться самим. Мужчины окаменели от страха. Лошади забились на привязи, тоскливо завыли собаки. Черная неотвратимая смерть неслась на аул с косогора, громовой крик сковывал душу, спасения не чаял никто.
Но пристав, отдыхавший на кошме после сытного обеда, не растерялся. Громко скомандовал он своим казакам, и те, похватав винтовки, бросились к коновязи.
Через малое время они уже стояли каждый у своей лошади, положив стволы винтовок на седельные подушки. Каждый солдат привычно брал на мушку цель.
Пристав вгляделся в надвигающееся облако пыли, затем неторопливо поднял руку и протяжно скомандовал: «Заа-алпами!»
Кулак, обтянутый перчаткой, упал вниз: «Огонь!!»
Залп! Еще залп!!
Трудно было прицеливаться — мешал табун, который гнали перед собою нападавшие, но и промахнуться было трудно — джигитов было много, и скакали они плотной массой.
Четверо всадников были сражены наповал, многие ранены. Но больше, чем пули, коней и джигитов напугал резкий, точно удар кнута, звук залпа. Кони вставали на дыбы. Задние налетели на передних, и в свалке было ранено еще несколько джигитов. В мгновение ока огромная толпа нападающих превратилась в беглецов. Лишь несколько всадников и впереди них Омар продолжали скакать к аулу. Может, нашлись бы и еше храбрецы, но масса коней и всадников увлекла их за собой. Кусая от злобы губы, Омар скакал вокруг аула, во весь голос матеря своих соратников,
Казаки были уже в седлах и ждали приказа пристава. Но тот не решился рисковать и не послал взвод в рукопашную.
Отдышались в двух километрах от аула. Кое-как остановили табун, подсчитали потери и стали держать совет.
В это время от аула отделились четыре всадника и рысью направились к ним. Это волостной Асылбек, насмерть перепуганный набегом, спешил уладить дело миром. Асылбек хорошо понимал, что завтра русские могут покинуть его аул, и тогда ему несдобровать. Потому так медоточивы, так сладки были его слова:
— Родные мои, что же сделал я вам плохого, что вы разоряете мой аул? Разве я звал русских? Они пришли сами. Зачем же вы хотите опрокинуть мои котлы, опростоволосить женщин? Делайте с русскими что хотите — я сам ненавижу неверных, — но зачем мой аул разорять?
— Передайте русским, чтобы убирались подобру-поздорову. Ни джигитов, ни коней не дадим им, — выступил Мардан.
— Хорошо, я передам ваши слова приставу, — покорно сказал волостной и поскакал обратно в аул. Он передал свой разговор приставу и через некоторое время опять зарысил к джигитам...
— Русские согласны уехать без джигитов и без коней, но они требуют, чтобы им возвратили пленных русских казаков.
Посоветовавшись, джигиты согласились на эти условия. Недоволен был лишь Омар, мечтавший вволю пограбить богатый байский аул.
ПЛЕН
Несколько дней восставших никто не тревожил. Но Асылбек не терял времени даром. Вместе с возвращавшимся приставом он послал в Баян-Аульскую крепость своего сына Кемелбека и писаря Мекапара и через них нижайше просил начальство прислать побольше людей. Начальство не привыкло отклонять подобные просьбы, и через пять дней в ауле Асылбека было уже шестьдесят солдат во главе все с тем же приставом.
Тотчас об этом узнали все аулы. Люди стали угонять своих коней подальше, в пески. Но и власти действовали решительно, не медля ни минуты. В ту же ночь сын волостного и аульный Оразбек привели солдат в главный очаг неповиновения — в аул Аяпбергена. На этот раз табуны интересовали солдат меньше всего. На полном скаку они ворвались в мятежный аул, стреляя из винтовок, размахивая саблями. Суровый допрос чинил сам пристав. В этом ауле арестовали десять человек и двинулись дальше. Ночь, день и еще ночь прошли в непрерывных налетах на аулы. Там, где оказывали хоть малейшее сопротивление, мужчин забирали в плен, женщин и детей истязали, добро расхищалось.
Не жалели ни беззащитной молодости, ни благородных седин. Аксакалу Аяпбергену рассекли плетью кожу на голове, багровая сукровица заливала ему лицо, и некому было перевязать его. Мардан и Омар с джигитами пытались отстреливаться, но тем беспощаднее было избиение, когда их взяли в плен. В аулах забирали все железное — даже треножники и те погрузили в арбы. Словно сама смерть гуляла по аулам рода Ыргайты, оставляя за собою пепелища, детский плач и женские стенания.
Через два дня по степной дороге медленно тянулась колонна пленных в полторы сотни человек. Были здесь и Аяпберген, был здесь и святой Зулжалал. В особом «почете» у конвоира, одного из двух казаков, побывавших в плену у восставших, был самозванный мулла Иманбан. Когда казак был в руках Иманбая, тот заставлял его повторять священную формулу мусульманства «ляилаха иль алла, мухамади расулала» и бил его палкой по голове, если казак запинался. Теперь настала очередь казака, и он через каждые сто метров заставлял муллу креститься и есть землю, не оставляя каждый раз пленника без доброго удара нагайкой.
Шли в этой колонне и Мардан с Омаром, на них, как на особо опасных преступниках, звенели кандалы.
Власть волостного укрепилась. Теперь уже никто не осмеливался ему перечить. Из страха перед наказанием одни выдавали других, и ни у кого не достало сил ни самим спастись от мобилизации, ни спрятать коней. Табуны были через несколько дней доставлены в Баянаульскую крепость, в тот же день на стол начальства легли списки джигитов, подлежащих мобилизации.
БЕГСТВО В ГОРОД
Сатан гостил в родном ауле полтора месяца. Навещали сверстники, он сам ходил к ним. Но не было в этих встречах веселья. Люди бродили молчаливые, словно в воду опущенные, и со страхом ждали всякой новой вести. Сатану, уже привыкшему к шумной городской жизни, эта настороженная тишина, эти приглушенные «охи» да жалобы вполголоса надоели уже в первые дни. Все чаще задумывался он о возвращении в город. А когда пришли вести о разгроме восстания ырыгайтинцев, решение окрепло окончательно. Теперь уже не оставалось надежды на то, что удастся уклониться от мобилизации, повсюду составлялись списки, повсюду глаза и уши верных царских слуг, и некуда спрятаться от них в широкой, просторной степи.
Сатан задумал податься в Сибирь, в большие города, где, как ему казалось теперь, легче затеряться в многолюдии. Решение его одобрили мать и Тажи.
— Все равно тебя уже внесли в списки, — говорили они Сатану, — через несколько дней в Каркаралах списки утвердят и погонят тебя на фронт... А в городе, если устроишься на хорошую работу, хозяин избавит от окопов... Поезжай...
Сатан поделился своими мыслями с друзьями. Те тоже не рвались тянуть солдатскую лямку и охотно согласились бежать в город.
На проводы младшего брата и его товарищей Тажи зарезал козленка, пригласил аксакала Сандыбая и просил его благословения джигитам.
Сандыбай, приняв голову козленка из рук Тажи, произнес свое бата:
— Хорошей дороги вам, дорогие! Если где и спасаться от фронта, то в городе...
Ранним утром пятеро пеших джигитов вышли в дорогу. Путь их лежал в стороне от больших аулов, минуя Каркаралы, прямо на Омск. Сатан оставил своего гнедого старшему брату, а сам весело зашагал с друзьями по пыльному тракту на восток.
ОВЦА О СЕБЕ БЕСПОКОИТСЯ, МЯСНИК ─ О СТАДЕ
К осени волнения и вооруженные выступления казахской бедноты в Арке были жестоко подавлены властями. В аулах, примкнувших к восстаниию, шла бесчеловечнаи расправа. Аулы, выжидавшие, чем кончатся события, возликовали было, хваля себя за осторожность. Но недолгой была их радость — пришла и к ним беда. Мобилизация касалась всех. Но, конечно, тяжелее других пришлось роду Ыргайты.
Волостной Асылбек, напуганный недавним восстанием и боясь, как бы ему самому не пришлось держать ответ перед уездным начальством, с особым рвением составлял мобилизационные списки. Кроме всего это давало ему возможность одним махом избавиться от неугодных людей.
Народ страдал. В редком доме не продавали последнюю скотину, собирая в дальнюю дорогу сыновей и мужей своих. Зато урядники, аульные, волостные и другие начальники ликовали. Для них пришла золотая пора жатвы. Волостным некуда было уже девать бесчисленные табуны, выросшие за вчет приношений. Люди отдавали все, чтобы сохранить сыновей, не посылать их на фронт. Но большинству было нечего давать — и тогда единственный сын, кормилец бедняцкой семьи, уходил в солдатчину, а байские сынки или оставались дома, или шли на безопасные, доходные должности писарей, интендантов.
Осень пришла ранняя. Растеряла по дорогам севера свои дожди, оставила для казахской степи заморозки да иней, который белым ковром укрывал по утрам траву, проселки, дома, выстуженную за ночь твердую, как панцирь, землю. Земля эта тихонько гудела день и ночь под тяжестью шагов. Это отовсюду стекались из степи люди к Баянской крепости.
В Баяне словно готовились к небывалым поминкам — асу. Вырос целый городок из юрт и палаток, дымили походные кухни. Здесь собирались джигиты двенадцати волостей на свои собственные поминки.
Пристав, атаман, уездный начальник, толмач, доктор, стражники и урядники подавляли своим величием растерянных степняков, слепили их золотыми погонами, новой амуницией. Они были важны и недоступны. Они выполняли священный долг свой перед государем.
Урядник, состоящий при уездном начальнике, орал на волостного, не приведшего с собой и половины джигитов: — Где джигиты? Я тебя спрашиваю, скотина? Волостной скакал к своим аульным старшинам и орал на них, требуя, чтобы они до вечера достали денег, водки, мяса и ублажили на славу господина «жасаула», иначе он и завтра будет кричать на волостного.
Теперь уже обогащалось уездное начальство. Взятки оно брало крупнее, серьезнее. Но было его относительно мало, так что и волостным кое-что оставалось. Прогадали, как всегда, неимущие.
НАБОР
Ыргайтинских джигитов собрали с помощью казаков и под конвоем пригнали в Баян. Здесь к ним присоединили сидевших в местной тюрьме дружков, взятых под стражу еще летом. Все это время они находились в крепости под неусыпным надзором, и их от зари до темна заставляли трудиться на земляных работах.
Но Мардана и Омара как зачинщиков держали в одиночных камерах закованными в кандалы. Дни проходили в допросах и истязаниях. Омару вскоре удалось бежать. Помогли товарищи. И теперь он скрывался в Омске под именем Болекбая. Но Мардан ничего этого не знал. Самого его однажды так сильно избили, что он на несколько дней потерял сознание. Только тогда палачи оставили его в покое, но продолжали держать в одиночке и кандалов не снимали.
Мардан лежал на жесткой подстилке и следил, как быстро таяла на солнце тоненькая сосулька за окном. Мы ли были вялы, думать не хотелось, все уже передумано, все известно, впереди его ждал фронт и, быть может, смерть в далекой холодной стороне.
Лязгнул замок, послышался грубый оклик:
— Эй ты, вставай!
За Марданом пришли. Впервые за два с половиной месяца с него сняли кандалы. Он с трудом поднялся и пошел в сопровождении двоих конвоиров неуверенной походкой человека, разучившегося ходить. Шел, волоча ноги, шаркая подошвами, и странно было ему, что не слышно более звона цепей.
Когда Мардана ввели в узкую темную залу, навстречу ему поднялся волостной Асылбек. Он быстро подошел к Мардану и недобро усмехнулся:
— А-а, явился, голубчик?
— Да, волостной, явилась твоя жертвенная овца. Что уже и нож наточил? — ответил Мардан.
Асылбек сделал знак стражникам подождать, а сам скрылся за дверью, где заседала комиссия. Он о чем-то долго толковал там и наконец вышел и глянул на Мардана, словно хотел сказать ему: «Ну, теперь ты у меня попляшешь!»
Через мгновение Мардан предстал перед членами комиссии. Из всех золотопогонных начальников, сидящих в комнате, взор Мардана с надеждой остановился на докторе-казахе.
Это был Макыш из того же рода, что и Мардан. Джигит как за последнюю соломинку ухватился за надежду на помощь сородича.
— Доктор, здравствуйте, — проговорил он. — Меня забрали не по закону, не из нашего рода, а из чужого. Мы вместе мальчишками играли. Помогите мне во имя наших предков.
— А ты что, в Ыргайты погостить приехал?! — спросил вдруг Макыш.
Мардан резко отвернулся, надежда рухнула, никто ему не поможет здесь.
В это время доктор готовился осматривать Мардана и, сокрушенно мотая головою, говорил:
— Эх, темен наш народ. Только и достоинства, что душа открытая... На службу казенную смотрят, как на смертную казнь, солдатчина для них — конец света. А ведь не подумают о том, что за несчастье на фронте льется кровь...
Мардан плохо понял, о чем говорит Макыш. И несердитый, благодушный той доктора опять спутал его. Ему показалось, что доктор сочувствует его беде и уговаривает членов комиссии отпустить Мардан решил помочь доктору:
— Доктор-ага, я Ильной!
— Чем болен?
— Сильно меня избили. Живого места нет. Вот посмотрите, — и Мардан б грудом задрал рубаху и повернулся спиной к комиссии. Все его большое тело было в синих кровоподтеках.
— Ничего, это в дороге заживет. А ну-ка дыши!
В это время в комнату вошел Оська-атаман и, завидев Мардана, расплылся Е широкой улыбке:
— А-а, знакомый Разбойник! — протянул он. — Что, на фронт собираешься?'
— Собираюсь, там будет лучше, чем здесь.
— Отчего же там будет лучше? — Оська был озадачен.
— Там мне дадут винтовку...
— Э-э, брат, — перебил Мардана Оська, — погоди ты еще винтовку получать.
Макыш не утруждал себя подробным осмотром. Послушав для видимости кардана, он хлопнул его по плечу и обратился к комиссией, сказав одно только слово:
— Годен!
— Чем я болен, доктор-ага? — спросил его Мардан.
Макыш, делая запись в книге осмотра, ответил не оборачиваясь:
— Здоров как бык!
— Да сбудутся твои пожелания, дорогой доктор! — впервые за много дней усмехнулся Мардан.
НА ФРОНТ
Следом за Марданом перед комиссией предстал ыргайтинец Шалгымбай. Он еще в коридоре начал жаловаться плачущим голосом:
— Таксыр, меня неправильно записали в список. Я единственный сын. А потом — у меня рука увечная, мне нельзя стрелять, вот посмотрите,— и он показал членам комиссии обмотанную грязной тряпкой правую кисть.
— А ну-ка, покажи! — потребовал Макыш.
Парень осторожно протянул руку. Макыш стал сдирать присохшую к ране тряпку, парень громко застонал.
— Ничего, потерпишь, — прикрикнул доктор и, рассматривая отсеченный палец, сурово спросил: — Как это тебя угораздило?
— Дрова рубил... и вот... Макыш расхохотался:
— Ну и народ, и совратьто толком не умеют... Господа, это злостный симулянт и ко всему прочему глуп как пень. Если бы это произошло при рубке дров, он должен бы поранить левую кисть... Сейчас я окажу медицинскую помощь, и недельки через две рана затянется... Лопату он держать сможет, а потому признаю его годным к военной службе... — и доктор, повернувшись к Шалгымбаю, пояснил тому по-казахски:
— У тебя поранена рука, в которой ты держишь топор... Этого не может быть, и ты все равно пойдешь на фронт...
— Но, таксыр, — завопил парень, — я ведь левша...
Но его никто не слушал — чиновники заполняли бумаги.
Целых пятнадцать дней шел набор в Баяне. Наконец все джигиты мобилизационного возраста прошли комиссию и были готовы к отправке на войну. В один из холодных предзимних дней всех их усадили в телеги, и длинный печальный обоз со скрипом потянулся в степь. Родные и близкие много верст провожали скорбный караван. Казалось, это сама земля стонет и плачет, провожая в далекий путь сыновей своих. Одна старуха с криком: «Единственный мой, надежда моя!» — уцепилась за борт телеги, да так и повисла на нем. С трудом конвоиры оторвали ее и отвели на обочину дороги. И еще много телег проехало мимо, и печально, тоскливо глядели молодые парни, как бьется в надрывном отчаянном плаче на заснеженной земле убитая горем старая женщина.
НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
К зиме в Омске набралось несколько сотен джигитов, которые, как и Сатан, бежали из родных аулов от мобилизации. Работы не хватало своим местный жителям, и джигиты день-деньской слонялись по Омску, перебиваясь случайной работой, не имея постоянного угла. Надежды на то, что они устроятся на хорошую работу и хозяин освободит их от мобилизации, не оправдались.
А из степи доходили тревожные слухи. Поговаривали, что волостные собираются приехать в города При иртышья и будут здесь разыскивать сбежавших джигитов. Пронесся слух, что списки беглецов волостные уже разослали повсеместно и скоро будут делать облавы и вылавливать скрывающихся.
Неспокойны были сердца у джигитов, днем они со страхом вглядывались в каждого прохожего, боясь встречи с богатыми земляками, ночью их срывал с теплых постелей каждый подозрительный звук, им чудилось, что за ними пришли полицейские. Не было у бедняг завтрашнего дня, и потому так бесшабашно, разгульно текла их жизнь в городе. Вино, карты, кумыс, продажные женщины, драки — все это входило в повседневный быт отчаявшихся джигитов. Многие из них от голода, от неуверенности, от пристрастия к выпивке и женщинам стали заниматься воровством. Они как умели прожигали жизнь, старались на свой лад взять от нее все, что она могла дать им взамен тех жалких грошей, что удавалось им добыть.
Ночь. По темной улице Омска Сатан, Шакшай и Омар-Болекбай держат путь к ярко освещенным окнам двухэтажного дома. Подслеповатое окошко полуподвального первого этажа бросало пятно света на синие сугробы снега. Из форточки клубами выбивался пар. Чем ближе подходили джигиты, тем явственнее доносился шум множества голосов, визгливые звуки гармошки, нестройное пение и безобразные выкрики.
Болекбая уверенно спустился по темной узкой лестнице, приглашая друзей следовать за ним.
— Здесь, друзья, место для истинно достойных, — напыщенно возгласил он, толкая ногой обитую толстым войлоком массивную дверь.
Сатан вначале ослеп от густого облака пара, вырвавшегося из помещения, но постепенно глаза его привыкли, и он смог разглядеть место собрания «достойных». Просторный полуподвал был уставлен столиками. На всех столах стояли и валялись пустые бутылки из-под пива, вина и трехлитровые четверти из-под водки. Самая разношерстная публика восседала за столиками, объединяло их только желание забыться. Полуодетые девицы весело хохотали на коленях кавалеров, посредине залы на небольшой свободной площадке отплясывал чечетку пьяный гармонист, в нескольких углах сразу запевали разные песни, дым стоял коромыслом — веселье было в самом разгаре. Один из углов этой залы заняла знакомая Сатану компания: Черный Казбек, Угар, Нурадил и с ними еще несколько парней. Стол перед ними был заставлен пивными бутылками. Весельем распоряжался Угар. Казбек уже был мертвецки пьян и, нечленораздельно мыча, гладил полные плечи кудрявой брюнетки, сидящей рядом с ним, да время от времени нежно слюнявил ей шею. Две другие девицы завладели вниманием Нурадила и Угара. Впрочем, не настолько, чтобы Угар не заметил Омара, как только он вошел.
— Омар! — позвал он. — К нашему шалашу.
А Омар, видно, чувствовал себя в этом притоне, как рыба в воде. Он словно скинул непосильный груз, как только вошел сюда, вся его круглая физиономия так и светилась, широкая, радостная улыбка раздвинула губы и еще больше сощурила глаза. На зов Угара он весело закричал:
— Что?! Остались еще на нашу долю девки?
Казбек словно очнулся от этого зычного крика и, еще крепче прижав к себе чернявенькую девицу, заорал в ответ:
— Остались... Заказывай только...
Болекбай уже пробирался меж столиками в их угол. Следом за ним подошли Сатан и Шакшай.
Шакшай был здесь тоже своим человеком, он сразу же по-хозяйски принялся разливать друзьям пиво из стоящих на столе бутылок. Шакшай ни в чем не отставал от своего старшего товарища Болекбая, и компания конокрадов, головорезов, просто уличных воров и проституток была его привычной компанией.
Сатан, впервые попавший в такое место, чувствовал себя неловко. Но ведь он не мальчик. Знал, куда идет... И чтобы скорее отвязаться от непрошеных мыслей, он начал пить стакан за стаканом крепкое пиво...
Вскоре он опьянел и уже сам дергал за рукав Шакшая и спрашивал:
— А скоро мы наверх пойдем?
Наверх они пошли скоро, так что Болекбай не успел еще окончательно напиться и довольно сносно держался на ногах. Вся компания проводила их уход веселыми шуточками и игривыми пожеланиями.
Омар-Болекбай, пока они медленно, с трудом поднимались на второй этаж, просвещал Сатана:
— Здесь, друг, у каждой своя цена. Есть и за двадцать пять рублей, и за десять, за пять, за рубль и даже за полтинник...
— Это, наверное, старухи? — спрашивал Сатан, поддерживая грузное тело Болекбая.
— А девушки дорого стоят? — интересовался Шакшай.
— Дорого, — отвечал Болекбай, — но денег хватит, вчера хорошо поработали...
Наверху их встретили радостными восклицаниями две потрепанные, грязные девицы. Но Болекбай величественно отмахнулся: «Пошли вон, сегодня мы желаем благородных, почище...» Девицы состроили обиженные мины и отошли.
Друзья направились к тучной, полной достоинства даме, сидевшей на мягком диване. Подле нее стоял ломберный столик, накрытый бархатом, а на нем красовался большой, в кожаном переплете альбом с позолоченными застежками.
Дама приветливо улыбнулась друзьям и пригласила их присесть.
К Болекбаю обратилась она, как к старому знакомому:
— Как поживаете, мирза?
Но Болекбаю некогда было поддерживать «светский» разговор:
— Есть у вас свободные девушки? — спросил он.
— Сколько душе угодно, мирза, — и дама протянула гостям альбом, — выбирайте.
Болекбай ухватился за альбом и раскрыл его, с боков в плечи ему часто задышали друзья. Голые женщины, в разных позах, соблазнительно улыбаясь, закружились перед глазами Сатана. Стыд помешал ему рассмотреть хотя бы одну, но Шакшай и Болекбай долго упивались зрелищем. Наконец толстый палец Болекбая уткнулся в фотографию цыганки:
— Сколько вот эта стоит? — спросил он хозяйку. Та взглянула и ответила:
— Пять рублей за ночь, отдельная комната...
— Нет, ты за час скажи...
— За час соответственно...
— Сбавь, хозяйка, мы же постоянные гости, — пустился в торговлю Шакшай...
В это время со стороны парадного входа раздался сильный шум. Кто-то, матерясь, рвался вверх по лестнице, другой уговаривал его не делать этого. Наконец первому удалось выкарабкаться на площадку второго этажа. Это оказался в лоск пьяный прапорщик-казах, в котором Сатан с первого взгляда признал того самого Ыбраима, которого в прошлом году избил в кумысной Черный Казбек.
— Хозяйка! — заорал прапорщик. — Подать сюда лучшую девочку!
— Пожалуйста, мирза, — залебезила хозяйка и, вырвав из рук Болекбая альбом, протянула его офицеру. — Выбирайте, мирза.
За прапорщиком вошел тоненький юноша-казах в семинаристской куртке.
— Ыбраим, оставим этот дом, — уговаривал он пьяного прапорщика, — послушай меня, Ыбраим, пойдем отсюда... Я рассорюсь с тобой, если ты здесь останешься...
Но Ыбраима не так-то легко было оторвать от вожделенного альбома.
— Не мешай, — отмахивался он от семинариста, — иди к мамке...
— Я пойду, — неожиданно взорвался юноша, — но я пойду в полицию и вернусь сюда с городовым! Если бы не твоя сестра, я бросил бы тебя разлагаться здесь среди этого сброда, сволочь...
Болекбай, Шакшай и Сатан от одного упоминания о полиции протрезвели.
В это время взгляд семинариста остановился на Сатане
— Послушайте, я где-то вас видел, ваше лицо мне знакомо. Кто вы?
— Грузчик, — смущенно пробормотал Сатан.
— Вы часто бываете здесь?
— В первый раз.
Юноша порывисто схватил Сатана за руку:
— Пойдемте отсюда, вам здесь нечего делать.
Сатан и сам не заметил, как оказался на улице рядом с незнакомым юношей. Свежий, морозный воздух перехватил дыхание, но затем дышать стало легче и в голове с каждым шагом становилось все яснее и яснее.
НАПАСТЬ
Все джигиты старались устроиться на «казенную работу», так как пронесся слух, что тех, кто работает в государственных учреждениях и на предприятиях, на фронт брать не будут. Администрацию кирпичного завода близ Омска, бойни, пароходства, железной дороги, кожевенного и мыловаренного заводов, государственной мельницы с утра до вечера осаждали сотни желающих поступить на работу. Они соглашались на любые условия, лишь бы быть зачисленными. Администрация пользовалась этой даровой рабочей силой в своих целях: снижала расценки на работы, не боясь простоя из-за стачек и забастовок. Это приводило к раздорам между русскими рабочими и казахами, что было только на руку властям. Но джигиты не думали об этом, все их мысли были направлены на одно — избежать непонятного, страшного фронта, где придется умирать неизвестно за что в далекой, неродной стороне.
Сатану и его товарищам после долгих мытарств удалось устроиться на работу по ремонту железнодорожных путей.
Здесь же он встретил старых друзей Мамбета и Нурадиля. Он попросился к ним в бригаду, и теперь они и работали и жили вместе.
Однажды днем, когда они расчищали от снежных заносов пути, вдруг всем казахам было приказано собраться на станции. Джигиты побросали инструмент и поплелись на станцию. Чем ближе подходили они, тем тревожнее становилось у них на душе. На железнодорожных путях густо чернела толпа, окруженная конными стражниками. Сатан засмотрелся на них и споткнулся о шпалу. Полусгнившая подошва легко отскочила, и идти дальше стало невозможно. Сатан присел на рельс и стал искать в карманах кусок веревки, чтобы подвязать подошву. Товарищи ушли вперед. Сатан видел, как их окружили стражники и стали теснить к толпе. Видел, как Мамбет размахивал руками, пытался что-то объяснить стражнику, а тот в ответ замахнулся нагайкой.
Сатану сразу расхотелось идти на станцию. Он проворно спрятался за пустой товарный вагон, затем перебежал за низкую стену длинного склада и вскоре уже был в безопасности. Не заходя в бараки, он направился к возчику Сулейману. Тот был дома и в двух словах рассказал Сатану, что произошло в городе.
— Ты молодец, что убежал, — первым делом объявил он Сатану, — а всех остальных джигитов схватили и отправят на фронт.
— А что, волостные приехали?
— Да, приехали волостные и будут отбирать своих джигитов...
— А наш волостной приехал?
— Который это ваш?
— Да собака Оразбай!
— А-а, нет, его нет, наверно, он в Семипалатинске... А ты вот что. Знаешь адвоката Ыскака? Беги к нему и скажи, что надо ребят выручать. Скажи, что в долгу не останетесь... А я пойду посмотрю, что там с ними делают. Меня, старика, не тронут.
Сатан знал Сагынаева Ыскака, безрукого торговца из рода Каракесек. Ыскак знал по-русски, умел читать, писать, и во всех делах, где замешаны были власти, каракесеки выставляли его своим ходатаем. К нему-то и поспешил Сатан за помощью.
Сулейман отправился к городскому управлению полиции, куда уже согнали со всех сторон около тысячи мужчин. Сулейман потолкался в толпе и без труда разыскал своих джигитов.
— Э-э, что случилось? — спросил он Черного Казбека.
— Да вот, керейский волостной Жексенбай смутил народ... Сказал начальству, что все его джигиты убежали в город, и теперь приехал вылавливать своих беглецов...
— А вы-то при чем, вы же не керейцы?
— Ни при чем, но пока суть да дело, и нас могут забрать, небось уж списки и на нас есть... Не знаешь, где Ыскак?
— Да уже послал за ним Сатана.
— Это хорошо, только быстрее бы он пришел, пока начальство не опомнилось...
Последние слова Казбека заглушил рев толпы. Показался воинский начальник со свитой и приказал гнать джигитов в крепость. Шум, крики, толкотня, ругань стражников повисли над толпой. К воинскому начальнику пробралась кучка джигитов и на ломаном русском языке просила его выслушать их.
Начальник благосклонно придержал лошадь и разрешил им говорить.
Вперед вышел Мамбет.
— Господин начальник, — начал он, — нас не по закону взяли... Мы не омские степняки... мы — семипалатинские... Наши списки там... мы все работаем на казенной службе... Пусть нас забирает наш волостной болыс, мы не отказываемся...
— А может, вы беглые? — спросил начальник.
— Нет, нет... мы четыре года работаем здесь... Документы есть...
В это время к начальнику подошел безрукий Ыскак и, почтительнейше попросив позволения, предложил свои услуги как человек хорошо знающий этих джигитов. Он подтвердил, что джигиты говорят правду и что он ручается за их благонадежность. Приличная одежда и благообразный вид Ыскака произвели впечатление на начальника, и он, посовещавшись с окружающими, передал Ыскаку свое решение. Ыскак, выслушав начальника, склонил голову в благодарном поклоне, а затем громко обратился к джигитам:
— Слушайте! Его высокоблагородие решили, что семипалатинские казахи останутся пока в городе и будут продолжать работать. Но в течение десяти дней ни один казах не имеет права появиться на улицах без разрешения. Пусть каждая артель выберет одного человека, чтобы закупать продукты, и ему будет выдан пропуск. Пусть джигиты никуда не отлучаются, кроме работы, и ждут особого распоряжения.
Потянулись для друзей мрачные, тоскливые дни. Из барака нельзя было и шагу шагнуть, каждую минуту за ними могли явиться их волостные. Джигиты жили как телята на привязи. И только Сатану, которого друзья выбрали от артели, разрешалось ходить на базар за покупками...
Часть четвертая
СТРЕЖЕНЬ
ОРЛОВ
Иртыш сковало льдом. После ледостава, когда все пароходы стали на прикол, джигиты из Арки — «зимовщики», как называли они себя, перешли работать ломовыми извозчиками у того же хозяина пароходства Ганшина. И как во всякую зиму, заскрипели полозья их саней, перевозя ганшинские грузы с вокзала к городским складам и обратно.
Возчиков было человек сорок. Все они размещались на большом конном дворе Ганшина в каменной казарме. С утра до вечера парни были заняты работой, на конный двор въезжали в сумерках, торопливо распрягали лошадей, задавали им корму и, отчитавшись перед подрядчиком, жившим тут же в уютном каменном флигеле, бежали греться в казарму. За хозяйством джигитов присматривали две девушки: Катя и Тоня. Круглолицая, невысокого роста Тоня в своей короткой шубейке и большом шерстяном платке издали напоминала шар. Сходство это еще больше подчеркивала ее живость. Она ни минуты спокойно не могла посидеть на месте и словно ртутный шарик носилась то по казарме, то по двору, громыхая ведрами, рассыпая поленья, еле протискиваясь в двери с огромной охапкой жесткого, как жесть, смерзшегося белья, покуда глубокий, неодолимо здоровый сон не сваливал ее в теплом закутке девичьей каморки до следующего утра.
Катя, более сдержанная, но тоже живая, веселая девушка, была стряпухой, и ее заботами кормились сорок здоровых, вечно голодных мужчин. Многие из возчиков заглядывались на Катю, но она держала себя строго, и если кому оказывала предпочтение, то это Мамбету. Но делалось это так просто и целомудренно, и Мамбет так по-мальчишески стеснялся, что всякие шутки по этому поводу решительно пресекались самими джигитами.
В эту зиму в казарме появился новый человек. Фамилия его была Орлов, но откуда он пришел, где работал, зачем ходит в казарму, никто не знал. Впрочем, общительный характер, открытая душа, бескорыстие довольно скоро сблизили его с возчиками, и незаметно он стал их главным советчиком в делах и поступках. С его приходом угрюмые, озлобленные тяжелым трудом на холоде джигиты словно оживали. Орлов знал много новостей, рассказывал о положении на фронте, его дельные советы не раз помогали джигитам в расчетах с хозяином.
Вот и сегодня он пришел в казарму к джигитам и, угощая их махоркой, вел неторопливый серьезный разговор:
— Вот вы получаете сущие гроши, — говорил он, — живете хуже лошадей ваших — грязь, теснота, голод. В бараке у вас и света по вечерам нет, и воды теплой. А о том, чтобы потребовать все это у хозяина, вы и не думали, прав своих не знаете.
— Э-э, мил человек, — перебил его Черный Казбек, — так ты научи нас этим правам, законам.
— Что ж, могу и научить. Первым делом — бросайте работу. Разве это работа у вас? Извозчики, ямщики, ломовые, арбакеши... Все это не настоящая работа. Хотите стать настоящими умелыми рабочими — надо ремесло изучить, получить профессию. Идите работать на железную дорогу, на заводы, на фабрики, на пароходы...
— Э-э, а мы и так летом на пароходах работаем.
— Да кем вы там работаете?! Чернорабочими! А надо ремесло изучать, тогда и заработки у вас выше будут, да и хозяевам нелегко прогнать вас станет...
— А ведь верно!
— Правда! — зашумели джигиты.
— А что нам сейчас делать?
— Бросайте извоз. Уходите от Ганшина.
— Ну, бросим. А дальше как?
— Дальше?.. Сколотим артель. Выберем своих товарищей управлять нами — профсоюз называется — и будем работать по договорам без подрядчиков. Сами договора станем составлять, сами и выручку делить, без обмана. Объединимся с другими артелями, а когда вместе будем, уж не по зубам богатеям наша организация. Поняли?
— Поня-ятно!
С этого вечера у Орлова от джигитов больше не было тайны. Он рассказал о себе.
— Я такой же труженик, как и вы. Пробиваюсь разной работой, бывал во многих местах. В ваш город приехал недавно, еще хорошенько не осмотрелся здесь. Ночую пока на станции у одного знакомого.
Черный Казбек, испытующе глядя прямо в глаза Орлову, спросил:
— Если мы тебя послушаем и бросим работу, ты будешь с нами до конца?
Орлов просто ответил:
— Конечно буду.
Долго говорил с джигитами Орлов в этот вечер. Он объяснил им, что в первую очередь надо все артели в городе, и русские и казахские, объединить. Это он брал на себя, у него были уже разговоры с русскими артелями. Он доказывал джигитам, насколько выгоднее им будет работать без подрядчиков, работать, диктуя свои условия хозяевам.
Ушел Орлов из казармы поздно вечером, а джигиты еще долго не ложились спать, на все лады обсуждая предстоящую схватку с хозяином.
«ВОТ КАК НАДО БАСТОВАТЬ»
Уже вторые сутки джигиты возят со станции водку в склады Ганшина. Водка была одним из основных товарсв, доставлявшихся в степь и Сибирь из Центральной России! Некоторые джигиты так и представляли себе Россию — водка, водка, миллионы бутылок водки, а над всем этим — царь.
Товар был ценный, и его охраняли русские казаки. Охраняли и на станции, охраняли и на складах, охраняли и в пути — рядом с каждым возчиком сидел казак с винтовкой.
Но чего только не преодолеет жажда веселья, жажда забытья! И вот уже Мамбет и Нурадил заводят осторожный разговор с конвоирами.
— Эй, ызнаком, холодно, а?!
— Морозно! — густым басом соглашается огромный рыжебородый казачина...
— Неплохо бы водочкой побаловаться? — намекает Нурадил по-казахски, а сам чутко следит за выражением лица собеседника.
У того при слове «водочка» непроизвольно раздуваются в улыбке густые, опушенные инеем усы. Нурадил замечает и это и уже смело шепчет:
— Мы вот что придумали... Водки у хозяина много, не обеднеет, а вам два ведра вечером поставим, только отвернитесь на минутку вон у того поворота...
Казак ничего не отвечает, но у поворота вдруг слазит на снег и идет к саням Мамбета, здесь он что-то говорит товарищу, и они останавливаются посреди улицы и не спеша принимаются закуривать толстенные самокрутки. Нурадил и Мамбет доезжают до поворота, сворачивают и останавливаются, тут же к ним подъезжают сани с Сулейманом на облучке...
Вечером усталые, продрогшие возчики шумно въехали на конный двор. Какое-то особое возбуждение чувствовалось в них. Крепкие, обитые полосовым железом ворота запирали особенно тщательно. Двор, обнесенный высокой глухой стеной, напоминал крепость.
Джигиты, не заходя в казарму, шумной толпой направились к флигелю доверенного. Вместо того чтобы, как обычно, робко постучаться в дверь, Нурадил забарабанил изо всех сил.
Доверенный, порядком перетрусив, слабым голосом спросил из-за двери:
— Кто это?
— Мы, открывайте, срочное дело есть!
Как только доверенный откинул крючок, дверь широко «распахнулась, и с десяток джигитов, не спрашивая разрешения, шумно толкаясь, топоча сапогами, ввалились в дом.
— Что вам нужно? — спрашивал доверенный, уже почуявший неладное.
— Бастуем! Больше здесь не работаем! Давай расчет... айда!..
— Хорошо, — неожиданно быстро согласился доверенный, — только я переговорю с хозяином...
И он кинулся было к телефону, но Мамбет успел уже перерезать тонкие провода. Доверенный понял, что он в западне. Лицо его стало серым от страха, и с этой минуты он молча выполнял распоряжения джигитов.
Он покорно вынул ключи, отворил сундучок с деньгами, бумагами и расчетной книгой. Черный Казбек распоряжался, как в собственной юрте:
— Садись сюда, — приказывал он доверенному, — считай правильно, а не то завтрашнего утра не увидишь. А мы пока, с вашего высокого позволения, поужинаем в вашем доме, а то у нас, холодно, и неуютно, да и гостеприимного хозяина обижать не хочется... — говорил Казбек под дружный смех джигитов. Не смеялся один лишь доверенный, трясущимися руками он перекидывал костяшки конторских счетов, и заметно было, что ни одна цифра не лезла ему в голову.
Мамбет побежал на кухню.
— Девушки, — кричал он, — Катя! Мы бастуем. Сегодня у нас праздник. Тащите, что наготовили, в дом к доверенному. Там гулять будем.
Через минуту в домике набилось полным полно народу. Появилась водка, кое-какая закуска, и джигиты принялись пировать. Мамбет и Наби угощали девушек, шутили, смеялись.
— Катя, мы берем расчет и уходим от Ганшина, — сказал Мамбет. — Пойдешь с нами?
— Пойду, — отвечала раскрасневшаяся Катя, — я за тобой хоть на край света пойду, — и она смело, с вызовом поглядела на джигита.
— Вот это девка! — восхищенно воскликнул Черный Казбек и, подражая офицерам, на повадки которых он достаточно нагляделся в веселых домах, галантно опустился на колено и обратился к Кате:
— Мадам, позвольте выпить за вашу красоту и смелость...
Все расхохотались, и пир продолжался.
Нурадил сжалился над доверенным и подал ему большую пиалу водки. Тот выпил ее и уже через минуту пел вместе с джигитами песни и ругал хозяина, кончил же тем, что сгреб все деньги в одну кучу и кинул их на стол:
— Берите все, — вопил он, — не обеднеет, пес проклятый.
Кое-кто из джигитов протянул было руку к деньгам, но Черный Казбек решительно остановил их:
— Деньги пойдут в общий котел. Мы теперь артель, и деньги у нас общие.
С конного двора вышли уже под утро. Шли веселой хмельной гурьбой, и будущее рисовалось в светлых, смеющихся красках.
НА ФРОНТЕ
Прошло несколько месяцев с тех пор, как Мардан вместе с ыргайтинскими джигитами попал на фронт. Всех их, как смутьянов, сформировали в одну часть и направили на рытье окопов в непосредственной близости от фронта. Весь путь они проделали в «телятниках» и выгрузились на станции, о которой джигиты знали только, что здесь совсем рядом фронт.
Часть джигитов отправили валить и заготавливать лес для строительства блиндажей, большинство же назначено было на земляные работы.
Работать заставляли сверх всякой меры. Порядка не было. Кормили из рук вон плохо. Джигиты целый день проводили по колено в воде, а ночью их ждали сырые, грязные землянки. Время от времени над районом работ появлялись немецкие аэропланы и сбрасывали бомбы. Близкая канонада не утихала ни ночью ни днем. Фронт непрерывно перемещался, и джигитов постоянно перебрасывали с места на место. Многие так исхудали, что трудно было понять, как они еще могут держать в руках лопаты. Обмундирования никакого им не выдавали, а своя одежонка износилась вконец уже в первые недели. Джигиты ходили в рванье, обовшивели и не чаяли дождаться конца мукам своим.
Всех мобилизованных казахов разбили на десятки, сотни и тысячи, во главе которых стояли соответственно десятники, сотники и тысяцкие. Ими стали байские сынки, за деньги купившие должности. На работах они первым делом заставляли джигитов строить им удобные, сухие и теплые блиндажи и целыми днями не вылезали оттуда. А сотники, и особенно тысяцкие, все время проводили в близлежащих городах и местечках, пьянствуя и развратничая на деньги, предназначенные для содержания джигитов, и на взятки поставщиков и подрядчиков, которыми кишели прифронтовые тылы.
После долгих мытарств и бесконечных отступлений джигиты очутились в городе Риге. Чего только не навидались, где только не рыли они окопы, пока добрались до этого города. Более всего их угнетало то, что русские войска ни разу не воспользовались теми окопами, которые они ценой невероятных лишений готовили для них. Только они заканчивали рыть окопы, а назавтра в них уже сидели немцы.
Джигитов же перебрасывали на новое место, где они опять рыли окопы, заранее зная, что они не пригодятся для русской армии. Таким манером тыловые части докатились до Риги.
Здесь, в Риге, скопилось очень много войск. Казахи увиделись с узбеками, киргизами, туркменами, каракалпаками, сибиряками. Здесь же встретили своих земляков из Акмолинска, Тургая, Туркестана, Семипалатинска, Семиречья. Все были вымотаны до предела, всем надоели бессмысленная война, тяжкий ненужный труд, грязь, голод и издевательства. Настроение среди солдат боевых частей было еще хуже. Относительный внешний порядок в частях поддерживался исключительно за счет палочной дисциплины. В войсках происходили волнения, солдаты были озлоблены. Еще немного — и грянет взрыв.
И вот однажды, когда джигитов привезли с работ в казармы, они увидели во дворе огромную толпу солдат, кричавших: «Скинули царя!» Неистовая радость охватила джигитов. Они присоединились к участникам митинга, которые с красными флагами уже выходили на улицы. Всеобщее ликование захлестнуло город, всюду только и слышалось: «Свобода!», «Да здравствует республика!»
Колонны демонстрантов собрались на городской площади. Людское море, расцвеченное флагами, слушало ораторов. Голова кружилась от шума, веселья, музыки духовых оркестров и от речей. Тем более, что речи были разными, и трудно было понять, кого же слушать, за кем идти, где правда, где ложь...
Ораторы один за другим появлялись на трибуне и бросали в толпу призывы:
— Царь низложен, мы добились свободы и счастья...
— Еще далеко до подлинной свободы. Гнать в шею всех эксплуататоров! Да здравствует единство рабочих, крестьян и солдат!..
— Да здравствует Временное правительство!
— Провались оно к дьяволу! Да здравствует власть Советов!
— Война — войне!..
— Война до победного конца!..
В этой сумятице прошло около десяти дней. Внешне для джигитов, казалось, ничего не изменилось. Те же начальники продолжали командовать ими, так же их ежедневно возили на работы, так же плохо кормили. Но разговоры в казармах изменились. Джигиты мечтали теперь об окончании войны, не как о чем-то несбыточном. Все чаше можно было услышать среди них слова: «свобода», «равенство». Что бы ни ждало впереди — возврата к старому не было.
АЛЕКСЕЙ
В один из вечеров, вернувшись с работы, джигиты, как всегда, собрались вокруг жарко натопленной железной печурки. Разделись догола и вытряхивали из одежды вшей на раскаленный верх печки. Вши заедали солдат, и не было от них спасения ни в сырых окопах, ни в землянках. Единственным другом солдат была железная печка «вошебойка».
И вот, когда полуголые джигиты собрались у «вошебойки» и с азартом поджаривали насекомых, находя в каждом из них сходство со своими начальниками — воинскими и аульными — и после особо дружного взрыва хохота, когда поджаривался «волостной Асылбек», дверь в казарму отворилась, и на пороге вырос стройный, светловолосый мужчина, одетый в куртку мастерового и кожаную кепку.
Многие знали его. Он и раньше не раз приходил в казармы и подолгу беседовал с джигитами. Звали его Алексеем Карповичем, был он мастеровым, несколько лет жил в Усть-Каменогорске и сносно знал казахский язык. Джигиты тянулись к нему — он многое знал, многое мог объяснить.
Сегодня, только он появился, нетерпеливый Шалгымбай закричал:
— Алексей-аке! У нас голова кругом от «свободы», все уши прокричали, а что это такое, не знаем. Все как прежде...
Некоторые из джигитов, недовольные поведением Шалгымбая и словно извиняясь за него, почтительно поздоровались с гостем, затем попросили занять почетное место.
Алексей Карпович вынул кисет с табаком, свернул «козью ножку», со вкусом затянулся и лишь тогда ответил на вопрос, заданный Шалгымбаем:
— До настоящей свободы еще далеко...
— Почему? — зашумели джигиты. — Царя-то ведь скинули.
— Я объясню вам, — продолжал Алексей Карлович, — но прежде расскажу о себе. Я родился и вырос здесь, в Прибалтике, сызмальства работаю на рижских заводах. Мы, рабочие, уже много лет боремся против богатых, против царя. Я участвовал в революционном движении еще до начала японской войны. А в пятом году наше восстание было разбито, и многие мои товарищи поплатились жизнью. Но рабочий класс не сложил оружия, мы продолжали бороться. Здесь, в Риге, у нас было несколько подпольных кружков. Была и своя тайная типография. Я работал в ней наборщиком. Мы печатали листовки, газету, воззвания до самого 1908 года. Нашу типографию искала царская охранка. Типография находилась в подвале дома, где я жил. Выдал нас полиции хозяин универсального магазина Грон. Его приказчик жил со мной в одном доме и заподозрил неладное. Грон сам донес приставу полиции, через несколько дней нас накрыли. Лучших товарищей потерял я тогда. Их повесили. Моя жена умерла в тюрьме. Меня и еще пять человек после долгих допросов, следствия и суда послали на Крайний Север. Я бежал из ссылки на Алтай, затем на Иртыш. Сменил имя, работал кочегаром на пароходах, там и научился говорить по-казахски.
Алексея слушала уже вся казарма. Джигиты, позабыв о делах, сидели с серьезными лицами, на которых поблескивали медные отсветы из открытого раскаленного нутра печки.
Неторопливо, размеренно текла беседа. Но в этой внешней неспешности скрывалось столько огня, столько внутренней силы, что внимание слушателей было захвачено целиком...
— Вернулся я в эти края только осенью, — продолжал Алексей Карпович. — Приехал, известно, тайно. Приходилось скрываться. Только десять дней назад стал ходить открыто... Но и сейчас опасаться приходится. Потому что сняли мы только голову у врага, а тело его еще живет...
— Как это?— не поняли джигиты.
— Голову, говорю, — повторил Алексей Карпович, — царя то есть. А враги наши живы еще.
Заметив, что джигиты не очень хорошо понимают его, он попытался растолковать им свои слова:
— Ну вот вы Грона знаете?! — спросил он.
— Знаем. Хозяин магазина! — отвечали джигиты.
— Верно. Миллионер он. У него такие магазины и в других городах есть. Но что вы на него работаете, это знаете?
— Как на него, мы на казну работаем, для фронта.
— А Грон все подряды на земляные работы для фронта здесь забрал себе... Выходит, вы работаете для фронта, а Грон палец о палец не ударит и положит в карман большие тысячи. Вот и получается, что для вас война — это труд, кровь, голод, вши, а для Грона богатство. А таких гронов тысячи, и все они живут за наш счет. Царь был главным — его скинули, ну а другие, помельче, остались. Они хоть и помельче, да много их, и не будет нам покою, пока мы от всех не отделаемся.
Джигиты согласно кивали головами. Алексей Карпович словно приоткрыл завесу, и в образовавшийся просвет они увидели многое, что раньше было непонятным для них. Вспоминали они собственных гронов — баев, волостных, биев, и яснее становился им будущий путь к счастью.
— Вот вы на митинге слышали: каждый оратор говорил о свободе. Но каждый посвоему. Одни кричали: «Да здравствует Временное правительство! Война до победы!..» — так нам с ними не по пути. Наш лозунг: «Да здравствуют Советы! Мир народам!» Вот с кем вы должны идти. Только когда власть получат бедняки-рабочие, крестьяне, народ выйдет на настоящую дорогу свободы и счастья...
— Это правильно, — мечтательно вздохнул Малгымбай. — Мир нам нужен. Надоела война...
ИМЯ ЛЕНИНА
Джигиты задумались над словами Алексея. Все было правильно. Сердцем чувствовали они правду. Но неясно было, что же делать им самим. Как добывать настоящую свободу?
И Мардан спросил Алексея:
— Что же делать нам?
— Бороться. Надо повернуть винтовки против своих врагов — буржуазии, чиновников, помещиков, баев.
— А кто же поведет нас?
— Есть такие люди.
— Кто?
— Большевики.
— А кто их вождь?
— Ленин!
— Ленин! Ленин! — повторяли джигиты, чтобы запомнить, сохранить в сердцах, донести до далеких родных степей это имя.
ПОГРОМ
Был воскресный день. На торговой улице не протолкаться. Одних солдат-казахов здесь бродило до пятисот человек. Денег у них не было, разве что на махорку и на семечки, но разве не удовольствие после душной казармы потолкаться среди публики, поглазеть, поболтать, хлебнуть свежего воздуха?
Вот и бродили кучки джигитов по чистеньким каменным улочкам Риги, разглядывали витрины, заходили в магазины, снова шли дальше, дивясь на незнакомый город, на незнакомые обычаи.
В широко распахнутые двери магазинов то и дело вливались потоки людей, но торговля шла вяло, за прилавками скучали продавцы и приказчики.
Группа джигитов, в которой был и Мардан, встретилась у витрины универсального магазина Грона с другой группой. Поздоровались. Постояли, загораживая тротуар, Наконец Мардан, глаза которого не отрывались от роскошной витрины, спокойно сказал:
— Джигиты а ведь нас не одна сотня на базаре, — и, чуть подумав, добавил:— Сила!
Джигиты почуяли, что Мардан что-то такое надумал, и встрепенулись, словно старые кони барымтачей, услышавшие знакомый клич набега.
— Ну!
— А не шумнуть ли нам на этом базаре?!
— Как? Что будем делать? — посыпались вопросы.
— А если мы магазин вот этого Грона потрясем немножко?
Воодушевление джигитов резко пошло на убыль.
— Ой-бай, не нажить бы беды...
— Будем все вместе, и ни один черт не разберет, кто прав, кто виноват. А со всех какой спрос? — уговаривал Мардан.
— Зачем нам этот? Давай какой-нибудь поменьше магазин выберем...
— Нет. Брать, так только у этого кровопийцы. Слышали, что Алексей говорил? Этот самый Грон за наши мучения миллионы загребает...
— А что такое миллион, Мардан?
— Тысяча тысяч!
Джигиты, ошеломленные цифрой, молчали. А Мардан продолжал:
— Так и будем говорить потом — брали не чужое, свое, заработанное. Да и что нам могут сделать? В тюрьму посадят? Так все одно — хуже, чем в казармах, не будет...
Джигиты молчали, не зная, на что решиться. И тут высокий, плечистый Исмаил сорвал с головы засаленный треух и ударил им оземь:
— Э-эх! Джигиты! В барымте на аул не оглядываются! Будь что будет!
— Давай, зови джигитов, — приказал Мардан.
Через полчаса у магазина Грона уже чернела большая толпа. Роль зачинщика скандала досталась Шалгымбаю.
В переполненном парадной публикой трехэтажном громадном магазине началась тихая паника, когда в толпе замелькали высокие казахские треухи. Казалось, в веселое, говорливое стадо пышных страусов вошли молчаливые угловатые верблюды.
Шалгымбай во главе группы подошел к прилавку с мелким товаром и стал прицениваться к большому ножу с деревянной рукоятью.
Продавец с отсутствующим видом бросил на прилавок несколько ножей. На лице его было глубочайшее презрение к собственной жизни, в которой приходится угождать разным проходимцам. Это еще больше раззадорило джигитов, подстегнуло их решимость, Шалгымбай не спеша выбрал один нож и стал пробовать остроту лезвия на заскорузлом черном ногте большого пальца. Видимо, остался доволен и невозмутимо принялся обрезать ногти. У продавца от возмущения отвисла челюсть, но сказать он ничего не успел, так как Шалгымбай внезапно перегнулся к нему, продолжая держать в руке нож, и внятно произнес:
— Отдай мои сапоги!
Загипнотизированный продавец, думая, что он хочет их купить, протянул Шалгымбаю сапоги. Шалгымбай взял их и пошел прочь. Тогда продавец опомнился, и тонкий, пронзительный крик всколыхнул публику:
— Эй, гражданин, а деньги?!
— Какие деньги? — недоумевал Шалгымбай. — Я же платил тебе!
Продавец с неожиданным проворством перескочил через прилавок и вцепился в сапоги:
— Не видал я твоих денег!
— Вот люди видели, как я платил, — Шалгымбай указал на джигитов.
— Вор, — прохрипел продавец.
— Я вор?! — изумился Шалгымбай и, воспылав справедливым гневом, замахнулся на продавца ножом.
Продавец отскочил от покупателя и заверещал: «Держи вора!!!»
Шалгымбай, в свою очередь, набрал в грудь побольше воздуха, и древний клич набегов зазвенел на всех трех этажах магазина:
— Аттан! Аттан! Джигиты, аттан!
И все смешалось в один миг. Послышался звон разбитого стекла, отчаянный визг перепуганных женщин, грохот посуды, ломаемой мебели, свирепые и испуганные голоса мужчин: джигиты кошками перепрыгивали за прилавки, хватали за горло приказчиков и продавцов. С улицы подбегали еще джигиты и врывались в магазин.
Грабеж был в полном разгаре.
Мардан метался по магазину с одной мыслью: «Забрать самое ценное». Наконец он очутился в ювелирном отделе и громадным кулаком в один прием высадил стекло в витрине. Затем сгреб с черного бархата подставки золотые и серебряные украшения и набил ими карманы. Следом за ним сюда ворвалась толпа джигитов, и больше Мардану ничего не досталось.
По залам магазина словно степной вихрь пронесся. Через десять минут в магазине не осталось ни одного джигита. Подоспевшие полицейские пытались остановить убегавших, но силы были неравны, и жиденькую цепочку блюстителей порядка смяли в одно мгновение.
ПОХМЕЛЬЕ
Только в казармах джигиты опомнились и поняли, что они натворили. Громко звучали трезвые голоса, теперь уже никем не обрываемые. Угар разгула схлынул, а впереди ждало тяжкое похмелье. Удальцы валялись по нарам, угрюмо огрызаясь на попреки благоразумных товарищей. Прослышав в городе о погроме, прибежал в казарму и Алексей Карпович. Он крепко отругал джигитов за грабеж, а в конце добавил:
— Ну, сделанного не поправишь. Теперь только держитесь вместе. Награбленное спрячьте или уничтожьте. И на все расспросы отвечайте: «Не знаем». Стойте крепко на своем и никого не выдавайте. Всех судить они побоятся.
— А если кого из наших арестуют? — спросили его джигиты.
— Не давайте, — решительно посоветовал Алексей Карпович.— Будьте стойкими! Может, тогда вас поддержат солдаты строевых частей. Во всяком случае, время массовых расправ миновало.
Затем Алексей Карпович попрощался с ребятами, сказав, что ему еще надо успеть в соседние казармы. Джигиты после его ухода немного поспорили, но в конце концов решили сделать, как говорил Алексей Карпович. Это был единственный выход, и джигиты это понимали.
К вечеру все казармы, где располагались «инородцы», были окружены комендантскими командами, и начались повальные обыски. В каждой казарме выстраивали всех солдат, и давешний продавец в сопровождении полицейского обходил строй, пытаясь опознать зачинщиков. Были они и в казарме, где жили казахи из Прииртышья. Но джигиты уже успели так ловко спрятать Шалгымбая и Мардана, что полицейские ушли ни с чем. Правда, они переворошили все сундучки и даже постели, но так и не нашли ничего.
Полицейские ушли, но оцепление казарм не снималось. А на следующий день всех джигитов выстроили во дворе, пересчитали и повели под конвоем на вокзал, где погрузили в эшелоны.
Колеса расшатанных теплушек громыхали на стыках рельс. В вагонах джигиты невесело гадали о своей судьбе.
— На фронт везут...
— Не-ет, в тюрьму...
— В Сибирь, будем на собаках ездить...
— Все ближе к родине...
— Близко не близко, а родных мест уже больше не увидишь.
А паровоз пронзительно свистел, черным дымом устилая свой путь.
АРТЕЛЬ
Извозчики, ушедшие от Ганшина, первым делом разыскали Орлова. Оказывается, он уже все подготовил, даже взял подряд на работы. Орлов привел джигитов в дом на Мокрой улице. Ворота открыла худая рыжеволосая женщина с ясной, доброй улыбкой.
— Заходите, товарищи. Место есть, все разместитесь. Джигиты шумно ввалились в чистую, прибранную горницу и неловко затоптались у двери. Они застеснялись своей грязной одежды, рваных сапог, оставлявших на вымытом полу мутные лужицы растаявшего снега. Но хозяйка радушно уговаривала не стесняться, проходить, и столько было в ее голосе искренней теплоты, что джигиты почувствовали себя словно в родном доме.
Первыми освоились Катя и Тоня. Они поженски быстро нашли общий язык с хозяйкой и уже через минуту бегали во дворе и на кухне, хлопоча о завтраке для артели.
Орлов вошел следом за джигитами и объяснил им, что это за дом.
— Товарищи, здесь будет ваше общежитие. Мы наняли этот дом за счет артели. Здесь и питаться будем. Теперь мы — артель. Все общее и один за всех — все за одного. И радость вместе и горе пополам — как говорится. А чтобы все было прочнее, крепче, надо вам вступить в профсоюз...
Джигиты доверяли Орлову. Он вполне оправдал их надежды — поселил их в просторном, чистом доме, нашел хорошую работу. Советует вступить в непонятный еще профсоюз. Что ж, вступим. Орлов худого не посоветует.
Орлов, не теряя времени, решил провести первое собрание. Он познакомил джигитов со своей женой, той самой женщиной, что встретила их у входа. Джигиты удивились, что фамилия ее оказалась Ловкова, а не Орлова, но спросить, отчего так может быть, постеснялись.
Орлов усадил жену за столик и предложил джигитам записываться в профсоюз. Записались все. Затем Орлов объяснил, что в городе будут только две артели грузчиков — русская и казахская, объединенные профсоюзом. Так что никто не будет теперь перехватывать работу друг у друга, цены будут установлены твердые, и за правильностью расчетов будет следить профсоюз.
С этого дня для джигитов началась новая жизнь. Вскоре казахская артель насчитывала сто семьдесят человек. Артельщики хорошо зарабатывали, приоделись, жили в чистоте, под влиянием Орлова и особенно его жены многие совершенно забыли дорогу в «кумысную». Появилось больше свободного времени, и многие джигиты стали учить русский язык. В этом им охотно помогала Ловкова. И Ловкова и Орлов подолгу объясняли ребятам, за что надо бороться, к чему стремиться.
РЕВОЛЮЦИЯ
Почти в тот же день, что и в далекой Риге, в Омске узнали о революции.
— Свобода! Свергли царя!
Город лихорадило. С утра на улицы вышли люди с красными флагами.
Орлов и Ловкова пришли в общежитие к грузчикам.
— Товарищи, революция. Царя свергли. Рухнула монархия...
Джигиты радостно загудели в ответ:
— Дай-то бог!
— Теперь мы покажем богатеям!
— Не будет ни волостных, ни биев!
— Теперь волостными мы сами станем...
Орлов несколько охладил страсти:
— Товарищи, царя свергли. Но еще сильны помещики-монархисты. Правительство царское пало, но класс богатых остался. Нам не нужна такая половинчатая свобода. Надо бороться за подлинную свободу без богачей, без угнетателей.
— А что, будем мы Ганшина гнать?
— Да. Мы должны победить всех Ганшиных и взять власть в свои руки. Иначе для нас ничего не изменится, Ганшин будет все так же пить нашу кровь.
— Верно. Правильно говорит, — поддержали Орлова.
Долго еще шла беседа. Многое успели понять джигиты.
И потому, когда на следующий день горожане собрались на большой революционный митинг, джигиты отправились на него сомкнутой колонной в рядах рабочей демонстрации, они ясно представляли, кто им враг, а кто недруг.
День выдался на редкость погожий. Косые лучи не по зимнему щедрого солнца жадно лизали снеговую корку. В некоторых местах она даже протаяла до земли. Над головами в синем, точно умытом ветрами небе плескались алые флаги. Все в городе спешили на митинг. Людьми овладело неодолимое желание быть со всеми вместе, поделиться с другими радостью, восхитительным чувством свободы. Джигиты не знали еще слов этих песен, но чувствовали, что это свои, кровные песни. И порой неумело, но с воодушевлением вплетали голоса в общий торжественный хор.
Много колонн шло в этот день на городскую площадь. У каждой колонны были свои песни, свои лозунги, но самыми внушительными были две колонны — рабочая и солдатская.
В казармах с самого утра шли горячие споры. Офицеры-монархисты, фельдфебели и унтер-офицеры уговаривали солдат не поддаваться на «провокации», остаться верными «царю-батюшке». Но основная солдатская масса и слушать не хотела их. Слова «свобода», «равенство», «братство» волновали солдатские сердца. Впервые почувствовали они себя полноценными людьми. Не будет больше зуботычин, матерщины, издевательств старших чинов. Повсеместно избирались солдатские комитеты — эти новые органы власти в войсках. Большевики, и раньше проводившие большую работу в воинских частях, поделили город на участки и всюду разослали агитаторов для участия в солдатских митингах. И в результате солдатская колонна на городском митинге была самой большой и представляла внушительную силу, ибо солдаты не собирались расставаться с оружием.
Были среди солдат и офицеры. В основном это были офицеры 19-го полка, многие из которых — либералы и демократы по убеждению — с радостью встретили известие о революции.
На трибуне один за другим сменялись ораторы. Площадь кипела. Неподалеку от нее в большом белом доме за плотно спущенными шторами, заложив руки за спину, нервно ходил по залу генерал-губернатор Сухомлинов. Иногда он подходил к окну, приподнимал штору и глядел на ликующую площадь. Затем снова принимался расхаживать из угла в угол. Его крупное тело металось по комнате, словно пущенный неверной рукой пьяного игрока биллиардный шар. Его роскошная белоснежная борода, еще недавно приводившая в трепет, внушавшая благоговение простым смертным, едва только он появлялся на улицах Омска в легких санках и в сопровождении конвоя, впервые за много лет не была расчесана и растрепалась.
...Что произошло?! Генерал не мог этого понять. Бывали и раньше революции. И раньше престол царский бывал в опасности. Но всегда выручали такие, как он, Сухомлинов, верные слуги царя и отечества. Но что же творится сейчас?
С утра он не может дозвониться ни в одну из казарм. Дежурного офицера нет. Личная охрана разбежалась. Кучер и тот, наверное, ушел на митинг. Ну и покажет же он им всем! Губернатор снова подошел к окну и долго глядел на площадь.
Генерал словно забылся у окна. Залитая людской толпой площадь показалась ему широкой разлившейся водной гладью Иртыша. И волны этой реки уже бились о стены его дома, уже подхватывали и несли — дальше и дальше, на самый стрежень. Уже захватило дух от стремительной силы этого потока, уже не хватало воздуха...
Дверь в залу неожиданно широко распахнулась. На пороге стоял офицер 19-го полка Русов, сзади него виднелись вооруженные солдаты.
Старый генерал снова был в седле — наконецто есть кому приказывать, теперь можно разогнать эту бунтующую сволочь. Но он не успел рявкнуть команды. Спокойный голос офицера громом отозвался в старческих ушах:
— Вы арестованы!
— Что-о-о?! Дак как вы...
— Это воля народа, генерал! Сдайте оружие!
Губернатор посинел от возмущения, губы его беспомощно запрыгали, он пытался выкрикнуть что-то, руки потянулись к оружию. Но возле него уже стояли два веселых солдата, направив прямо в генеральскую грудь трехгранные прославленные штыки, и один из них, улыбаясь, предостерег:
— Осторожней, вашескобродь! Как бы мундир не попортить...
Когда арестованный генерал появился на улице в сопровождении конвоя, площадь встретила его таким громовым «ура», какого ему не приходилось слышать и на царских смотрах.
ОТБИВШАЯСЯ ОВЦА — ВОЛКУ ДОБЫЧА
С первой весенней оттепелью вскрылся Иртыш. На пристанях громоздились товары, всю долгую зиму скапливаемые здесь. Теперь их ожидали открытые трюмы пароходов и барж. Артель Орлова, получив подряд на погрузку, принялась за работу. Но, загрузив пароход наполовину, джигиты побросали работу, жалуясь на плохую оплату.
Всю ночь совещались представители артелей, и утром ни один грузчик не вышел на работу, а Орлов с бригадирами других артелей отправился в контору компании требовать надбавки.
Требования выдвинули следующие:
«Первое: обеспечить грузчиков жильем неподалеку от пристани;
Второе: открыть для грузчиков столовую;
Третье: положить оплату за тысячу пудов груза — восемьдесят рублей!
Все грузчики не выходят на работу, пока требования не будут выполнены!»
Пароходная компания нашла требования «вздорными» и наотрез отказалась вести какие бы то ни было переговоры по ним.
— Что ж, тогда грузите сами, — отвечали представители грузчиков и с тем покинули контору.
Но члены компании не собирались сами грузить. На базары, на улицы, за город— всюду были разосланы агенты, чтобы нанять новых грузчиков. Агентам неожиданно повезло — они сумели завербовать в окрестностях Омска большую партию китайских кули, недавно перебравшихся в Россию и искавших работы.
Первым об этом сообщил джигитам Орлов. Он же и предложил план действий.
— Китайцы изголодались и готовы работать за один хлеб и воду, — говорил Орлов Мамбету. — Вы должны пойти к ним и уговорить их бросить работу. Пусть они вступят в наш союз и работают наравне с нами. Объясните им, что только в союзе мы можем бороться с богатеями, ставить им свои условия, Джигиты согласились с его доводами и после недолгих споров решили, что от казахов к китайцам пойдут Мамбет и Черный Казбек, а от русских грузчиков Медведев, знавший китайский язык.
Разукрашенные большими красными бантами грузчики появились на пристани, когда китайцы позволили себе короткий перерыв.
Мамбет подошел к группе китайцев, сидевших на солнцепеке, и спросил:
— За сколько подрядились?
— Тысяча пудов — двадцать пять! — ответил разбитной костлявый китаец с синей повязкой на голове.
— Вот как! А мы двадцать пять за деньги не считаем.
— Охо! Не считаете?! Так вы сытые. А мы голодные... Вы — красные бантики! А мы — синие животы!
...Долго пришлось Мамбету и его товарищам уговаривать китайцев. Но в конце концов, после того как джигиты объявили им, что они работают только на руку богатеям, китайцы согласились прекратить погрузку. Медведев сказал им, что они все принимаются в профсоюз грузчиков и кормить их будет профсоюз до окончания забастовки. Китайские кули внимательно слушали новых друзей.
— Товарищи, — говорил Мамбет, — дадим слово, что всегда будем вместе. Наши руки — в одном рукаве, наши слова из одних уст. На работу соглашаемся все вместе, и бросаем работу тоже вместе. И горе и радость — общие. А кто нарушит наш уговор — хоть русский, хоть казах, хоть китаец, — того мы выкинем из нашего союза. Кто согласен с этим, выходи вперед.
И очарованные китайские кули все как один шагнули вперед к новым товарищам, к новой правде.
Напрасно бесновался приказчик, угрожая милицией, джигиты в окружении новых друзей весело зашагали в город.
...Вечером милиция пришла за Мамбетом в общежитие и арестовала его. На беду, в общежитии не было ни Нурадила, ни Черного Казбека, и Орлов ушел по каким-то делам на станцию. Одна лишь Катя пыталась отбить Мамбета у новоиспеченных милиционеров, еще вчера носивших полицейские погоны.
Орлов вернулся к ночи и, узнав про арест Мамбета, рассердился и даже отругал джигитов:
— Зачем отдали товарища?!
— Мы и опомниться не успели, — смущенно оправдывались джигиты.
Орлов тут же созвал собрание.
ТЫ БОЛЬШЕВИК?
Мамбет просидел в участке всю ночь. Утром его повели на допрос к толстому черноусому полицейскому приставу.
— Большевик? — в упор спросил он Мамбета.
— А что это такое? — удивился Мамбет.
— Ты мне не прикидывайся, киргиз проклятый, отвечай на вопросы! — багровея от злости, заорал пристав.
— Я не знаю, о чем вы спрашиваете,— отвечал Мамбет. Он и в самом деле впервые слышал слово «большевик».
— Молчать! Ты вчера говорил китайцам: «Мы большевики, мы красные?» Отвечай!
— Нет, этого я не говорил, господин начальник!
— А говорил, что пароходное начальство «буржуи»?
— Правда, начальник... это говорил.
— Кто такие «буржуи»?
— Буржуи — это богачи, которые нашу трудовую копейку зажиливают.
— От кого ты это слышал?
— Это я давно знаю...
— Но кто-то же сказал тебе? Кто?
— Все теперь так говорят... Царя-то нет, революция.
— Может, Орлов тебе это сказал?
— И Орлов говорил...
— Вот и выходит, что ты настоящий большевик...
— Нет, я рабочий.
— Вчера ты отговорил китайцев работать?
— Не я один. Вся артель нас посылала. Платят мало, а на работе три шкуры дерут...
— И Орлов посылал?
— И Орлов... Да мы сами решили. Даром работать не будем. Мы уже третий год грузим эти пароходы. Революция пришла. А платят все равно мало. Одежды нет. Жить далеко. Ночуем на пристани, как собаки бездомные. А работа тяжелая...
Пристав о чем-то задумался, погладил пышные усы, изобразил на лице подобие улыбки и «отеческим» тоном мягко заговорил с Мамбетом:
— Послушай, парень. Ты, я вижу, не дурак. Все понимаешь. Ты же не первый год в Омске. Мы таких, как ты, киргизов уважаем. Хороший вы народ, киргизы. Скандалов не любите. Ну зачем вам бунтовать? Власти сердить? Вот работы лишились... а она на улице не валяется, работа-то. Но я знаю, кто у вас воду мутит! Все Орлов да еще Ловкова эта. А ты знаешь, кто они такие?
— Знаю.
— Ну кто?
— Рабочие. Они хорошие люди, они не о себе, обо всех заботятся.
Лицо пристава перекосилось, словно он отведал горького:
— Нет, они нехорошие люди! Преступники! Орлов убил человека, ограбил и убежал из тюрьмы. Он и ваших киргизов не одного в пути зарезал. Разбойник... Знаю я его. Он вас обманывает! Хочет, чтобы вы работали, а он соберет ваши денежки и... поминай как звали. Будете с ним водиться — беды не оберетесь. Нам жалко вас. Сейчас мы вам плату увеличим, но... будете еще бастовать — в Сибири сгною. Бунтовщики — враги государства...
Мамбет молчал.
— Иди, передай эти слова друзьям! Держитесь от Орлова подальше!
...Выйдя из участка, Мамбет увидел поджидавших его Катю и Нурадила.
— Ну, что?
— Отпустили.
Все трое радостные зашагали домой. По дороге Катя и Нурадил рассказали Мамбету, как они все во главе с Орловым ходили в контору пароходства и требовали освободить его. Как сперва начальство и говорить с ними не хотело, но когда они пригрозили порчей товаров, то хозяева быстро пошли на попятный.
...После освобождения Мамбета джигиты еще более уверовали в свои силы. Теперь не могло и речи быть о том, чтобы приниматься за работу, пока компания не удовлетворила их требования. Китайцы тоже держались стойко, десятерых из них Орлов даже включил в свою бригаду. И на четвертый день компания сдалась. Она приняла все условия забастовщиков. Джигиты впервые почувствовали свою силу, а главное, поняли, что сила эта — в единстве.
ЗНАМЯ НАД ТРЕУХАМИ
Эшелоны, в которых ехали джигиты из Риги, еле ползли по необъятной России. В теплушках царило уныние. Конвой не снимался. Питание было отвратительное. Эшелоны подолгу торчали на забытых богом полустанках, но людей выпускали редко. Никто не мог сказать, куда и зачем их везут. Ходили пугающие слухи, из которых самым страшным было «каторга», а самым легким — мусульманский суд у себя на родине.
Лишь когда перевалили Урал, джигиты почувствовали облегчение — все-таки знакомые места. Но впереди оставалась страшная Сибирь, где «люди ездят на собаках» и где «казаху не выдержать и полгода». Эта мысль отравляла радость свидания со степью.
Целые дни джигиты проводили у зарешеченных окон, у шелей в стенах вагонов. Жадно вдыхали воздух родины, с тоской следили за свободным полетом коршунов.
В Омск эшелоны пришли в конце апреля. Джигитам было велено выйти из вагонов и построиться. Здесь перед строем поджарый офицер в голубоватой шинели и франтоватой фуражке с высокой тульей торжественно объявил им, что они освобождаются от воинской службы и могут идти по домам.
Джигиты сперва не поверили своему счастью, но когда переводчик подтвердил слова офицера, они в неудержимом порыве сломали строй и бросились обнимать друг друга...
А в город уже проникла новость о возвращении джигитов. К вокзалу спешили все, кто надеялся встретить близких, друзей, товарищей. Среди джигитов шнырял и старый наш знакомец извозчик Сулейман. Он первым увидел Мардана и, радостно крутя малахаем над головой, стал пробиваться к нему.
— О-о, Сулейман,— завопил Мардан,— иди сюда!
Они крепко обнялись. Мардан объяснил товарищам, что это его старый друг. Сулейман сердечно поздоровался с джигитами, поздравил их с возвращением и пригласил к себе в гости.
— А что, все еще лошадкой кормишься?— весело подмигнув Сулейману, спросил у него Мардан.
Сулейман широко улыбнулся, оценив шутку.
— Заработки плохие... вот вас ждали... Да, по вашему виду не скажешь, что вы разжились в чужих краях...
— Верно, Сулейман. Но отпраздновать волю нашу хватит. Айда, ребята!
...На следующий день Мардан и его товарищи, выйдя на улицу, были поражены нарядным видом города. Повсюду люди шли по улицам нарядные, веселые, где-то звучала медь военного оркестра. Город встречал свой первый революционный Первомай.
Еще не совсем понимая, в чем дело, но уже чувствуя праздничное настроение горожан, Мардан, Шалгымбай и ыргайтинские джигиты поспешили туда — к звукам оркестра. По дороге им встретились колонны демонстрантов, каждая со своей, пусть самой примитивной, музыкой. На городской площади, куда стекались колонны со всего города, они попали в людской водоворот — праздничный, многоголосый, шумный. Вначале трудно было разобраться в этой толчее, но внимательный глаз мог заметить, что толпа не однородна, как не одинаковы и лозунги, которые выставляли напоказ демонстранты.
Мардан и его товарищи скоро почувствовали это, и им захотелось разыскать своих. Но сделать это было не просто. Выручил рослый Мардан. Над морем голов и плакатов он заметил красные флаги и лозунг «Да здравствуют Советы!»
— Пойдем к Советам, — сказал он друзьям,— там наши.
Такие же слова говорил Алексей Карпович...
Джигиты, плечами пробивая себе дорогу, скоро добрались к красным флагам, и почти тотчас же послышались радостные восклицания — друзья узнавали друг друга.
Кто-то крепко ударил Мардана по плечу, и, обернувшись, он увидел улыбающегося Мамбета, а рядом с ним Сатана — оба с красными бантами на груди. Мардан словно тисками сжал в объятиях обоих.
— Откуда ты? — спросил Мамбет.
— Вчера только вернулись. На воле теперь. Ну, а вы как? Где?
— Я в артели грузчиков.
— А я на железной дороге, стрелочник, — сказал Сатан. — Я тебя вчера на станции искал, но не нашел.
Мардан познакомил обоих со своими фронтовыми друзьями. Вопросам не было конца.
— Совсем освободили?
— Совсем. А где наши?
— Да все здесь. И Нурадил, и Черный Казбек, и другие...
— Послушай, а к кому нам присоединиться?
— Конечно к нам, к рабочим, куда же еще...
Мардан осмотрелся. Взгляд его остановился на кучке хорошо одетых казахов, среди которых он узнал адвоката Сыбана, спекулянта Жумагана, муллу Майбергена и знаменитого борца Кажимукана.
— А эти куда идут? — спросил он у Мамбета.
— Эти? — Мамбет презрительно усмехнулся. — К баям спешат. К своим хозяевам. Во-он, смотри. Видишь, стоит Омаркан. Председатель областного казахского комитета. Это «степной Николай», при царе медали и ордена за верную службу получал, а сейчас «первым революционером» стал.
— А кто это рядом с ним?
— Да Жексембай, волостной, не узнаешь, что ли?
— Посмотри, а вон тоже казахи идут. Знамя у них какое-то чудное...
— А-а, это наши «образованные». Байские сынки в основном. Знамя у них пестрое...
— А у вас какое? — вмешался Шалгымбай.
— У нас красное! Это и ваше знамя. Нам, беднякам, не по пути с баями...
— Пойдем к нашим, — сказал Мамбет.
Джигиты пробились к грузчикам и стояли теперь плечом к плечу в едином строю с товарищами. Впереди колонны Орлов высоко взметнул вверх красное знамя и звонко выкрикнул: «Да здравствуют Советы!».
Этот лозунг мощно подхватила вся колонна. Взлетели в воздух фуражки и треухи. Над головами джигитов в синем майском небе плескалось на ветру огненное полотнище, знамя революции.
НОВАЯ ВЛАСТЬ ─ НОВЫЙ ВОЛОСТНОЙ
На берегу степного озера расположился большой аул. Жалкие лачуги со стенами из жердей и соломы, обмазанными глиной, широким полукругом растянулись на пойменном лугу. В центре этого полукруга красовались две большие юрты. Одна из них — белая, восьмикрылая — выглядела особенно внушительно. Чуть поодаль от нас стояла еще одна — поменьше размерами, но зато нарядная — это было отау молодоженов.
Постороннему наблюдателю, смотрящему с вершины близлежащего холма, аул показался бы гнездом паукакрестовика. И в самом деле, большая байская юрта крест-накрест перетянутая черными волосяными арканами, могла легко сойти за разжиревшего паука, а бедняцкие лачуги, задымленные, прокопченные, походили на застрявших в его сетях мух.
Солнце клонилось к западу. В тени своей просторной юрты бывший волостной Асылбек только что кончил читать со своим домашним муллой четвертую молитву. Он не спеша убрал свой молитвенный коврик, а затем тяжело опустился на шелковые стеганые одеяла, облокотился о пуховые подушки и задумчиво вперил взгляд свой на степную дорогу.
Волостной ждал.
У порога соседней юрты его младшая жена — токал — старательно сурмила тонкие брови, не отрывая кокетливого взора от круглого зеркальца в серебряной оправе. Солидная байбише с торжественным выражением на лице перемешивала кумыс, доводя его до нужной степени готовности. Она зачерпывала красным деревянным ковшом на длинной ручке золотистый кумыс и, высоко подняв ковш, переворачивала его. Кумыс узкой струей лился обратно в широкую деревянную чашу, пенился и распространял вокруг щекочущий ноздри запах. Занятая этим чрезвычайно важным делом — разве могут эти нынешние молодухи по-настоящему приготовить кумыс, — байбише не забывала давать указания женщине, хлопотавшей у двух больших казанов.
Подле нарядного отау на большом текинской работы ковре стрекотали швейными машинками невестка Асылбека и его дочь — девушка на выданье.
Против аула, там, где пролегал степной тракт, огромный байский табун взбирался на косогор, поднимая облако легкой пыли. Косые лучи солнца столбами пронизывали это облако, и казалось, будто кони плывут в золотистых мягких волнах.
Вдруг табун смешался, закрутился бестолково, пронзительно заржали кобылицы. Вся громадная конская масса, словно рассеченная надвое гигантским мечом, стала быстро растекаться по обе стороны шляха. Из облака пыли вынырнул стремительный всадник. Он припал к самой шее своей лошади, точно хотел обогнать ее.
Асылбек приподнялся на подушках и с тревогой смотрел на приближающегося всадника. А тот еще издалека стал что-то кричать, и только погодя стало возможным разобрать слова:
— Суюнши! Суюнши!!! — кричал всадник. Асылбек улыбнулся. Всадник был уже рядом и, соскочив с коня, бежал к хозяину. Это был один из аткаминеров волостного, Аубакир.
— Суюнши! — повторил он задыхаясь.
— Говори скорее!
— Кемелбек стал «комитетом»!
— Бери суюнши, какое хочешь!
Все обитатели аула сбежались к байской юрте. Мальчишки тотчас же принялись выводить полузагнанного коня, женщины вынесли новые подушки для дорогого гостя. Аубакир, еле дыша от усталости, свалился рядом с волостным на подушки. Сам Асылбек подал знак, чтобы гонца угостили кумысом. Невестка бая своими руками поднесла гостю большую деревянную чашу, покрытую затейливой росписью. Аубакир одним духом опорожнил тостаган кумыса и сказал зардевшейся молодухе:
— С тебя, Рабига, я возьму самый большой суюнши! Ведь это твой муж Кемелбек стал начальником комитета! — и довольно рассмеялся.
Затем Аубакир принялся рассказывать о том, как проходили выборы, как Кемелбек стал «комитетом», о том, что сейчас он уже едет сюда, а сам Аубакир покинул его у Красного Колодца с тем, чтобы сообщить радостную весть.
Важно держа в пальцах предложенную Асылбеком папиросу, Аубакир рассказывал:
— Прибыли мы в «губернию», глядим, а там уже Кожабай со своими крутится. Они городского адвоката Жаксыбая на помощь себе взяли...
— А, негодяй, — заскрипел зубами Асылбек.
— Но, ничего, — продолжал Аубакир, — мы тоже не с овцами в загоне росли. Первым делом остановились у Кайролды, которому вы, бай-аке, этим летом трех кобыл подарили. А затем Кемелбек пошел прямо к Маселею — у него зять в губернском комитете. Ну мы, понятно, не поскупились. Пригласили кое-кого из комитета в гости. Принимали в доме Маселея, ииаче нельзя, разговоры могли пойти. Был среди гостей и хазрет Галяутдин, тоже член комитета. Угощали на славу. Еды, выпивки, сластей было вволю, да с собой кое-что унесли гости....
— Хватило денег? — спросил Асылбек.
— Маловато оказалось. Да Кемелбек у Кайролды призанял... Ну вот, проводили мы гостей, — а назавтра заседание комитета. Мы спозаранку явились, все приговоры и протоколы выборов с собой принесли. Принесли и кожабаевцы. Отдали и ждем. Кожабаевский адвокат и рта раскрыть не успел, как его задавили и Маселей и хазрет Галяутдин. Этот хазрет очень хитрый человек, он первый выбежал с заседания и попросил у Кемелбека суюнши...
— Обещал ему что-нибудь Кемелбек?
— Кажется, солового обещал ему...
— Пусть берет, — вмешалась байбише, — за эту радость не жаль солового отдать, а хазрет святой человек.
Домашний мулла Зикирия ничего не сказал, но с сокрушенным видом помотал головой. «Вот ведь какие подарки требуют эти муллы в городе, — думал он, — нам, бедным, здесь и вовек не достичь того, чтобы получить лучшего призового жеребца».
...Сердце старого Асылбека пело от радости. Наконец-то его сын стал достойным преемником отца. Не зря он учил его в городе, не зря тратил деньги, не зря вот уже два года всюду возил его с собою, знакомил с делами волости, обучал хитрому искусству управлять людьми. Крепкую смену себе подготовил Асылбек, и потому не застала его врасплох «черная весть» о том, что сняли царя. Асылбек сам послал сына в город. Сын должен был любой ценой стать человеком новой власти, и он добился этого. Пусть вырвали власть из рук Асылбека, но разве не сын его, плоть от плоти, кровь от крови его, сейчас восседает на кошме почета!».
Асылбек горделиво выпрямился на подушках и громко приказал джигитам седлать коней и с почетом встретить его сына, новое начальство.
... Немного погодя показался в степи и Кемелбек с товарищами. Встречавшие его джигиты крутились вокруг степенно рысящих всадников и оглашали воздух неистовыми криками...
— Поздравляю, — обнял сына Асылбек.
— Да не отнимет бог дарованного, — в один голос поддержали старого волостного аткаминеры.
Кемелбек с приличествующим его положению достоинством прошел на почетное место и сел.
— Васька, проходи сюда! — приказал он и затем пояснил отцу: — Я его в писари к себе взял.
— Хорошо! — одобрил Асылбек. — Старый знакомый. Он ведь сын моего писаря Мекепара.
Гости рассаживались на отведенные им места, и картина эта была радостна старому Асылбеку. Если забыть, что Кемелбека зовут не волостной, а «комитет», то она ничем не отличалась от той картины, когда это место занимал сам Асылбек со своим писарем Никифором, урядниками, стражниками и готовыми на все ради начальства аткаминерами.
ТОЙ
Вернувшиеся с фронта джигиты не задержались в Омске. Все спешили в родные аулы. Дружок Шалгымбай пригласил Мардана поехать вместе с ним. «Погостим у нас, — уговаривал он, — а потом, может, вместе в город вернемся».
Мардан подумал и согласился. Хотелось хоть немного отдохнуть от тягот окопной жизни. Дома у него не было, семьи тоже. Ехать было все равно куда: «У волка под каждым кустом дом». Да и расставаться с друзьями, к которым привык за год тяжелого изнурительного груда, тоже не хотелось.
... Через несколько дней тридцать ыргайтинских джигитов подошли к местам кочевья своего рода. Навстречу им за день пути сородичи выслали подводы, вышли встречать сами. Когда вдали показались джигиты, встречающие побежали навстречу, как бегут к своим ягнятам, возвращаясь в аул, овцы.
В ауле старца Аяпбергена не проходило и дня без гостей. Приезжали верховые, приходили пешие, из далеких аулов и из близких, родичи и просто знакомые — все считали своим долгом заглянуть в ыргайтинский аул, поздравить джигитов с благополучным возвращением. Даже самые бедные семьи приготовили для праздника одного-двух барашков. Шутка ли, сын вернулся! Таких «жертвенных» баранов набралось более тридцати, и джигиты решили резать их по очереди — по пять-шесть баранов в день, и пусть весь аул пирует целую неделю.
Шел последний день пира. В котлах варилось мясо последних четырех овец, в юртах в ожидании ужина гости вели степенные разговоры.
Мардан сидел на почетном месте в юрте Шалгымбая и слушал, как братишка друга играет на старой, почерневшей от времени домбре. В юрту набилась молодежь, которая с восхищением смотрела на Мардана и его товарищей, побывавших в далеких краях и видевших такое, чего не услышать из уст самых знаменитых акынов.
В это время за аулом громко и злобно залаяли собаки.
Худенький подросток, сидевший у порога, выглянул наружу и тотчас с испуганным выражением на лице нырнул обратно в юрту.
— Ой-бай, сам волостной Асылбек едет! Его испуг насмешил Мардана:
— Что же, что Асылбек? Его власть кончилась. Волостных больше нет, — засмеялся он.
— Не скажи, — возразил ему угрюмый парень, которого от мобилизации спасло увечье ноги, — волостных нет, это правда, да все же Асылбек большая сила.
— Как это? — не понял Мардан.
— А вот так, — продолжал калека, — Асылбек своего сына Кемелбая комитетом сделал. Вот и выходит — опять его власть.
Мардан внезапно понял, как далеко он от города, от товарищей, как легко снова может стать добычей жестокого Асылбека, которого он помнил по допросам в Баянской крепости. Но тут же эти мысли показались ему жалкими. Что такое? Разве у него здесь нет друзей?! Разве не изменились времена?! Разве не изменился он сам, чтобы по-прежнему чувствовать страх при имени Асылбека?! Нет! На этот раз уж он рассчитается с ним за все его проделки!.. В это время мимо юрты проехала большая толпа всадников, навстречу которой подобострастно спешил сам аксакал Аяпберген. Все население аула вслед за Аяпбергеном зысыпало наружу приветствовать всесильного человека. Особенно лебезили старики, умудренные горьким жизненным опытом.
УДАР ЗА УДАР
Недаром говорится, что «казах на той и с того света придет». Хотя джигиты и не оповещали соседние аулы о своем тое, но земля слухом полнится, и в ыргайтинский аул явилось множество разного люда. И все же приезда Асылбека никто не ждал — не такой он человек, чтобы целый день трястись в седле ради бесбармака из свежей баранины. Терялся старик Аяпберген в догадках: что понадобилось бывшему волостному в его ауле? И невдомек ему было, что Асылбек затем и приехал, чтобы доказать: не бывший, а настоящий он хозяин волости. И пусть не думают эти жалкие ыргайтинцы, что теперь можно и не приглашать на свой той Асылбека. Он покажет им, на чьей стороне сила.
Асылбека и его людей разместили в лучшей юрте аула, подали на расписных деревянных блюдах лучшее мясо, ухаживал за гостями сам Аяпберген. Но Асылбек был мрачен, нехотя пережевывал куски и все ждал, как бы проявить власть...
...И дождался. Со стороны соседней юрты послышался шум, и Аяпберген покинул гостя, чтобы узнать, в чем дело.
Буянил Куркимбай — гость из соседнего аула. За ним давно установилась слава бузотера, любителя поскандалить. Не останавливался он и перед тем, чтобы пустить в дело соил или шокпар. Был он богат, но жаден на чужое добро, не раз участвовал в набегах на аулы соседней волости и тем угоден был Асылбеку, который большую часть этих набегов организовывал сам.
Не успел Аяпберген переступить порог той юрты, где сидел Куркимбай, как тот напустился на него:
— Куда я попал?! — кричал пожилой задира. — Оскорбляют на каждом шагу. На той наш аул не пригласили — раз! А теперь кормят какими-то костями! Я не собака, глодать эти кости...
— Коке, пусть сбудутся все ваши желания. Простите нас, недостойных, — Аяпберген стремился все уладить миром. — На той мы никого не звали. Просто джигиты решили немного повеселиться... Сами знаете, откуда они приехали... А насчет мяса я сейчас прикажу...
В это время в юрту вошел рослый урядник Асылбека:
— Эй, Куркимбай, и ты, Аяпберген, вас обоих зовет к себе волостной!
... Джигиты, вернувшиеся с фронта во главе с Марданом и Шалгымбаем, тоже пошли к юрте, где разместился волостной. Они встали поодаль, выжидая, чем все кончится.
Куркимбай и Аяпберген предстали перед Асылбеком. Бывший волостной, видя их покорность, довольно улыбнулся. Вновь, как в прежнее время, он ощутил свою власть над этими людьми, и от этого сладко заныло его сердце.
— Чей той в ауле? — спросил он вдруг.
— Вот его! — толкнул в Аяпбергена коротким, словно обрубленным пальцем Куркимбай и засмеялся булькающим смехом.
— Той джигитов! — робко поправил его Аяпберген,— Таксыр, джигиты режут своих жертвенных баранов.
— Ты лучше скажи «мой той», — перебил его Асылбек. — Аул твой. Значит, и пир твой. А обычай казахов не забыл?! Гостя на тое хоть на макушку сажай! Сейчас же удовлетвори Куркимбая!
— Чем же удовлетворить, таксыр?
— Зарежь жеребенка!
У Аяпбергена подкосились колени, он опустился на кошму, словно не в силах был выслушать эту новость на ногах. Зато Куркимбай с довольным видом крутил свой рыжеватый ус.
В это время в юрту толпой ввалились джигиты. Впереди Мардан и Шалгымбай. Мардан подтолкнул своего дружка, и тот, засучивая рукава, двинулся к торжествующему Куркимбаю:
— Ты, рыжий, видно, пришел в наш аул не бараньи, а наши собственные кости глодать?
Таких слов Куркимбай не слышал за всю свою разбойную жизнь. Особенно не ожидал он услышать их от такого щенка, как этот... Да еще перед волостным...
Красный от гнева, он тяжело повернулся к джигиту. Асылбек тоже вначале оторопел от подобной наглости, но быстро взял себя в руки.
— Иди, слово сказано! — приказал он Аяпбергену, делая вид, что не слышал Шалгымбая.
Но тут вмешался Мардан. Обращаясь ко всем джигитам, он заговорил звенящим от напряжения голосом:
— Они думают, что на дворе старые времена, когда за обиду такому гостю шитый золотом чапан надевали!
В юрте после этих слов стало тихо. Слышно было, как далеко в табуне заржала игривая кобылица, радующаяся первой своей весне. Все смотрели на Мардана. А он стоял, весь наливаясь тяжелой кровью. Затем, играя восьмижилой витой камчой, шагнул прямо к волостному и опустился на ковер против него.
— Болысеке что вам сделали эти бедные люди? Чем прогневали они вашу милость? Да знаешь ли ты, что даже Николай с трона слетел!
Асылбек весь передернулся от возмущения. От наигранного спокойствия не осталось и следа.
— Прочь! — заорал он. — Уберите эту собаку! Урядник кинулся выполнять приказ, но Мардан одним прыжком очутился на ногах.
— Аттан! Аттан! — закричал он. — Есть ли здесь настоящие джигиты!
— Есть! — ответил ему согласный хор голосов, и джигиты ринулись на недругов. Схватка была короткой. Большая крепкая юрта ходила ходуном, а через минуту из нее стали выбрасывать нокеров, волостного, урядника, Куркимбая и наконец самого Асылбека. Избиение продолжалось и снаружи.
Аяпберген со стариками пытались было утихомирить джигитов, но те разошлись уже. Словно река прорвала плотину покорности, и страшен был свободный бег гнева. Только женщины смогли как-то утихомирить страсти и спасти волостного от увечья.
Полуживого Асылбека положили поперек седла, наименее избитый нокер взял повод его коня в руки, и «почетные гости» покинули негостеприимный аул. А джигиты, довольные тем, что проучили нахалов, веселились до утра, пели песни, вспоминали свои подвиги, хвастались, кто кого сильнее ударил.
«МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ»
Мать Шалгымбая, Даметкен, вырыла в земле канавку с ямой посредине, укрепила над ямой древний котел и развела в очаге огонь. Направление канавки выбрала она по ветру, и огонь быстро разгорелся. Вода нагрелась, и Даметкен длинным черпаком стала наливать ее в деревянное, латанное жестяными скобами корыто. Затем достала из сундучка какой-то узелок, долго разматывала его, и вот на свет показался черкый обмылок. Даметкен намылила им белье сына и принялась за стирку.
Шалгымбай сидел на вытертой кошме, прислонясь спиной к дырявой стене юрты. Он был занят починкой сапога, у которого в недавней драке с нокерами волостного отлетела подошва. У Шалгымбая на правой кисти не доставало двух пальцев, это случилось с ним еще до мобилизации, но тогда доктор приписал ему умышленное вредительство и послал увечного на фронт. За год окопной жизни рука Шалгымбая мало-помалу приучилась к работе. И сейчас Шалгымбай ловко орудовал шилом и нитью, скрученной из конского волоса.
Мардан подошел и улегся на спину возле работающего Шалгымбая. Даметкен, глянув на него из-под сбившегося платка, сказала:
— Снимай белье, постираю!
— А мыло есть, мать? — спросил Мардан.
— Вот, кусочек сберегла для сына. Хватит и на твое... Раздевайся, а Шалгымбай даст тебе что-нибудь одеть. Да поторапливайся, а то к вечеру дождь собирается, высохнуть не успеет...
Мардан вошел в юрту и вскоре вынес Даметкен узел многострадального солдатского белья. Сам он в коротких зимних штанах Шалгымбая, с голым животом и грудью, снова блаженно растянулся на солнцепеке.
— Что, снова латаешь свои скороходы?! — спросил он. Шалгымбай вздохнул:
— Да, натерпелся я горя с ними, проклятыми. Не знаю, как и ношу их еще... Голенища сгнили...
— Эх, тебе бы сейчас те сапоги, что у Грона в магазине взял!
— О-о! Если бы у меня были те сапоги, то сейчас и хану дорогу бы не уступил. Да, видно, не судьба. Как прошел слух, что будут обыскивать, я их утопил в уборной... А жалко — добрые сапоги были, подошва в два пальца...
— Еще бы не жаль. Да хорошо, что так кончилось. Могло быть хуже. Голова добра дороже...
— Это верно...
Джигиты вздохнули, задумались. Прямо в сомкнутые веки Мардана светило солнце. Хорошо было лежать на спине, пить закрытыми глазами солнечное тепло, слушать тишину и всем телом, каждой жилочкой большого, усталого тела ощущать покой, мир, жизнь.
Рядом раздалось старческое покашливание. Мардан открыл глаза и увидел согбенную временем и житейскими невзгодами фигуру Аяпбергена. Мардан из почтения к возрасту аксакала поднялся и предложил старику сесть.
Старец, долго, со вкусом, кряхтя и причитая, усаживался на кошму. Затем достал неведомо из каких закоулков своей одежды кожаную табакерку, торжественно открыл ее, заложил за губу щепоть наса и блаженно прикрыл глаза.
Наконец он заговорил:
— Э-э, дети мои, в дорогу собираетесь?
— Собираемся, Айеке, — ответил Шалгымбай. Старик, расположенный к длительной беседе, поерзал, удобнее устраиваясь на кошме, сплюнул коричневую струйку табачной жижи и неторопливо продолжал:
— Это хорошо, дети. Пусть бог сделает вашу дорогу легкой. Пусть не знают горя молодые джигиты. Мы, старики свое отжили, положенное съели, положенное отлюбили. Я теперь за караултщика в этом ауле. Один остаюсь. Все джигиты уходят. Это неплохо, пусть ищут счастья. Вот только бы волостной не натворил беды...
Э-э тайири, что может волостной сделать? А вы все боитесь! Боялась кобыла волка — он ее и съел. Но Аяпберген упрямо продолжал:
— Не скажи, Асылбек силен еще. Вот, может, вы наберетесь ума-разума в городах, окрепнете. Тогда и поспорите с Асылбеком. А у нас силушки не те, чтобы тягаться.
— Кария, так не будет вечно. Царя сбросили, народ почуял свою силу и теперь не остановится, пока не добьется своего. В России народ уже понял, что надо бороться за свою правду, поймут и у нас. И скоро поймут. Тогда полетят и Асылбек и его псы вверх тормашками. Верьте, кария.
— Э-эх, светик, дожить бы до этого дня — и умирать не жалко. Сомнительно все это, да и верить хочется... — старик задумался. Недаром говорят: «Вода накопится, и мельница заработает». Может, так и будет, а пока храни нас бог от гнева Асылбека. Он не простит нам позора...
Шалгымбая волновали свои дела:
— Айеке, ласково обратился он к старику, — вот я уезжаю и оставляю мать на вас. Присматривайте, помогайте, чем можете, ей. Бог даст, я к осени обернусь...
Аяпберген помолчал немного и ответил:
— О чем говорить, светик! Я ведь как старый караульный шест. Воткни в землю — и ступай. Когда ни вернешься, найдешь меня на том же месте. Этот дом ты оставляешь на бога и на меня. Жив буду — не подведу. Вместе со мной будет горе мыкать. И кочевать вместе и зимовать не порознь.
Даметкен, поняв, что разговор зашел о ней, оторвалась на минутку от корыта:
— Говорила я ему: хоть это лето дома побудь — не слушает. Опять бродяжить собрался.
Шалгымбай прервал горькие излияния матери:
— Я не торговать еду в город! В такое время разве даст бедность сидеть дома?
— Это-то так, — не сдавалась Даметкен, — так мог бы и на зиму в город податься. Лето хоть дома побудь.
— Что же ты хочешь? Чтобы я все лето молоко одной коровы с тобой делил да ничего не делал?
— Поезжай, поезжай, дитя! — поддержал Шалгымбая старик. — Здесь тебе делать нечего. Табунов у нас нет, отар тысячных тоже. Поезжай. «Божью овцу и волк не тронет». «Хоть ишаку под хвостом чисть — все обе руки будут заняты». В городе какая-никакая, а всегда работа найдется.
Это было верно. И Шалгымбай и Мардан хорошо понимали, что жить в ауле не на что. Пир окончен, а впереди тоскливая полуголодная жизнь. Да и стосковались джигиты по шумным, полным жизни городам. Мардана тянуло на Иртыш снова работать на пароходе. С ним вместе шел и Шалгымбай. Еще двое джигитов собирались дойти с ними до Экибастуза и попытать счастья на тамошних шахтах. Остальные тоже задумали отправиться на заработки кто куда — одни косарями, другие на любую поденную работу в городах или в богатых русских селах. Завтра они должны были с первыми лучами солнца отправиться в неблизкий свой путь...
С наветренной стороны аула послышались ребячьи голоса. Дети о чем-то тревожно кричали и без оглядки бежали к аулу, растрясая на ходу жиденькие вязанки хвороста.
— Солдаты! Солдаты! — донеслось до аула. И тут же Мардан увидел, как на гребне холма в полукилометре от аула внезапно выросла линия вооруженных всадников. Даметкен испуганно замерла у корыта. Аяпберген медленно поднимался на трясущихся ногах, забыв на кошме свою табакерку.
Передний всадник раскрутил над головой искристую полоску стали и, молодецки подняв коня на дыбы, бросил его затем в намет. За ним, поднимая клубы пыли, с диким ревом рванулись вниз на беззащитный аул остальные тридцать всадников.
Через минуту вся эта лавина уже была среди юрт аула. Храпели кони, трещали изгороди загонов, суматошно лаяли собаки, вопили женщины. Окруженный вооруженными всадниками асылбековский урядник с незажившими синяками на лице истошно орал:
— Ну, где же храбрые джигиты! Выходите! Что же вы, сукины дети, за материнские юбки попрятались!
Тут он увидел стоявших Мардана и Шалгымбая.
— Вот они, собаки! — заревел он.— Взять их!
На джигитов кинулись вооруженные всадники. Не помогла Мардану его сила, удар плашмя саблей по голове осшеломил его, а в следующее мгновение он был сбит с ног и ему вязали руки. Шалгымбай кинулся было на помощь, но в грудь ему уперлись сразу три винтовочных ствола, а горло туго перехватила волосяная петля курыка.
Весь аул был разгромлен в полчаса. Нападение было так стремительно и неожиданно, что никто не успел опомниться.
Аяпберген оказался прав. Асылбек был не тот человек, кто молча проглатывает оскорбления. И пока на его стороне была сила, он всеми способами стремился отомстить за свой позор. Благо в этот раз не потребовалось даже искать новых способов. Просто избитый Асылбек, вернувшись в свой аул, тотчас послал в баянаульский комитет к сыну нарочного, прося его отрядить милицию для наказания зарвавшейся черни. Примерный сын поспешил выполнить просьбу отца...
На этот раз милиционеры не стали жечь аул, ограничились тем, что избили и арестовали одиннадцать джигитов. Много хлопот доставил им Мардан, который все пытался порвать связывающие его веревки и кричал:
— Ну погодите, гады! Будет и нам светить солнце! Сегодня вы, а завтра мы! Встретимся еще с вами!
РАСТЕРЯННОСТЬ
На краю городского базара — попросту толкучки — приютился задымленный балаган-чайхана мантошника кашгарца Ыбрая. Огромного кашгарца во всякое время дня можно было видеть у окна своего прокопченного саксаульным дымом заведения, где он, в халате, накинутом на голое тело, подпоясанный пестрым ситцевым платком, в остроносых кожаных галошах на босу ногу, зычным голосом зазывал посетителей:
— Хэр! Бисмиля!— кричал он, окутанный паром мантошницы. — Ха, жирные манты! Подходи, покупай! — и его голая грудь, поросшая на диво густым волосом, ходуном ходила от могучих выкриков.
Когда же громогласный хозяин ненадолго покидал пост зазывалы, то его с успехом заменял громадный тульский самовар, привлекавший прохожих веселыми струйками пара и начищенными до блеска медными боками. Около чайной постоянно вертелись беспризорные дети, готовые за один мант и глоток чаю выполнить любое поручение. Не обходили вниманием чайную и заезжие степняки. Ни один из них не уезжал из города, не побывав в кумысной Белгибая и в мантошной Ыбрая. А для многих именно с них и началось знакомство со столицей лесостепного края.
Именно здесь и остановился в первый свой приезд в город старец Аяпберген. Привязав к коновязи усталую лошадь, разбитый вконец долгой дорогой, он поплелся в чайную. Его соблазнил молодецкий вид зазывалы, тульский самовар и сытный аромат мантошницы.
Всю верхнюю половину полутемного помещения занимал низенький деревянный помост, устланный домоткаными пестрыми алаша. Аяпберген скромно примостился в уголочке. К нему тотчас же подскочил Ыбрай:
— Что вам, чай?
— Один чайник, карагым, если можно?
Тотчас перед Аяпбергеном появился изъеденный старостью до дыр жестяной поднос, а на нем фарфоровый чайник и китайская пиала. Аяпберген с наслаждением пил чай и робко осматривался вокруг. Внимание его привлек рыжий джигит с газетою в руках. Это был известный среди мусульманской части населения Омска «ученый» Байгарау. Был он из кокчетавских казахов. Самоучкой, прислуживая в доме у писаря, научился читать и писать по-казахски. Потянуло его учиться дальше. Собрал он нехитрые пожитки свои и однажды пристроился к обозу, шедшему в Омск. Слышал он от людей, что в Омске учится много казахских ребят. Так оно и было, только учеба дорого стоила, и ему — бесприютному горемыке — оказалась не по деньгам.
Байгарау пошел бы учиться в духовную медресе, но годы уже не те — парню стукнуло двадцать. Стал он перебиваться случайным заработком, но страсть к чтению не оставил. Случай свел его с кашгарцем Ыбраимом, и тот, узнав, что парень умеет читать и писать, предложил ему угол в своей мантошной. С тех пор Байгарау получил возможность вволю читать газеты, журналы, книги, полеживая в теплом углу на помосте. Ыбраим получал свою выгоду: неграмотные степняки, прослышав о писаре Байгарау, зачастили в чайхану — тому письмо написать нужно, другому прочитать письмо, а многие приходили просто послушать, что пишут в газетах, узнать новости. Народу стало ходить к Ыбраиму не в пример больше прежнего, и торговля бойче пошла.
...Аяпберген с возрастающим вниманием следил за Байгарау, который, окончив читать газету, объяснил окружающим:
— Вот, в Оренбурге съезд, тово...
— Чей съезд? — спросил грузный с отечными веками казах.
— Казахских граждан. Вот в газете съезд, тово, созывают.
— Зачем созывают?
— Например, скажем: на этом съезде казахская автономия, тово...
— Чего болтаешь?!— спрашивающий рассердился на незнакомое слово. — Ты скажи, что про войну пишут?
— А это самое. Вот, например, Керенский сам ездил на западный фронт и, тово...
— Что тово?
— То самое, Керенский поехал и, тово... фронт поддержал и против немцев, тово...
... Аяпбергену Байгарау показался умным, всезнающим человеком, для которого все как открытая ладонь. Он даже похвалил себя за то, что догадался остановиться в этой чайхане — сразу же натолкнулся на нужного человека, который поможет ему...
А в это время грузный казах все не отставал от Бангарау, пытаясь выведать что-либо путное. Но, хотя тот и отвечал ему охотно, ничего понять из его ответов было нельзя.
— Да ты ответь ясно, пишут там о мире?
— Нет, о мире не пишут.
— Ну, так и нечего попусту толковать!
Байгарау обиженно отвернулся от грузного человека. Эти неучи не умеют ценить умную речь. А он еще надеялся, что его пригласят отведать мант! Как же, дождешься от этих скотов!
Тут Байгарау заметил, что сидящий в углу старец бросает на него быстрые взгляды, и преобразился. День был впереди, а на одного грубияна всегда приходится больше вежливых, тех, кто ценит его талант.
Аяпберген, заметив, что нужный ему человек остался в одиночестве, робко приблизился к Байгарау.
— Светик, — льстиво обратился он к нему, — по лицу вижу — высокоученый, достойных родителей ты сын. Мне нужен умный советчик, не откажи стариковской просьбе.
Байгарау оглядел старца с ног до головы и, как можно равнодушнее, спросил:
— Откуда вы, аксакал?
— И не говори, соколик, — завздыхал Аяпберген. — Издалека я. Аул наш у Баянских гор. Сами из рода Аргын...
— С каким делом сюда, тово?
— Э-э, светик, недаром говорится: головы человечьи — мячи в руках аллаха. Об этом городе я только слышал, видеть его не доводилось, да вот на старости лет по воле аллаха, не по своей, попал и я сюда...
— А все-таки, что за дело?
— Волостного обидели, а он одиннадцать наших джигитов в тюрьму упрятал...
— А за что, например?
Аяпберген принялся подробно объяснять суть дела. Байгарау с ленивым выражением слушал его. Лишь когда Аяпберген заказал Ыбраиму манты и чай, некоторое оживление появилось на лице «ученого» казаха.
— Я все понял, аксакал, — сказал он наконец, — дело скандальное. Трудно, например, доказать, что вы правы. Но мы придумаем что-нибудь. Есть у меня, тово, знакомые... Помогут... Только им надо, тово... поняли? — и Байгарау сделал выразительный жест.
Аяпберген взмолился:
— Уж ты, голубчик, устрой это дело... А мы ничего не пожалеем... последнюю скотину продадим в случае чего...
УШ ЖУЗ
Байгарау охотно согласился помогать старику, пока у него есть деньги. Он написал прошение на двух языках в Казахский губернский комитет, заранее впрочем уверенный, что из этой затеи ничего не выйдет. И верно — старика прогнали из комитета вместе с прошением на двух языках и еще обругали за то, что он беспокоит занятых государственными делами людей жалобами на уважаемых в степи граждан.
Тогда Байгарау предложил другой план: обратиться к частному адвокату. Беспомощный, растерявшийся в городской сутолоке Аяпберген согласился, и через некоторое время они уже стояли у дома известного в Семиречье адвоката Субая.
Дверь им открыла молоденькая служанка татарка, и Аяпберген с надеждой переступил порог.
Небольшого роста, с хитрым выражением маленьких сощуренных глаз, человек приветливо поднялся навстречу посетителям.
Он радушно и истинно по-мусульмански ответил на приветствие Аяпбергена. Услышав торжественное «Уагалайком ассалям», Аяпберген сразу почувствовал, что находится в доме правоверного.
Адвокат тепло пожал гостям руки, пригласил сесть на разостланное у стены корпе и сам устроился тут же.
— Откуда вы? — спросил Субай у Аяпбергена, благожелательно глядя на старика.
Но ответить поспешил Байгарау:
— Я сам этово, — зачастил он. — А вот старик тово... из Баянаульского уезда... Он с жалобой на тово... на уездный комитет... Их них джигитов в тюрьму, это самое... А о вас мы, тово... наслышаны... в газетах читали, в журналах... вот и пришли...
— В каких газетах читал? — недовольно поморщился Субай. Газеты обычно не писали о нем ничего хорошего.
Байгарау заторопился:
— Я, того... постоянно читал газету «Алаш»...
Сердце адвоката снова забилось ровно и уверенно, газету «Алаш» выпускал он сам. Теперь он смотрел на Байгарау почти с симпатией. Аяпберген завозился на ковре и просительно начал:
— Светик, вижу, светлая у тебя голова. Хочу рассказать тебе о беде нашей.
— Рассказывайте.
— Наши аулы маленькие. Прошлым летом наши джигиты не хотели на войну идти, ну и выступили против власти... А волостной наш круто дело повернул... Всех до одного из наших аулов джигитов на фронт угнал. Но отмолили мы сыновей у неба, вернулись они домой...
— Революция их выручила, аксакал, — сказал адвокат. — Без революции ваши джигиты все еще окопы бы рыли...
— Уж это, тово, известно,— важно поддержал Байгарау. — Ему не терпелось показать свою «образованность» перед таким человеком, как сам Субай-адвокат.
— Обрадовались мы возвращению джигитов, — продолжал Аяпберген. — Зарезали обещанный скот, устроили угощение... На той, как на грех, приехал наш волостной Асылбек — сын его сейчас комитет в Баяне, и нехорошо вышло у него с джигитами. Поскандалили они и избили Асылбека...
— Прекрасно, — воскликнул Субай. — Это тоже веяние революции...
Аяпберген еще более ободрился:
— Ну, а конец известен. Асылбек пожаловался сыну, а тот прислал солдат... Одиннадцать джигитов забрали... Сейчас в Баяне в тюрьме сидят... Вот за этим и приехал сюда...
— В уезде были?
— Ой-бай, где я только не был, мирза! Нигде правды нет. Одна надежда на тебя, сынок...
— В здешний казахский комитет ходили?
— Был и там. Слушать не стали... Уж ты постарайся, сынок, мы, в случае чего, за ценой не постоим, скот продадим.
Субай задумчиво погладил подбородок:
— Хорошо, аксакал. Я займусь вашим делом. А в казахский комитет вы зря ходили. Там правды вам не найти...
— Откуда нам знать, сынок. Сказали «казахский», я и подумал, что это наш...
— Будь прокляты такие казахи... — адвокат заговорил горячо, нервно, — они только и знают, что пьянствовать да в карты играть. Гнездо развратников. Я сам возьмусь за ваше дело... — продолжал Субай. — Будьте спокойны, аксакал. Завтра же узнаю, что к чему, и зайду в окружной суд...
— Так и надо, тово...— одобрил Байгарау.
— Я сам буду защищать вас в суде...
— Аллах не забудет тебя, сынок.
— Только вот что. Возможны дополнительные расходы... — Субай испытующе глянул на Аяпбергена.
Старик непонимающе обратился к Байгарау. Тот пояснил:
— Деньги, тово, нужны...
— А-а, деньги... Не пожалеем, сынок, не пожалеем...
— Я сам ничего с вас не возьму до окончания процесса. Я не продаю свою помощь, я сделаю это во имя аллаха, во имя нашего славного ушжуза, во имя народа моего...
Аяпбергену показалось, что он встретил самого посланца бога. А Субай продолжал:
— Мне хватит и своих средств. У меня денег полный шкап. Но, чтобы добиться успеха в наше продажное время, нужны деньги... Недаром говорится: «Деньги съедают величие...» Надо будет кое-кому заткнуть рот...
Байгарау понял, куда клонит адвокат, и подтолкнул старика:
— Сколко у вас с собой денег?
— Привез я триста пятьдесят, да истратился немного... Адвокат не раздумывал и мгновения:
— На первых порах хватит и трехсот. Попробую начать с теми... Повторяю, для себя мне ничего не нужно... Отблагодарите потом, когда джигитов освободят... А сейчас... три сотни...
— Светик, ты прав... Ты нам как родной стал. Вечно за тебя бога молить будем... Бери деньги... А остальные, как скажешь, так и достанем...
После этого адвокат записал для памяти имена арестованных. Аяпберген сидел счастливый, обмякший. Впервые за многие дни у него появилась надежда, что джигиты снова увидят родные очаги, а негодяй Асылбек будет наказан.
Субай принял от Аяпбергена деньги, еще раз уверил его, что все в порядке, и обратился теперь к Байгарау:
— А тебе я вот что скажу: вижу, что ты самый настоящий казах, трудящийся казах. Не то что какой-нибудь там бай или торе. Записывайся в нашу партию «Ушжуз». Мы стоим за федерацию... Наша партия против алашской партии Галиханов.
— Какая партия? — не понял Байгарау.
— «Ушжуз». Название чисто народное. Мы посылаем на съезд в Омск своих делегатов. Скоро будут выборы, и мы хотим включить в свой список таких трудящихся казахов, как ты. Может быть, и в Петроград попадешь!
Байгарау был не прочь попасть в Петроград, но его мучили сомнения.
Субай не стал пока настаивать и, договорившись встретиться завтра, отпустил их.
Аяпберген и Байгарау шли назад в мантошную Ыбрая, и по дороге одолевали их самые различные мысли. Байгарау уже видел себя в Петрограде, в сверкающем царском дворце. Аяпбергену казалось, что он уже обнимает своих джигитов, радуется их свободе. И невдомек было аксакалу, что совсем не там искал он правду, что не к тем людям ходил и что освободят его джигитов не Субай-адвокат и продажные судьи, а такие же, как они, бедняки.
ПОДПОЛЬЕ
Пришла осень. Меньше грело солнце, все чаще небо затягивалось рваным пологом туч. Уже больше полугода прошло с тех пор, как свергли царя. И с каждым днем народ все яснее понимал, что ничего не изменилось для него. Все так же приходилось от зари до зари гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба. Все так же у власти стояли заводчики и помещики, баи и степные воротилы, только что названия поменяли. С каждым днем все более лютовала полиция, называвшаяся поновому «милицией». За большевиками охотились тайные агенты бывшего жандармского управления. Митинги и собрания рабочих запрещались. Пришлось скрываться и Орлову. Он попрощался с джигитами, пообещав скоро вернуться, и ранним утром покинул город...
Неподалеку от городского вокзала в мастерской железнодорожного управления шла горячая работа. Ровно и низко гудело в горне пламя, мерные удары механического молота сотрясали фундамент здания. Высокий жилистый старик в синей рубахе и круглых очках в железной оправе залюбовался работой молотобойца в кожаном фартуке на голой груди.
Когда заготовка была откована и парень на минутку опустил молот, старик поправил седые с прозеленью фельдфебельские усы, подошел к молотобойцу и ласково тронул его за плечо:
— Молодец, Мамбет, молодец! Ладно машешь! — затем Михайлов, так звали старого мастера, понизил голос и добавил: — Сегодня как всегда. После работы.
Мамбет молча кивнул и снова взялся за молот.
После работы, когда мастеровые расходились по домам, Мамбет тоже вышел наружу. Но он не спешил домой. Оглянувшись внимательно по сторонам, он юркнул в низенький глубокий вход, ведущий в кочегарку. Там уже набилось человек пятнадцать. Все это были члены рабочей боевок дружины. Здесь они собирались по вечерам, изучали оружие, тактику и стратегию революционной борьбы. Ждали Михайлова — руководителя кружка, он, как старший мастер, последним покидал мастерскую.
Мамбет смотрел на своих таварищей, утомленных многочасовым трудом, но веселых и оживленных, и ему вспомнилось старинное предание об Абугалисине.
...Жил в давние времена человек по имени Абугалисина. Пошел он однажды на высокую гору и обнаружил там пещеру. В пещере той было множество книг, а среди них сидел глубокий старец с бородой до колен и при свете древней лампы перелистывал огромные книги. Сорок лет, не выходя из пещеры, Абугалисина сидел вместе со стариком и учился по книгам. А через сорок лет старец перевернул последнюю страницу и сказал ученику:
«Иди и передай людям то, чему я научил тебя!»
По преданию, через этого Абугалисину люди познали науку, ремесла, искусство...
Сейчас Мамбету казалось, что он и его товарищи подобно Абугалисину сидят в скудно освещенной пещере и слушают старца учителя, чтобы нести затем людям свет правды.
Михайлов держал перед собой трехлинейку, и слушатели жадно ловили его слова:
— Перед вами русская трехлинейная винтовка образца 1881 года...
СКОРО ЗАРЯ
На одном из занятий Михайлов объявил:
— Сегодня не расходиться. Всем оставаться на месте. Ждать приказа.
К этому времени в дружине уже было более пятидесяти человек. Постепенно сливались кружки, занимавшиеся в других местах. Дружинники делились на боевые пятерки, и Мамбет был назначен командиром одной из них.
Ночь выдалась туманная, темная. Люди ждали молча. Разговаривать не хотелось.
Незадолго до рассвета в подвал кочегарки спустился Михайлов с какими-то незнакомыми людьми в рабочих тужурках. Они проверили исправность оружия у дружинников. Сделав перекличку, Михайлов раздал командирам пятерок боеприпасы:
— На каждого по десять патронов!
Незнакомые друзья Михайлова ушли, а тишину подвала нарушило клацанье затворов.
Мамбет уже достаточно изучил винтовку, знал, как делать перебежки, как прятаться, мог при надобности подать команду. Но все это он изучил только здесь, в кружке, еще ни разу не приходилось ему бывать в деле, и от этого чуть тревожно замирало сердце. Это не было трусостью — Мамбет твердо знал, что не подведет в нужный момент, но он страшился своей неопытности, боялся, что сделает что- нибудь не так и из-за этого пострадают его товарищи.
Медленно, нехотя сквозь густой сибирский туман проступал рассвет, когда дружинники вышли на улицу. Здесь к ним присоединились еще два отряда рабочих. Командир сводного отряда, ширококостный квадратный человек в кожаной куртке, накрест перехлестнутой пулеметной лентой, повел их по вокзальной улице к центру.
Мерно стучали сапоги и грубые башмаки о стылую землю. Города видно не было, только впереди покачивалась в такт шагам широкая спина командира. Рабочие шли за своим командиром в бой, и не было страха в их сердцах. Ненависть к несправедливости, ко всему темному и злому в мире несла их на своих могучих крыльях вперед.
Отряд остановился на площади против здания кадетского корпуса. Командир подозвал к себе Михайлова и приказал железнодорожникам занять большой склад сельскохозяйственных машин рядом с корпусом.
Мамбет перелез через высокий забор и попал во двор, сплошь заставленный жатками и сеялками. Выбрав своей пятерке место за грудой стальных плугов, откуда хорошо просматривался кадетский корпус, он повторил дружинникам приказ Михайлова:
— В шесть утра в депо раздастся гудок. По этому сигналу начинаем. Без команды не стрелять. Беречь патроны.
Винтовки рабочих были направлены в окна и двери кадетского корпуса, смутная громада которого неясно рисовалась в зыбком свете начинающегося утра.
— Скоро заря! — проговорил один из бойцов. Остальные молчали, цепко сжимая в мозолистых ладонях винтовки.
КРАСНАЯ ЗАРЯ
Было холодно и неудобно лежать. Мерзли руки, туманная сырость пробирала насквозь. Где-то на окраине города пропели петухи. И почти тотчас же раздался бой часов на городской каланче. Не успели еще отзвучать шесть ударов, как со стороны вокзала возник низкий, постепенно набирающий силу звук. Знаменитый деповский гудок словно разорвал пелену тумана. Его гневная мошь разбудила город.
— Товарищи, приготовьтесь! — послышался голос Михайлова.
Клацнули затворы винтовок. Со стороны патронного завода послышались разрозненные выстрелы.
— Пли! — резко скомандовал Михайлов, и дружный залп ударил в здание кадетского корпуса. Внутри него тотчас же поднялся переполох. Некоторые из офицеров, находившиеся в здании, пытались было выскочить наруружу, но тут их настиг второй залп, и они поспешили под прикрытие стен. Тогда они открыли беглый огонь по рабочим. Чердачное окно на здании корпуса распахнулось, и в нем появилось тупое рыло станкового пулемета. Пули тонко запели вокруг укрывшихся рабочих, звонко ударяясь в металлические части машин. Но хорошо укрытые дружинники не несли урона. Они не торопились и берегли патроны. Их задачей было не дать выйти офицерам из здания до подхода главных сил.
Вдруг офицеры при поддержке пулемета сделали еще одну попытку вырваться в город. Их встретил дружный залп, и, как в первый раз, им пришлось отступить. Но несколько офицеров вырвались за ворота и, отстреливаясь, бежали по улице. В одном из них, пробежавшем совсем близко, Мамбет узнал прапорщика Ыбраима. Он поспешно выстрелил несколько раз в него, но не попал. Офицер скрылся за углом. Мамбет ожесточенно дернул затвор винтовки, но на плечо ему легла рука Михайлова:
— Я же приказал беречь патроны! Стрелять только по команде!
Стрельба затихла. Обе стороны выжидали. В разных точках города слышалась редкая перестрелка.
С востока подул утренний ветерок и скоро разогнал остатки гнилого тумана. Багровое умытое солнце вставало над Омском. Красные отблески зари молодили лица. С разных сторон к кадетскому корпусу спешили отряды восставших. Впереди катил серо-зеленый броневик. Теперь офицеры были полностью окружены. Михайлов вывел свой отряд к изготовившимся для атаки частям. В командире одного из новоприбывших отрядов Мамбет неожиданно узнал Орлова. Он подбежал к нему и вытянулся, держа в левой руке винтовку, а правую приложив к шапке:
— Здравствуй, товарищ командир! Орлов обернулся и обнял Мамбета.
— Вот молодец! — воскликнул он. — Поздравляю тебя! Мамбет стоял, охваченный радостью, глаза его сияли, в груди теснились восторженные слова, но голос от волнения пропал, и он только во все глаза смотрел на своего учителя.
Прибывшие отряды одним мощным натиском атаковали кадетский корпус. И через несколько минут ожесточенного боя все было кончено. В плен было взято около трехсот офицеров и много оружия. Винтовки и пулеметы раздали дружинникам, а пленных отвели в крепость.
ТОВАРИЩИ!
На городской площади революционный митинг. Волнующееся людское море. В волнах этого праздничного моря, как нарядные паруса, плавают алые флаги...
Дощатую трибуну тесно окружают вооруженные рабочие и солдаты. Отряд Михайлова влился в большой отряд железнодорожников.
— Эй, ты откуда?
Мамбет обернулся и узнал Сатана:
А ты!?
Они обнялись. За спиной у Сатана тоже была винтовка, на груди алел большой бант.
— Где ты? — спросил Мамбет.
— Я в железнодорожном отряде. Мы ночью брали патронный завод.
Глаза всех обратились к трибуне. Митинг открылся.
— Слово товарищу Ловкову!
На трибуне выросла знакомая фигура.
— Эй, Сатан, смотри! Ведь это наш Орлов!
— Да, он самый!
Ловков обвел взглядом безбрежное людское море и, набрав в грудь воздуха, закричал:
— Товарищи! Три дня назад в Петрограде свершилась социалистическая революция — сегодня она пришла к нам!..
— Ура-а!
— Ура!
Конец первой книги.
Пікірлер (1)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Қаржылық сауаттылық-табысты өмір кепілі
- Экранға байланған болашақ: цифрлық есірткімен күрес неге нәтижесіз?
- Әл желінің әлегі
- Әл желінің әлегі
- Цифрлық дәуірдегі кітап оқудың маңызы
- Испаниядағы пойыз апаты: қауіпсіздік жүйесінің сынға алынуына не себеп?
- Гендерлік теңдік: ерлер мен әйелдердің құқығы тең болу қажет пе?
- Виртуалды әлемнің «тұтқындары»: Экранға байланған болашақ несімен қауіпті?
- Қазақстандық білім беру жүйесі мен халықаралық стандарттар арасындағы алшақтық
- Айғыркісі
- Жетістік жолындағы сенімді серік – Forbes журналы
- Табиғаттың үнін таспаға түсірген тұлға – Дастан Мұхамедрахым
- Поэзия пайғамбары Мұқағали Мақатаевқа – 95 жыл
- Жастар арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыру
- Жастар арасындағы құқықтық мәдениет
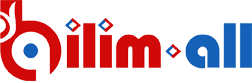


- Конфуций
- Конфуций
- Эдвард Дж. Стиглиц
- Нельсон Мандела
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі