Раскрытая ладонь
Все началось с пустяка — не гремел гром, не бушевал ветер, не падало на голову небо; просто любимый средний сын Меирбан закончил школу и решил ехать учиться в далекую столицу.
„Ну что же, дело это хорошее, — подумал тогда Аса-нали. — Пусть собака утащит то, что я пожалею для Ме ирбана".
Думать так у него были все основания. Собственно детство совпало с войной, не до учебы было. Целыми днями худой подросток косил сено, крутил рукоятку молотилки на току, колесной черпалкой доставал из колодца воду, грузил на скрипучие арбы арбузы и дыни. Время летело стремительно, и Асанали даже не представлял, что можно о чем-то мечтать.
Когда же закончилась война и стало немного полегче, Асанали оглянулся вокруг и понял, что мир огромен и, кроме бесконечной работы, в нем много интересного и соблазнительного.
И тогда Асанали решил лучше умереть, чем глотать пыль, поднятую колесами чужой повозки. Ему казалось, что стоит лишь выучиться, и начнется совсем иная, красивая жизнь.
И вот, после восьми лет учебы, он кое-как закончил институт и стал преподавать в школе.
И, вспоминая сейчас то далекое время, Асанали тяжело вздохнул. Нет, не удалось ему достичь заветных вершин и улететь далеко. Словно верблюд, съевший траву, от которой начинается вертячка, кружил он на одном месте, весь во власти привычных забот. По-прежнему жил он в своем ауле, пропахшем едким кизячным дымом, потом женился, взяв в жены обыкновенную девушку из простой, как и его, семьи. И поднялся в ауле к небу сизый дымок еще одного нового очага. Асанали учил детей истории, жена работала в библиотеке.
Когда в семье появились деньги, он пригласил мастера и вместе с ним построил из самана небольшой домик в три комнаты. Люди вокруг жили уже неплохо, и молодым захотелось того же, что имели другие. Асанали начал откладывать деньги, чтобы со временем купить Деревянную кровать, сервант, стол и стулья для гостиной конечно, хоть и небольшой, но ковер.
Воистину верно говорят старые люди, что человек задумывает, а аллах вершит. Словно камень с крутой горы покатилась вниз мечта молодых — неожиданно умер отец, и все накопленное было истрачено на угощение пришедших и приехавших с сочувствием родственников. Сргласно обычаю, щедрой рукой оделял их Асанали, кого деньгами, кого отрезами ткани.
В результате еще долгие годы пришлось спать на железной скрипучей кровати, а когда случались гости, то он усаживал их на кошму и сгорая от стыда, угощал с маленького круглого столика.
Асанали упорно не хотел покоряться судьбе. Несколько в сторону отодвинулись прежние мечты, но на их место пришла другая. Подрастали дети, и ему захотелось купить машину. Всякий бы пожалел его, если бы как изворачивался Асанали, чтобы хоть что-то выкроить и отложить из зарплаты. И когда сумма, наконец, достигла двух тысяч, душа его начала плавиться, как кусок масла на горячей сковороде, от предчувствия близ-кого счастья. Асанали закрывал глаза, мысленно прикладывал к накопленным двум тысячам отпускные свои и жены, и ему мерещился красный „Запорожец".
Но тут старшего сына призвали в армию. Так бы и прожил человек свою жизнь в счастливом неведении, да умные люди не дали. Асанали объяснили, что уже давно существует обычай устраивать призывнику проводы. Гостями должны быть исключительно его сверстники, и не дай бог показать себя в этом деле скрягой, тратиться надо щедро, так, словно провожаешь сына не на службу, а справляешь ему свадьбу.
„Ну что же, — сказал себе Асанали, — раз есть такой обычай, надо его исполнить. Люди напрасно ничего придумывать не станут...". Он достал из заветного места деньги, пошел на базар, купил барашка и несколько ящиков шампанского. Три дня угощал он безусых ясноглазых юнцов и, наконец, посчитав, что выполнил отцовский долг, повез сына в областной центр.
Но, видимо, рано успокоилась душа Асанали. В городе, словно их подсовывал сам черт, на каждом углу стали попадаться знакомые. Узнавая о цели его приезда в областной центр, они ловко накидывали на него словесные сети, крепкие, как капроновая пряжа. Знакомые говорили: „Большое событие произошло в твоей жизни, Асанали — сын стал гражданином. Дело это необходимо обмыть...".
Асанали не умел изворачиваться и потому очень скоро оказался в ресторане. Полдня до отвала поил он знакомых, у которых за всю жизнь не выпил и чашки чая. С похудевшим карманом, но довольный, что сделал все так, как велит обычай, вернулся Асанали в аул.
Правда, мечта о „Запорожце" несколько потускнела, но он бодро сказал себе: „Старость — не порок, если тебя уважают, безденежье — не позор, если ты сохранил честь". Теперь-то всякие случайности остались позади, И все должно было пойти так, как задумывалось.
Но едва минуло три месяца, из армии от сына при' шло письмо, длинное, как полотенце. „Отец, — писал он — вышли посылку и денег".
От удивления Асанали даже крякнул, но потом, хорошо подумав, решил не огорчать сына и послал ему все, что тот просил. А под новый год пришло второе письмо.
Оно было больше прежнего и напоминало своими размерами одеяло. Почти в каждой строчке стояло жалостливое слово „высылай".
На этот раз Асанали взбесился: „Эй ты, непутевый! — написал он. — Похоже, что там, где ты находишься, тебе приходится целыми днями таскать кирпичи! Разве ты не знаешь, что в нашей степи не растут деньги?!"
Уже тогда вдруг пришла тоскливая мысль — если первенец, находясь за тысячи километров от дома, так бессовестно запускает руку в карман семьи, то что будет после того, как подрастут идущие вслед за ним еще четверо. Видимо, наступит время, и придется снять с себя последнюю рубашку, чтобы вынести ее на базар. Снова благополучие и достаток ускользали из рук, подобно красной лисе.
Но чем сильнее била его судьба, тем упорнее делался Асанали, стремясь к своей цели.
И раньше он относился к своей работе добросовестно, теперь же пропадал в школе с утра до вечера. Он делал все, что мог, и даже научился делать то, чего еще совсем недавно не мог. Асанали заменял всех: учительницу, у которой заболели дети, уходящих в декрет, физ-культурника, уехавшего на охоту, физика, уезжавшего на базар за покупками.
В школе не осталось предмета, который бы он не преподавал, класса, в который бы он не входил. Очень скоро к нему прилипли клички „Разносторонний Асанали" и „Знаток".
Стиснув зубы, Асанали старался не замечать косых взглядов, не слышать злых и обидных слов: „Бегает, как гончая, и все из-за денег", „Жаден, как Плюшкин".
И только однажды он сорвался:
— Какое вам дело до того, что я не отказываюсь от любых уроков?! Зачем вы считаете мои деньги? Если я что-то и зарабатываю, то все несу в дом!...
Но гнев его не поняли, и все обратили в шутку:
Позвал бы нас в гости, вместо того чтобы с клады-ть деньги на дно сундука. Ну к чему они тебе?
Асанали горячился:
~Все, что я зарабатываю, уходит на еду! Я ведь не атаюсь на личной машине и не угощаю всех знакомых икоты, как это иногда делаете вы! Коллеги заговорщицки улыбались, подмигивали. Тогда открой нам секрет – куда ты деваешь деньги, котроые каждый месяц гребешь лопатой?
Шел после этого разговора Асанали домой, а на душе скребли кошки. И в самом деле, странная, непонятная штука получалась. У других —что пожелают, то и перед ними, чего ни захотят — за тем не гоняются. И выходит, что всего у них вдоволь. Взять хотя бы того же учителя математики. Всего пять лет прошло, как закончил он институт, а в доме от разного барахла стен не видно.
„Что ж это получается? — размышлял Асанали. — У других все, что они собирают, приносит им удовлетворение. Достаток к достатку идет, деньги — к деньгам. У меня же дом словно в щелях — что ни скоплю, все ветром выдувает".
И снова ему вспомнилось... Асанали сокрушенно покрутил головой. Чего-чего, а воспоминаний у него сколько угодно — на десятерых хватит. И одно другого похлеще. Хоть бы однажды радостное пришло на ум. Так нет — лезут одни неудачи, одни огорчения.
Решил в прошлом году, как все везучие люди, обойти свою судьбу. Подумав, купил на базаре трех ягнят и повез их в степь, к родственнику-чабану.
— Дорогой, — сказал тогда Асанали, — мы с тобой хоть и дальние, но родственники, и обычай велит нам помогать друг другу. Не так ли?
— Так, так... — согласился тот.
— Вот и я думаю... Привез я к тебе трех ягнят. Пусть пасутся в твоей отаре, размножаются. Труд я оплачу. Осенью будущего года вернется из армии сын... Большой той устроим...
Асанали даже зажмурился от удовольствия, представив, какой праздник получится.
Всю зиму, когда из степи прилетал студеный ветер и осыпал его саманный домик тучами снега, он не переставал мечтать о том, как летом приедет к родственнику-чабану и узнает, что три овцы принесли ему трех ягнят, а может быть, даже и шесть — должно же когда повезти.
Пришла, наконец, весенняя теплынь, отцвели в степи сначала тюльпаны, потом маки. Вернулся из армии сын, и Асанали с гордостью отметил, что отслужил тот родине честно — вся грудь сына была увешена цветными, звенящими и сверкающими значками.
На радостях помчался он к своему родственнику-43' бану, а едва увидел его постное лицо, сразу обмерло сердце, и, ничего не спросив, Асанали понял, что и на этот раз посмеялась над ним судьба.
— Всю зиму и все лето я ухаживал за твоими овцами, как за своими! — страстно сказал чабан. — Но, видимо, так было угодно аллаху — они подохли от дизентерии. Можешь забрать шкуры...
— Ай-я-яй! — запричитал Асанали. — Это как же получилось, что не пала ни одна из семисот общественных овец и ни одну из двухсот твоих не тронула дизентерия?! У него даже не мелькнула мысль взять родственника за грудки или набить ему шею за такой наглый обман.
А тот, ободренный беспомощностью Асанали, уставя в землю свои бесстыжие глаза, твердил:
— На все воля аллаха, Асеке... Что я могу поделать? — на черном от загара лице чабана невозможно было разглядеть краски стыда.
Злой и растерянный вернулся Асанали в аул, едва не загнав коня, одолженного у соседа.
Минуло одно, и без зова, само, пришло другое. Средний сын получил аттестат зрелости и сказал:
— Отец! Повези меня в столицу, укажи путь... Хочу я учиться дальше...
Всю ночь, запершись в своей комнате, проговорил Асанали с женой, а утром они так и вышли из комнаты с тем же вопросом, с каким ушли туда: „Как быть?"
Денег в доме было всего двести рублей — все, что осталось от тоя в честь старшего сына, а занять оказалось не у кого, потому что с наступлением лета учителя разъехались в отпуск. Да и какой нормальный человек, у которого водятся деньги, станет сидеть в середине лета в ауле, где бешеный ветер истирает землю в пыль и наметает ее черными сугробами под двери твоего дома?
Изнывала душа Асанали в поисках выхода, и мысли, °Дна мрачнее другой, приходили в голову.
И мечтал уже Асанали научиться жить так, как живет Математик. Ведь все кажется просто. Нет у того никакого секрета — получит зарплату, зажмет в кулаке и мчится домой. Правильно живет человек. Не то что он, Асанали, у которого едва появится лишняя десятка, как Неодолимая сила тянет его в райцентр, где можно купить какое-нибудь новое пособие по истории. И случайных встречных Математик никогда не угощает, умеет найти слова, чтобы отделаться от них, не клюнуть на крючок лести. В дом к нему знают дорогу только нужные люди. так и живет Математик, и тайны вроде бы никакой, но все по-иному складывается. Верно говорят старики, что раскрытой ладони не то что деньги — даже вода не держится.
Долго раздумывал Асанали над жизнью Математика и вдруг понял, что если даже он попробует так жить, у него ничего не получится: такой уж характер. „Все, — сказал себе Асанали. — Буду жить так, как живется. Хватит унижаться и выпрашивать, гоняться за благополучием и деньгами. За сорок лет ничего не нажил, теперь, после полудня жизни, надеяться не на что". Эта мысль понравилась ему и взбодрила.
Спустив ноги с кровати, он потянулся всем своим большим жилистым телом. Хрустнули в пояснице позвонки, становясь на свое место, и Асанали почувствовал, что снова готов принимать на себя и отражать все удары жизни.
Он вышел во двор, и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Солнце стояло в зените и было похоже на раскаленное дно сковороды. Дочери играли в тени вишневого дерева. Присев на корточки возле них, Асанали очень скоро узнал о домочадцах все, что хотел узнать.
Старший сын, повесив на плечо фотоаппарат, ушел в редакцию. Асанали совсем не нравился тот путь, который выбрал сын после возвращения из армии. Не утруждая себя ни учебой, ни серьезным делом, он устроился фотокором в районную газету и теперь, подобно ртутному шарику, катается из совхоза в совхоз, из колхоза в колхоз, фотографируя знатных чабанов и ударников-механизаторов. Нет. Такое Асанали одобрить не мог. Другое дело Меирбан. Вот и сейчас, говорят дочери, он взял кетмень и отправился поливать бахчу. А ведь только недавно свалил с себя нелегкий груз выпускных экзаменов, каждый день, до глубокой ночи сидит над книгами, готовясь в институт, но и при этом нашел время, чтобы позаботиться о делах семьи и помочь на бахче. На сердце у Асанали стало тепло.
Решение, что делать и как поступить дальше, пришло неожиданно – надо было идти к Математику.
Асанали поднялся с корточек и зашагал к калитке. Яркий солнечный лучик, ударивший в глаза из собачий будки, заставил его остановиться и заглянуть в нее. На сенной трухе лежало зеркало. Асанали взял его в руки долго с удивлением и недоумением рассматривал, хот удивляться было нечему – это оказалось обычное круглое зеркало от легковой машины.
Откуда оно взялось во дворе, Асанали так и не смо догадаться, не знали об этом и дочери. „Скорее всег притащил его кто-то из сыновей", – решил он и воткну зеркало под стреху сарая.
Дом Математика стоял на другом конце улицы и выделялся среди других своим внешним видом — он был большим и красивым.
„Кто лучше, чем Математик, посоветует, как поступить дальше и как помочь Меирбану, — думал Асанали. — У него сын в этом году тоже окончил школу и собирается ехать на учебу в столицу".
Асанали вдруг поверил, что Математик обязательно поможет ему, ведь они все-таки работают в одной школе. Говорят, что он вместе с сыном поедет в столицу, а раз так, то обязательно возьмет с собой и Меирбана. Это будет просто замечательно, Умный человек всегда подскажет ребятам, как вести себя в большом городе, направит их на верный путь.
И чем дольше думал об этом Асанали, тем радостнее становилось ему. Даже начало казаться, что они с Математиком давно и обо всем договорились. Ноги его задвигались веселее, спина распрямилась, грудь гордо выпятилась.
Асанали вошел во двор и, не обращая внимания на хрипящего на цепи волкодава, смело открыл дверь дома. И здесь на него вдруг снова накатила волна неуверенности. Не раз бывал он в доме Математика, но до сих пор так и не знал, сколько в нем комнат. Двери обступили Асанали со всех сторон. Он неуверенно толкнул первую попавшуюся. На полу сидели девочки и на широкой деревянной раме ткали ковер. Помедлив, Асанали распахнул дверь, из-за которой доносился странный железный грохот, словно кто-то, нанизав на веревку с десяток кастрюль, изо всех сил встряхивал их. То, что увидел Асанали, заставило его зажмуриться. Посреди пустой комнаты, в одиночестве, извивался всем телом сын Ма-тематика. Не сразу дошло до Асанали, что парень танцует под железный скрежет, рвущийся из черной шкатулки магнитофона. Он в сердцах захлопнул дверь и торопливо распахнул другую. Здесь, у низенького столика, у жарко горящего начищенной медью самовара сидела морщинистая старушка и с наслаждением тянула чай из расписной пиалы.
Только за следующей дверью Асанали увидел того, кого искал. Вздох облегчения вырвался из его груди.
Математик сидел в глубоком кресле, и на коленях его лежала толстая черная книга.
Без удовольствия, оторвавшись от чтения, взглянул он на вошедшего и кивком головы пригласил садиться.
— Вот, читаю... — сказал он. — Маркс... „Капитал"... Четыре раза уже прочел главу „Товар — деньги". Надо, чтобы посмотрел ее мой жигит. Эта мудрая книга на многое откроет ему глаза...
Асанали от подобной встречи совсем растерялся. Он только согласно кивал головой и все не мог начать разговор, ради которого пришел.
Наконец, Математик спросил.
— У тебя есть ко мне дело? Асанали обрадованно закивал головой.
— Ты, говорят, едешь с сыном в столицу. Возьми с собой моего Меирбана... — выпалил он.
Лицо Математика сделалось скучным, серым.
— Сколько дашь на вытяжку? — спросил он. Асанали растерянно развел руками.
— Чего нет, то не догонишь даже на быстром скакуне... Кое-как собрали двести рублей на дорогу и питание!...
Математик непонимающе смотрел на Асанали.
— Я спрашиваю, сколько ты приготовил?...
— У сына моего большие способности...
До Математика, наконец, дошло, что денег у Асанали нет. От удивления он даже заморгал.
— Тот, у кого нет денег, подобен отбившемуся от стаи гусю. Ну, поедет он в город. Пошатается там, пошатается и на первом же экзамене кувыркнется вверх тормашками.
— Да где же я их найду?! — упавшим голосом сказал Асанали. — Ты же знаешь, что недавно старший вернулся из армии... Скота у меня нет, чтобы продать... Все, что зарабатываем с женой, все и тратим...
Математик вдруг разозлился:
— Ты меня за дурака, что ли, считаешь? Кому в городе нужен твой сын? Не могу я его взять...
Асанали, как утопающий, попытался ухватиться за соломинку, хотя лучше уж было помолчать, чем напрашиваться на новое унижение.
— Одолжи! — с отчаянием попросил Асанали. Математик на какое-то время даже потерял дар речи.
— Да... т-ты.. что? — заикаясь, сказал он. — У меня разве госбанк? Где же я столько денег возьму, если на меня каждый день валятся одна за другой неприятности? Не веришь? А знаешь, что вчера ограбили мою машину? — Математик все больше распалялся. — Раньше наши отцы, уходя из дома на месяц, замок забывали вешать на двери и никто, и никогда, и ничего... А в наши дни стоит только зазеваться, состригут то, что растет на твоем подбородке. Вчера приехал из города от тестя. Устал. Оставил машину у ворот. Думал — поужинаю, отдохну, загоню в гараж. Только сердце мое чувствовало беду, кусок не лез в горло. Вышел на улицу, глянул, а кто-то уже фары снял и боковое зеркало. И ведь чужих в ауле никого нет... Если бы я еще промедлил, то и колеса, наверное бы, унесли. Побежал к участковому милиционеру, написал заявление, требовал, чтобы из города сыскную собаку вызвали... — Математик махнул рукой. — Да разве своего вора найдешь?
Асанали встал. Ему не хотелось больше слушать причитания Математика. Здание его надежд рухнуло к ногам грудой серых обломков.
— Перестань, — сказал он устало. — Воров в нашем ауле нет. Это могли сделать только ребятишки, а значит, все, непременно, найдется...
Математик вышел, как и полагалось хозяину, проводить гостя, но Асанали уже не слышал, что он говорил.
Пока Асанали сидел в доме Математика, на улице поднялся ветер. Пыльная поземка косыми прядями стремительно летела над землей, а тозганча — тутовое дерево, росшее во дворе, скрипело и гнулось — ветви раскачивались на ветру и были похожи на растрепанные человеческие волосы.
„Ну, вот, — подумал с грустью Асанали. — Снова ветер...".
Он вдруг увидел свой аул, брошенный посреди ровной, гладкой, как стол, сожженной до черноты, степи. Только весной коротко и жадно живет степь. Потом, сменяя друг друга, начинают дуть ветры. Первым прилетает жаркий Южак. От него сохнет на лице кожа и трескаются губы. Люди рассказывали, что в иные годы видели птиц, которым ветер опалил крылья. За Южаком следует Львиная грива. Нет равного по силе этому ветру. Словно страшными когтями скребет он землю, вздымает в небо тучи песка и пыли, гонит впереди себя мелкие камни. После этих ветров степь становится похожей на сморщенную, опаленную на огне овечью шкуру.
Асанали сощурился и посмотрел вдаль. Горизонт был затянут мутной пеленой, небо потускнело и опустилось к земле — начинался Южак. Он негромко выругался и вАРуг вспомнил о найденном им зеркале.
Асанали оглянулся. Математик все еще стоял за его спиной, и сквозь заунывный вой ветра можно было расслышать, как он продолжал жаловаться на свою жизнь.
— Эй, — простодушно сказал Асанали, — Если я не ошибаюсь, то твое зеркало лежит у меня в сарае.
Глаза Математика вспыхнули жарким огнем надежды.
— Пошли! — крикнул он. — Это, конечно, мое... мое зеркало!...
Он рванулся вперед. Полы его пиджака взметнулись, словно крылья у птицы, руки, казалось, разгребали тугие порывы ветра. Асанали едва поспевал за ним.
„Ну и ну! — думал он. — Вот ведь как человек устроен. Когда дело касается его интересов, он и против ветра пойдет, и на бушующее море замахнется...".
Сердце Асанали дрогнуло от недоброго предчувствия, когда из переулка прямо на них вынырнул участковый милиционер. Математик схватил его за рукав форменного кителя и потащил за собой, что-то объясняя на ходу. Теперь они втроем бежали против ветра: потерпевший и милиционер впереди, запыхавшийся Асанали сзади... Участковый холодно и подозрительно смотрел в смущенное лицо Асанали:
— Вот видишь, как получается. Ниточка подозрений привела в твой дом... Это не иначе, как дело рук твоего старшего сына, болтуна-фотографа.
— Я сам сказал о зеркале... — растерянно возразил Асанали. — Лучше бы мне забросить его куда-нибудь...
Милиционер глубокомысленно рассматривал находку. Между бровей залегла суровая складка.
— Ничтока подозрений привела в твой дом... — повторил он упрямо.
Математик радостно суетился вокруг, размахивал руками, ругал воров. Асанали оторопело, не в силах выговорить ни одного слова, обреченно следил за тем, как участковый раскрывал свою коричневую планшетку и, присев на корточки, положив ее на колено, начал составлять акт.
— Распишись, — сурово сказал он. — Вот тебе повестка. Как только вернется твой фотограф, отдашь ему и пусть немедленно явится в райотдел.
Каждое слово милиционера действовало на Асанали так, словно кто-то методично и больно его щелкал по темени.
Наконец, участковый и Математик ушли. Почесывая затылок, Асанали долго смотрел им вслед. Сегодня с ним произошло то, что в стародавние времена с козой, которая пошла к богу просить рога, а потеряла уши. Асанали было ясно: его старший сын не мог ограбить машину Математика, он настолько растяпа, что с трудом справляется с едой, которую ставят перед ним. Даже от девичьего взгляда он краснеет и теряется. Так как же ворованная вещь оказалась во дворе? Не иначе кто-то подстроил все это, чтобы опозорить их семью перед людьми, и исполь-зовал старшего сына, не научившегося до сих пор отличать горькое от сладкого, черное от белого.
Распаляя в себе злость, Асанали вошел в дом и уже здесь дал волю своим чувствам. Он кричал на жену, а слова срывались с языка какие-то бестолковые и оттого Асанали злился все больше. Наконец, запустив пустым ведром в кота, он снова рухнул на жалобно охнувшую под ним осточертевшую железную кровать. В доме сделалось тихо — ушла куда-то жена, затаились дочери, и сразу стало слышно, как жалобно воет за стенами ветер. Сумрачно было в комнате, сумрачно, как и на душе Аса-нали. Ни о плохом, ни о хорошем думать не хотелось. Он и не заметил, как навалился на него сон.
И приснилась Асанали какая-то чертовщина про красный „Запорожец" и сына Математика, который хотел стащить колесо от машины...
Когда он поднял голову от подушки, в комнате горела электрическая лампочка, и Асанали догадался, что давно наступил вечер. Жена сидела в углу и что-то шила. Он вспомнил, как накричал на нее, и ему сделалось стыдно.
Покашливая, Асанали встал с кровати и, чтобы скрыть смущение, ушел на кухню. Там он долго пил бурый тепловатый чай, а когда наваждение от дурацкого сна, наконец, прошло, вернулся в комнату.
— Что это Меирбана не видно? — спросил Асанали жену, делая вид, что ничего не произошло.
Та подняла голову от шитья.
— Поехал в райцентр, в милицию.
— Чего ему от милиции надо?
— Ойбой! Разве он не такой же упрямый, как ты? — с грустью сказала жена. — Увидел повестку и поехал. Он говорит, что наш старшенький ни в чем не виноват. Зеркало ему подсунул сын Зимогора — Заттыбай, попросил на время спрятать. Я не советовала ехать, но разве Меирбан послушается... Сел в автобус и укатил правду рассказывать...
— Ну что это за жизнь пошла такая! — в сердцах сказал Асанали. — От одного избавишься — другое виснет на шее...
„Бюрократы, бездельники! — подумал Асанали о Математике и участковом. — Два здоровых лба, а занимаются каким-то паршивым зеркалом. В районе от ветра полегла кукуруза, всех, даже школьников, послали убирать ее, а они бродят по дворам, сочиняют разные бумаги и портят людям жизнь...".
Всю ночь и весь следующий день бушевал над аулом ветер Львиная грива. Сыновья в дом не возвращались. Асанали знал, что старший уехал фотографировать какого-то чабана в отдаленный совхоз, и был за него спокоен, но почему не вернулся из райцентра Меирбан, оставалось загадкой.
Тревога и предчувствие новой беды не давали Асанали покоя и, когда старший сын, наконец, пришел домой, он не дал ему даже напиться воды, а, загнав в угол, устроил головомойку и пристрастный допрос.
Все оказалось так, как и говорил Меирбан. Злосчастное зеркало принес в их дом сын Зимогора и, объяснив, что нашел его на дороге, попросил временно, пока отыщется хозяин, куда-нибудь спрятать.
От досады, что сын его так легко попался на удочку прохвоста, Асанали пару раз огрел его по шее и велел ехать в райцентр искать Меирбана.
Прошла еще одна тревожная ночь, а оба сына не давали о себе вестей, словно канули в воду или отправились на остров Барса-Келмес'. Видения одно страшнее другого вставали перед глазами Асанали. Что случилось с ребятами? Вдруг участковый запер их в камеру и даже, быть может, хлещет плетью, заставляя признаться в том, что это они разграбили машину Математика?
Наконец, он не выдержал, и в полдень, втиснувшись в переполненный автобус-коробочку, сам отправился в райцентр.
Асанали уже подходил к райотделу милиции, когда его обогнал белый „Москвич" и, резко заскрипев тормозами, остановился у самого тротуара. Из машины выскочил человек в шикарном сером костюме, в велюровой шляпе и
Барса-Келмес — остров в Аральском море. Название перево дится с казахского как „Пойдешь — не вернешься".
в темных очках. Асанали, занятый своими мыслями, равнодушно скользнул глазами по фигуре владельца машины и продолжал идти своей дорогой — мало ли людей носится нынче по свету на железных конях. Но человек вдруг бросился к нему, преградил дорогу, схватил его за руку и начал трясти. Только теперь Асанали узнал в этом франте Математика. Того, видимо, переполняли радостные чувства. Он то тряс руку, то принимался хлопать Асанали по плечу.
— Вот везу Мархабата на учебу! — от радости и возбуждения Математику не стоялось на месте — он похлопал себя по груди. — Буду месяц топтать улицы Алматы, но затолкаю сына туда!... Можешь отправлять своего Меирбана вслед за нами! Пусть испытает судьбу и узна-ет, что написано ему на роду!
— Меирбана уже два дня дома нет... — перебил его Асанали.
Математик на миг осекся, потом зачастил:
— Как только пропажа нашлась, я забрал заявление у участкового... Твой Меирбан упрямец... Истину говорят, что такой человек не уймется, пока не кувыркнется. Он в милиции... Он непочтительно разговаривал с представителями закона — спорил и ругался. Но ты не расстраивайся. Все будет хорошо...
Промямлив еще несколько успокоительных, ничего не значащих фраз, он поспешно втиснулся в свою машину, и, скользнув словно капля ртути, белый „Москвич" покатился по улице.
— Ну и дела... — пробормотал Асанали и сокрушенно покачал головой.
У райотдела его встретил старший сын. Лицо его осунулось и сделалось за эти сутки серым, глаза смотрели печально и виновато. Оказалось, как только Меирбан пришел в милицию, дежурный до выяснения обстоятельств и установления истинного виновника, задержал его. Что сказал ему Меирбан, возмущенный таким беззаконием, неизвестно, но, видимо, слова эти задели чувствительную душу дежурного и тот запер его в камеру. Старший же, услышав обо всем этом и не зная, как освободить брата, всю ночь околачивался вокруг райотдела, боясь вернуться домой.
Лицо Асанали побледнело, щека задергалась. Он бросился искать кого-нибудь из начальников, но их на месте не оказалось и, как сказали ему, вернутся они не скоро.
За решетчатым окошком, сидел суровый и строгий, Дежурный. Это был не тот, который арестовал Меирбана, но Асанали все же подступился к нему.
— Освободи моего сына!
— Не могу. Не велено.
— Да что ты такое говоришь? Пропажа нашлась, Математик забрал свое заявление... Какой твой предок оставил закон, по которому можно держать ни в чем не повинного парня в камере?! Освободи немедленно! Ему пора ехать на учебу!
— Не велено, аксакал.
— Да почему же?
— Ваш сын оскорбил представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
Асанали понял, что разговаривать с держурным бесполезно. Плечи его опустились, в голову полезла какая-то ерунда, и он вдруг начал ни с того ни с сего рассказывать милиционеру о своем дяде со стороны матери, у которого на языке росли колючки — иначе чем было объяснить, что после каждого нормального слова он обязательно вставлял слово ругательное. Знающие люди рассказывали, что еще ребенком, когда мулла совершал над ним обряд обрезания, он сказал ему такое, от чего почтенный служитель культа едва не помер. Про дядю говорили, что если попадет ему на язык белая собака — тут же почернеет.
Дежурный не пошевелился, даже бровью не повел. Асанали вдруг сделалось стыдно за все, что он только что нес, стоя перед ним. Мысль о том, что Меирбан может опоздать на учебу, вернула его к реальности. Мучительно раздумывая над тем, что можно предпринять, Асанали вышел на улицу.
Ветер снова усилился. Крупные песчинки секли лицо, тонко позванивали, ударяясь о мутные стекла в оконных рамах. По улице прямо на Асанали шел их участковый. Несмотря на ветер двигался он неторопливо, в развалоч-ку, и на крутом бедре его играла блестящая и явно пустая кобура от пистолета.
Собрав всю волю в кулак, чтобы не сорваться и не наговорить ему дерзостей, Асанали сказал:
— Послушай... Буду жертвой твоей... Я десять лет учил тебя в школе уму-разуму... Три дня я ждал, когда ты отпустишь моего ни в чем не виновного сына, но все ожидания были напрасны, и вот я пришел к тебе... Машину Математика ограбил Заттыбай, и ты об этом прекрасно знаешь... Арестуй его и освободи парня.
Участковый посмотрел на Асанали поверх головы, поправил красивую фуражку и, словно катая во рту языком камешки, сказал:
— Почтенный! Мы не задерживаем невиновных... Сын ваш невоспитанный. Он ругался последними словами... И теперь он должен уплатить штраф...
— Да кого же он ругал? Я попрошу у этого человека прощения...
— Меня, — уронил участковый и похлопал правой рукой по золотому погону с одной крохотной звездочкой на своем левом плече.
— Ну и ну... — только и сказал Асанали.
А участковый зашел в помещение и со скучающим видом развалился на диване.
Чутьем, каким-то десятым чувством понял Асанали, что уговорить этого царька не удастся, и все-таки он продолжал упрашивать, извиняться, говорил, что веревка его слишком коротка, чтобы завязать узел — намекал, что нет денег, — но все было напрасно. Тогда Асанали выскочил на улицу, схватил старшего сына за руку и поставил его перед участковым.
— Посади этого и отпусти Меирбана.
— Нет, — сказал участковый и опустил глаза. — Плати штраф.
Асанали вышел из райотдела. Тихо выл в проводах ветер, больно хлестал по лицу колючими песчинками. Некому было пожаловаться — все районное начальство разъехалось по колхозам организовывать уборку поваленной ветром кукурузы, да и неизвестно, захотел бы кто-нибудь выслушать его. Участковому поверят больше.
— Эй, бездельник, — устало сказал Асанали старшему сыну. — Езжай домой, возьми все деньги, какие там есть, и привези мне.
Поздно ночью он освободил Меирбана.
На второй день, с трудом выпросив в долг у соседей шестьдесят рублей, Асанали проводил сына в столицу. На душе сделалось пусто и тревожно. И снова лезли в голову всякие мысли. И снова задавал он себе, уже в который раз, вопрос: „Сколько нужно человеку денег, чтобы не вертеться, подобно собаке, пытающейся достать свой хвост? Сколько их нужно, чтобы чувствовать себя независимым при любых жизненных обстоятельствах и случайностях?" Спрашивал себя об этом Асанали и не находил ответа. А может быть, бросить все, перестать мучить себя глупыми вопросами — почему так, а не иначе устроен мир — и начать торговать на базаре дынями или заняться изготовлением кирпича, попросившись в дикую бригаду? Но сейчас же пришла мысль, что если даже он и поступит так, то все равно в его жизни не произойдет перемен — то, что другим приносит пользу, обернется для него очередной неудачей. Он ли в своей жизни не работал, его ли можно обвинить в безделье, но если родился с раскрытой ладонью, на которой не суждено удержаться деньгам, их и не будет.
Асанали охватила запоздалая досада и сожаление о случившемся, но он понял, что ничего уже исправить невозможно. Да и с этим тоем, устроенным в честь окончания сыном школы... Если подойти разумно, то никому он не был нужен. Но уж так придумали в их краях, в их ауле, словно боятся, что поступи он иначе, не будет выпускнику удачи в большом городе. И едва приблизится время получения аттестата любимым чадом, как ведут на базар последнюю скотину, собирают деньги отовсюду, откуда можно собрать, зовут гостей и расспрашивают знакомых и родственников, нет ли у кого в городе нужного человека, который бы за определенную сумму протянул их сыну или дочери руку помощи. Бегает человек растерянный, озабоченный, с белыми от испуга глазами, словно не ребенок его поступает в институт, а он сам.
Ну, а если чадо проваливается на экзаменах и возвращается домой, снова трясут родители карманы, потому что соседи, родичи и просто знакомые с утра до вечера идут несколько дней подряд, чтобы справиться о состоянии души неудачника.
Асанали, представив, что будет, если вернется его Меирбан, зажмурил глаза и втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Очень ясно увидел он, что произойдет. Первым придет хитроглазый сосед и скажет:
— Асеке, не горюйте. Не беда, что сын не поступил в этом году, на будущий год ему обязательно повезет. Лучше поздно, чем никогда.,.
А Асанали ему ответит:
— Не говори этих слов мне, дорогой сосед. Скажи их лучше тому, кто опозорил мою седую голову...
Едва удастся спровадить соседа с его сладко-горькими словами, как приедет знакомый бригадир и, сойдя с лошади, начнет сочувствовать и вселять надежду:
— Ойбой! Видимо, ваш городской знакомый пообещал помочь не только Меирбану?... Голова его закружилась, и он ослабил повод... А быть может, твой сын растерялся, оказавшись в толпе?... Все могло случиться..
Будь крепким! Если бы Меирбана в будущем году не забирали в армию, то все родичи, обступив его со всех сторон, взялись бы дружно за дело... Ты слышал, что в столице, на самой главной улице, живет один наш дальний родственник, который кончиком пера добывает себе пропитание. По-ученому его называют „писатель". Он-то обязательно поможет...
— Что ты оплакиваешь меня, словно сироту? — скажет Асанали.
Бригадир убежденно возразит:
— Асеке, доброе слово — наполовину сделанное дело... Сердца наши обливаются кровью, когда мы видим твои страдания, твои опущенные в землю глаза...
Дальше Асанали не выдержит — начнет ругаться и обижать всех сочувствующих...
От картины, которую нарисовало ему услужливо воображение, Асанали даже заскрипел зубами. Лучше убежать в степь, чем пережить такое. „О судьба!— взмолился он. — Что хочешь делай со мной, но не превращай в посмешище!"
Почему раньше все было по-другому? В те далекие послевоенные годы не нужна была ничья „рука", а рассчитывать приходилось только на свою голову.
Пришла жена, включила в комнате свет. Асанали увидел в ее руке ведро, полное чистой колодезной воды. Он хотел напиться, но не решился — лицо жены было сердитым.
— Пока я ходила по делам, теленок высосал у коровы все молоко...
Асанали, стараясь хоть как-то отвлечься от невеселых мыслей, беспечно сказал:
— Пропади она пропадом эта корова. Я сдам ее в сельсовет на мясо, а вырученные деньги пошлю нашему Меирбану.
Жена растерянно заморгала глазами.
Когда же, наконец, пришла в себя, гневно крикнула:
— Чем сиднем сидеть дома, лучше бы взялся пасти частный скот. Все был бы какой-то приработок, а то болтаешь всякий вздор!
Асанали пристально посмотрел на жену.
— Нет, — негромко, но твердо сказал он. — Хватит бежать за своей тенью...
Жена ничего не поняла.
— Черствый ты человек! Отправил сына в город без Денег и спокоен, будто так и надо... — На глазах ее появились слезы. — Приснился мне вчера наш Меирбан... Смотрю, он что-то держит под мышкой. Думала книга, а это лепешка, обыкновенная, только что из печи вынутая...
— Не расстраивайся... — стараясь говорить мягко и ровно, сказал Асанали. — Хлеб снится к хорошему. Жена отвернулась, безнадежно махнула рукой. Асанали вышел на улицу. Ветер утих. В высоком черном небе шевелились крупные мохнатые звезды. Прохожих не было видно — аул отходил ко сну. Великая тишина пришла на землю, и Асанали почувствовал, как успокаивается его душа, — отступила усталость, мелки-ми, нестоящими показались обиды и беды.
Нельзя человеку жить суетой, если он человек. Жизнь перевалила на вторую половину, и Асанали подумал, что прожил ушедшие годы честно. Он не ловчил, как Математик, не вымогал у людей деньги, не обхаживал „нужных" людей. И главное — никогда и никому не жаловался на свои беды, не надоедал своими печалями, не был судьей другим людям. И не так уж много надо человеку, чтобы не погас очаг в его доме, чтобы росли дети, а душа была спокойной и чистой. Он знал: жизнь не проста. Но и его Меирбану должно повезти!
Асанали вспомнился сон жены. Что ж, это хорошо, когда сын держит в руках хлеб. Ему всегда казалось, что многого не хватает в жизни. Может, это и так, но у него всегда был хлеб. И всегда он был свежим, потому что не гас, не чадил его очаг и не кончалась работа.
Асанали еще раз посмотрел на небо. Лицо его тронула улыбка. Он вошел в дом и, отыскав ведро с водой, принесенное женой, зачерпнул из него большим ковшом. Вода была студеной и вкусной, и он с удивлением подумал, что даже в их степи, обожженной горячими ветрами, земля хранит в своей глубине чистые родники.
Пікірлер (1)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Журналистика-қоғам айнасы
- Қымбатшылық-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
- Ұшқыр ойдың жетегі Дубайдан бір-ақ шықты!
- «Құрметке лайық мамандықтың қадірі қайда жоғалды?»
- Бақыт деген немене ол, немене?
- Заман жақсылары – еріктілер
- TikTok-тағы жаңа «краш»: Шымкенттік «ұшатын Даулеттің» тарихы
- Ернар Амандық: жүректен шыққан әуеннің иесі
- ҰБТ: білім сапасының өлшемі және болашаққа бастар қадам
- 1000 теңге сынағы ;ақшаң сенің досың ба, жауың ба ?
- Қызылордадан — әлемдік ғылымға: әлемдегі жалғыз кванттық офтальмолог Мұхит Құлмағанбетов
- Нұрай Серікбай трагедиясы:қысқа өмір, үлкен қайғы, қыздардың қауіпсіздігі мәселесі қайта талқылануда.
- Онлайн оқу дәстүрлі білімді алмастыра ма?
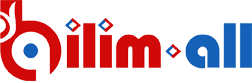


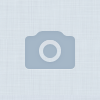
- Альберт Эйнштейн
- Альберт Эйнштейн
- Финли Питер Данн
- Бернард Шоу
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі