Мираж с участием Кожабая
1
В середине августа, когда улеглось шильде, зоотехник местного производственного кооператива, он же по совместительству уполномоченный районного общества охраны природы, вернулся из пустыни Бетпак-дала и занедужил. Что случилось с зоотехником Ахметжаном, ни его жена, ни соседи, пришедшие навестить путешествен-ника, не знали. Боль и ломота в суставах, во всем теле жар — что же это за болезнь такая?
Аульчане знали Ахметжана как крепкого выносливого карасакала. Целыми днями мотался он на своей трехколесной тарахтелке по дальним отгонам, где зимовали в Бет-пак-дале совхозные отары, и никакая холера его не брала. Ни разу не заблудился, ни в сор — соленое озеро — нй бухнулся, ни с чинка — обрыва — не шарахнулся. Правда, однажды в пыльную бурю чуть не сорвался в Шу с уступа метров в двести, да аллах берег, видно, путешественника. Ни сопок, ни оврагов не проглядывало впереди, а какая-то волнистая серая дорога, заманчивая и при том опасная. Нажал тормоз у самого края обочины.
А тут на тебе какая оказия! „Тело ломит, будто в молотилку попал!" — сказал Ахметжан перепуганной жене. Сам бледный, кое-как слез с мотоцикла и пошел к дому, пошатываясь. На крыльцо взойти не мог, пополз на четвереньках.
Кооператоры чувствовали вину перед захворавшим пу-тешественником. Когда делили совхозное имущество, им досталось десять отар, одна из них сомнительная, ибо о ней не было ни слуху ни духу. Никто не соглашался ехать на поиски пропавшей отары. Да и на чем ехать-то? И тракторы, и машины стояли из-за отсутствия ГСМ — горюче-смазочных материалов. Трястись на лошади или верблюде? Можно, конечно, и потрястись, только стоит ли?! Так посудили, эдак прикинули — некому ехать к чабану Кожабаю, кроме как зоотехнику, обладателю железной бочки с бензином, установленной на задах усадьбы. Запасливый Ахметжан разжился горючим еще в те достославные времена, когда эти самые ГСМ копейки стоили, а если не поскупиться на „пузыри", так кладовщик закрывал глаза на лишние ведра. Да и Ахметжан, охранник природы, безотказный и простой, вряд ли отмахнется от аульного поруче-ния. Тот и вправду не отказался.
Пришли соседи и ахнули: вместо розовощекого молодца лежит на постели истощенный, обескровленный человек, больше похожий на призрак своего отца, чем на прежнего Ахметжана. Всплеснули руками сердобольные друзья, завосклицали, зацокали языками, потом приступили к хворому с расспросами. Но тщетно! На все их попытки узнать истину Ахметжан бормотал одно: „Пустыня! Пустыня... Кожабай! Кожабай...". И вид Ахметжана, и его бессвязная речь встревожили кооператоров: уж не собрался ли на тот свет раньше сроку их компаньон? Неладно это, да и вину свою они чувствовали. По чьему совету, как не ихнему, погнал покорного мотоциклиста в глубь пустыни председатель кооператива.
— В больницу его надо, досточтимые! — выразил общее желание аксакал Басар и пропустил в ладони бородку.
— В эту баню? В эту душегубку? — закричала жена Ахметжана, бойкая молодуха. — Что он вам сделал плохого? За какие грехи вы пытаетесь упрятать его в каменный мешок?!
И компаньоны Ахметжана, и даже узкобородый Басар смутились, вспомнив о больнице-бане. Ввели сей культурно-бытовой объект, как было упомянуто в последнем докладе на последнем партийно-хозяйственном активе района, перед тем, как дверце захлопнуться. Торопились ударники-строители или проект у них был такой, только вышла у них не лечебница, а истинная парилка. Может, в горной местности или на туманной равнине какой и сгодилась бы больничка из бетонных плит, с узкими окнами-бойницами, но на окраине глинисто-щебнистой пустыни она стала для страждущих адом. В жару больные обливались потом и задыхались от на-гретого воздуха, зимой же мерзли так, что зубы их выбивали чечетку. Раньше, бывало, в совхозную больницу, а она километров сто от аула, старались попасть по всякому поводу, чтобы бюллетень взять. Свою же „баню", так быстро прозвали чудище местные острословы, обходили стороной. С вводом в строй странного объекта из аула улетучились все болезни. Кончилась ничем последняя попытка аульчан затащить в „баню" хоть одного больного. Решительная молодка отстояла своего благо-верного!
— Сама его вылечу! — сказала Ойке и тряхнула головой так, что белая косынка слетела с ее шелковистых иссиня-черных волос.
— Хе-хе-хе! — засмеялся, было, Басар, да осекся, встретив жгучий взор хозяйки: такой лучше не перечить
Зарезала молодуха толстого барана, самолично зарезала, сама же сняла шкуру, разделала тушу, вычистила Желудок, промыла кишки, опалила голову и ножки... Хотя раньше не занималась этим чисто мужским делом, да росла же не белоручкой, навыки кочевников с молоком матери, небось, впитала. В летней кухне развела огонь, и вот уже запах вкусной сурпы поплыл над усадьбой Ахметжана, растекаясь по левую и правую сторону. Именно этой горячей и жирной похлебкой стала отпаивать Ойке своего муженька, зацепленного странной болезнью. И вот диво! Шелуха, густо осыпавшая щеки и лоб путешественника, опала, лицо посвежело, кожа на нем порозовела, да и губы, серые, пепельные, налились прежним соком. Только печальные синие тени под глазами говорили о том, что человек этот, торчащий на крыльце, опирающийся на самодельную трость, недавно побывал в передряге. Шея тоже пока не окрепла, плохо держала голову, отчего она клонилась то к левому, то к правому плечу. Да и сам он был до того худ, что казалось кости его вот-вот прорвут кожу.
Долго Ахметжан стоять на крыльце не мог, предметы начинали плыть перед глазами, голова кружилась. Он мог, конечно, сесть в саду в тень, но наблюдать за своей деятельной хозяйкой ему, беспомощному, было не в силах. А та с утра носилась как заведенная. Выгнать корову в стадо, накормить индюков, покопаться в огороде, успеть по хозяйству, замесить тесто, напечь лепешек... И самое главное — вовремя подать мужу горяченькой сурпы.
Зашла она в комнату с миской, увидела мужа лежащим ничком на текемете, его худые лопатки, выпирающие через застиранную рубаху, и чуть не выронила посуду. Слезы опять посыпались горохом. Ойке быст-ренько поставила сурпу на подоконник, утерла передником слезы и бодренько так пропела:
— Вставай, лежебока! Принимай мое лекарство.
Ахметжан вяло поворачивался, придвигался к дастар-хану, ел так же безучастно, словно по принуждению. Глаза его, потухшие, без прежнего огня, смотрели в одну точку и не замечали жизни, бушующей вокруг него. За оградой кричали дети, собака гремела цепью, воробьи дрались на сухой дорожке из-за оброненных хлебных крошек, серая ворона обзывалась нехорошими словами, сидя на сухой вершине тополя... Жил у них в усадьбе ушастый еж, юркое и хитрое создание. Если кошка не успеет к блюдечку с парным молоком, этот ушастик тут как тут. И шипи кошка не шипи, не отойдет, пока все молоко не вылакает быстрым узким язычком. Когда случилась беда с хозяином, еж пропал, словно в нору забился. А пошел Ахметжан на поправку, ежик по сухой глине своими тупыми ножками топ-топ. Не шибко нравился Ойке этот колючий хитрован, а сейчас она прямо полюбила садового жильца. „Ах ты, колючка моя!" — ласково говорила она и даже завела для него специальное блюдечко.
Ушастый ежик и вернул к прежней жизни Ахметжана. Сидел тот, как всегда, на крыльце, греясь на утреннем солнышке, отрешенный, безучастный, и вдруг увидел живую серо-черную колючку
— Где же ты пропадал, паразит? — весело и громко вдруг спросил хозяин. От звуков уверенного голоса Ойке чуть не выронила ведро с накопанными клубнями. У ней часто-часто застучало сердце, и она сквозь малинник, не думая о царапинах, рванулась к своему милому.
Ахметжан протянул руку, чтобы погладить ушастика по острым шевелящимся иглам, но ежик сердито фыркнул, отвернул мордочку в сторону и засеменил на своих смешных кривых ножках за спасительные кукурузные стебли.
2
Необозримо обширна Бетпак-дала, говорят, семьдесят пять тысяч квадратных километров занимают ее холмы, впадины, такыры, соры, солончаки. Гуляют ветры по щебнистым дорогам, в многочисленных балках и оврагах обитают волки и лисицы, корсаки и зайцы, барсуки и сурки-байбаки. Но больше всего здесь — антилопы, сайгаков. Правда, уже не многочисленными стадами носятся сейчас сайгаки, а мелкими напуганными стайками. Механизированные браконьеры выбили тысячами этих быстроногих красавцев, выходцев из бог весть каких геологических зон...
Пустыня полна звуков, шорохов, урчания и писка. Имеющий уши не всегда слышит. Да и глаз не всякого человека заметит спину тушканчика, притаившегося у кустика жузгуна, шею дрофы, качающуюся, как тамариск под ветром, голову барсука, замершего в женгиле. Обитатели пустынных мест в течение многих веков мимикрировали, и их золотисто-желтая, серо-пепельная окраска сливается с пустынным и степным фоном.
Представьте себе: неведомая сила вдруг забросила вас в середину глухой и бесстрастной пустыни. Даже если вы соответственно экипированы и готовы к жизни в одиночестве, вас поразит безмолвие. А это не просто тишина, а странное состояние отрешенности, когда вы слышите в ушах стук собственной крови. Вы бредете в надежде наткнуться на стоянку чабана или охотника, услышать урчание, когда-то так надоевшее, а теперь такое родное, машины — хоть браконьерского газика, хоть старенького запыленного грузовичка геологов. Увы! Холмы в черном саксауле и женгиле, впадины с крутыми спусками и подъемами, щебнистые дороги, даже не дороги, а бесконечные пустые просторы, на границе которых маячат все те же кусты саксаула, тамариска, селитрянки. Щебень кончился, начинается твердая, как черепица, глина, потрескавшаяся так, что темные глубокие трещины поделили ее на странные геометрические фигуры, какие не снятся и художнику-авангардисту. Это такыры — глинистые бесконечные просторы, совершенно непроходимые в дождливое время года, в летний зной они становятся автострадами, где можно развивать какую угодно скорость, не боясь сбить ни пешехода, ни врезаться в столб, ни нарваться на гаишника. Это на машине хорошо лететь под мягкий треск ломающихся глиняных черепков с чуть загнутыми краями, когда такыр, кружась, отходит назад, а из-под колес вылетают струйки пыли, — совсем иное дело тащиться через мертвую пустыню пешему...
Если вы преодолеете бесконечные гряды сопок, куполообразных возвышенностей, голых и ощетинившихся кустарниками холмов, этих зеркально блистающих на жарком солнце такыров, обойдете соры, не завязнув в их ловушках, не заблудитесь в котловинах и впадинах, то вы выйдете, наконец, к спасительной сини. Сначала вам покажется, что это снова мираж, проделки красно-ликой девы Бетпакдалы или семиглавой старухи —Жалмаузкемпир. Из последних сил, увязая в песке, раскатываясь на щебнистых осыпях, вы стремитесь к спасительной сини, и с каждым шагом убеждаетесь в том, что близкая вода — не мираж, не наваждение, уже веет прохладой, легкой, обволакивающей ваше лицо, иссохшее и темное. Ноги вас уже не держат, они раскатываются на мокрых скользких камнях, и вы падаете ничком потным лицом в раздвигающуюся прохладу. Да, счастливчик тот, кто заблудился в Бетпак-дале, а потом сумел выбраться из ее горячих объятий к спасительному Балхашу.
Уж кому-кому, Ахметжану было известно это правило: лучше в пустыню летом не соваться, а если соваться, то группой и на вездеходе с запасом бензина и воды. Потому слух о том, что председатель кооператива ищет добровольца-путешественника, насторожил зоотехника. Шестым чувством он догадался: выбор падет на него!
Председатель ПК — производственного кооператива — сидел в маленьком кабинетике, где раньше размещалась совхозная бухгалтерия. Колченогий стол с порванным в клочья дерматином, на котором стоял тяжелый черный телефонный аппарат эпохи Хрущева и сиротливо лежала серая папка со списком чабанов, стул, приставленный к вытертой спинами стене, да коричневый сейф с двумя дверцами — вот и вся обстановка кабинета нового ПК. Председатель, среднего роста, плотный, не очень уверенно чувствовал себя в кожаном кресле, единственном путном приобретении при дележе конторского имущества. Он сползал почему-то все время с гладкой кожи, сердился и дрыгал ногами в итальянских туфлях. Обладатель бывшего директорского кресла держал трубку крепкими прокуренными пальцами и кричал в нее сипло, безнадежно:
— Да что они хотят за бензин-то? Баранов? Сколько баранов-то? О, шайтан!!! Ничего не пойму!
Увидев зоотехника, Маркай — так звали председателя — бросил со злостью трубку на выпуклый рычаг и еще громче закричал:
— Веттехник-то наш хорош! Отпусти, говорит, в город, я там сына в медицинский вуз пристрою, а потом горючего раздобуду. Там, говорит, при нефтеперерабатывающем полно фирм-присосок, я мигом договорюсь. Договорился! — чуть не отару просят за цистерну... Ты как?
— Не поеду! — отрезал Ахметжан.
— Кому охота башку подставлять, — согласился Маркай, достал из красной пачки сигарету, чиркнул фартовой зажигалкой. — Давно бросил курить?
— Давно. Как в Сары-Арку приехал. Целыми часами за рулем... Часто останавливаться приходилось, время терять, а иначе как покуришь.
— Вот-вот! — оживился Маркай и потер указательным пальцем тонкие усики. — Водитель ты классный, мигом бы домчался до Кожабая.
— Не поеду к черту на рога! — повторил Ахметжан.
— Его отару можно пустить на бартер! — не слушая возражений зоотехника, мечтательно произнес Маркай.
Все равно угробит овец где-нибудь в Сары-Арке. Не сыщешь потом ни Кожабая, ни его отары.
— Что ты? — удивился Ахметжан. — Кожабай — чабан основательный.
— Странный он какой-то, твой Кожабай. Говорят, с баранами на их языке балакает... Какой с него спрос?
— Враки это. Будто я Кожабая не знаю. Мастер он! Секреты степи и чабанства постиг до самой глубины, вот и вызывает зависть.
Слушая внимательно своего зоотехника, Маркай что-то сообразил, потому что вдруг выпалил:
— Знаешь что, а я уволю твоего Кожабая.
— Как это? — опешил Ахметжан. — Такого классного чабана...
— Вот именно. С баранами нашел общий язык, а с нами не находит... Может, уже и пропил половину отары.
— Пустое, — неуверенно возразил зоотехник.
— А кто мне скажет, сколько в его отаре овец? С весны, после окота, кто у него был? Пока приплод делили, ясное дело, не до Кожабая было... А сейчас как быть? Посоветуй, защитничек!
Ахметжан зачем-то тряхнул колпаком о свое колено, поскрипел стулом.
— Осторожнее, — мягко, с легкой усмешкой сказал Маркай. — Одна ножка у стула вставная, подвернется — упадешь.
— Ладно, — решился зоотехник, — поеду я в Сары-Арку. Только вот бензин...
— Не беспокойся! — поднял обе руки, ладонями к собеседнику Маркай. — Жги бензин, не жалей, кооператив за него уплатит. И тройной оклад тебе будет за пустынные дни. Небось, отара Кожабая дороже стоит.
3
В дорогу собирался с некоторой опаской, в летнюю Бетпак-далу Ахметжан еще ни разу не выбирался на мотоцикле. В апреле бывал, когда зелено и прохладно, мотор не нагревается. Кати себе да песни пой. Ранней осенью бывал, когда с холмов и барханов скатывался зной, а до нудных дождей было еще далеко. Летом выбирались с ветврачом на стареньком газике, да и то редко, если уж грозные телеграммы из области припрут к стенке: идет холера! Идет сибирская язва! Что вы там дремлете?
Саму дорогу на кожабаевский отгон знал довольно хорошо, ну, может, свернет раз-другой на чужую тропку, но выберется на маршрут без всякого компаса — это уже точно. Ахметжан положил в люльку три канистры бензина, полиэтиленовую флягу воды, хурджун с припасами... Ойке, собирая в дорогу мужа, тревожилась, он что, до самого Балхаша надумал переться, зачем столько добра берет?
— Запас карман не трет, — успокоил свою хозяйку Ахметжан, но голос его прозвучал фальшиво-оптимистически. И когда тарахтелка мужа смолкла на краю аула, Ойке еще долго стояла у калитки, поглаживая по головкам детей, успокаивая не столько их, сколько себя.
Смутно было на душе и у путешественника в пустыню. Оказывается, он совсем не знал чабана Кожабая. Председатель, поняв, что хитрость его удалась, что зоотехник, обладатель мотоцикла, готов ехать к черту на ку-лички, разоткровенничался. „Аха, ты меня пойми, — говорил он своему гонцу, — ты наша последняя надежда. Не выручим мы овец из пустыни, пропала отара. Кожабай — мастер, согласен. Но есть у него странность, он в молодости сочинял стихи, длинные рассказы, даже печатался в газетах... Чуешь? Ушиблен он богом был! Может, и сейчас сочиняет, не в своем уме мужик, поверь моему житейскому опыту...".
— А еще скажу, — хоть смейся, хоть поверь, — но скажу, потому как в пекло тебя посылаю, — Маркай наклонился к самому уху собеседника, хотя в комнатке они были одни, а после того, как председатель извлек из тумбы стола поллитровку и стаканы, дверь и вовсе на крючок заложили. — То, что чабан понимает своих овец, это ладно, мол, животину чувствует, раз чувствительную душу имеет. Но чудо в том, что и овцы понимают Кожабая, потому как он блеет по-ихнему...
Ахметжан остранился от собутыльника, так быстро хмелеющего, покосился на бутылку: вот те раз! да они всего по стопке и опрокинули-то. Взглянул на Маркая, да трезв он как стеклышко, только в глазах бьется-трепещет какой-то страх.
— Ладно! — махнул рукой устало председатель. — Забыли, а то в голову вобьешь и начнешь труса праздновать.
В мотоциклетном шлеме, в темных очках, в пятнистой робе, подаренной на одной точке военными, Ахметжан на своей трехколесной тарахтелке напоминал, наверно, со стороны посланца иных миров. Но дорога была пустынна, бела, прокалена августовским солнцем, постоянных жителей Бетпакдала не знала последнее тысячелетие, так что дивиться на путешественника было некому. Только серый сорокопут с желтыми глазами, обживший старый саксаульник, неодобрительно повел клювом, удивляясь наглости человека лезть на рожон, когда мудрые звери сидят по норам, а птицы забились в жидкую тень. Конечно, курганник может взлететь наперекор зною, но ведь орлы знают то, что недоступно этим двуногим тварям, не дающим покоя вечной пустыне, а именно: под жарким солнцем гуляет верховой ветер, берущий начало на снеговых вершинах великих гор Тянь-Шаня. Прохладные струи шевелят маховые перья на крыльях, распластанных широко, и сладко, и вольно тому, кому подвластны облачные высоты.
Ахметжан гнал и гнал своего неутомимого конька, подпрыгивал на камнях и корневищах, отдыхал на твердом седле, когда под колеса бросались серые залысины солончаков. Дул встречный ветер, потому пыль, поднятая колесами мотоцикла, не мешала ему, не накрывала с го-ловой, когда он сбавлял скорость перед спуском в низину или подъемом. В шлеме стало невмоготу, путешественник достал свой верный колпак, завязал под подбородком шнурки, предусмотрительно им прихваченные. И снова мотоцикл глухо забубнил свою дорожную песню.
До отгона Кожабая было еще мотать да мотать, но однообразная езда, эта унылая жара, фатально падающая с унылого выцветшего неба стали плавить сознанье путника. На горизонте замаячила новая гряда низких каменистых сопок, над ними темной точкой завис беркут, выслеживая суслика или тушканчика. „Ага! — почему-то обрадовался путешественник. — Да за той грядой стоянка моего чабана!" Взобрался по кривой тропке на плешину, глянул вдаль — никакого жилья, совершенно незнакомая котловина. „Э-э! Да вон же кривой сухой саксаул, от него поворот вправо, а там седловина между сопок, за нею — заветное урочище", — прикидывал снова удачу Ахметжан. С десяток сопочных гряд миновал он, встретил не одну сотню сухих криворуких саксаульных деревьев, а отгона Кожабая как не было, так и нет. „Заблудился, похоже, я! — обожгла мысль. — Может, это меня Жезтырнак — дьявол такой, заприметила".
Путнику от мысли о таинственной женщине с медным носом и медными когтями стало не по себе. „Пустое! — стал уговаривать он себя. — Сказки! Ты же атеист, в институте марксизм-ленинизм изучал, материя, она, брат, первична...".
Над головой путника в этот ответственный миг борьбы за материализм и идеализм пронесся пронзительный крик, и с ближнего пыльного куста женгиля бездыханной свалилась какая-то птаха... „Она, проклятая ведьма!" — ужаснулся Ахметжан и крутанул ручку. Мотор за-глох.
Цепкая тишина ухватила за шею, зной заткнул ему горло горячим пыльным комком. Пот потек по спине перепуганного путника, но это был пот ужаса — холодный, липкий. Посидел он так минуту-другую, а потом рассмеялся нервно: „Да бензин же в баке кончился, голова садовая!"
Страхи растаяли, как мираж на краю горизонта; Ахметжан скинул робу, размялся, пожалел, что бросил курить, и привычно начал обихаживать своего конька. „Эх ты, баба-дура! — мысленно поругивал он свою Ойке. — Зачем пристала ко мне, столько горючего берешь с собой? На Балхаш что ли собрался сазанов ловить?" Улыбался при этом: приятно ему было вспомнить свою заботливую Ойке, пошуметь с нею.
4
Почему еще привязался Ахметжан к здешним неприветливым местам? Она виновата, белокожая Ойке.
Зооветинститут он окончил в Алматы, прибыл по распределению, как тогда водилось, в областной центр. В облсельхозуправлении спустили его чуть ниже — в район. Там его приняли гостеприимно, второй секретарь райкома, курирующий аграрный сектор, посетовал:
— Беда, Аха, все кресла у нас заняты. Поглотай пока пыль в Бетпакдале, авось кого-нибудь на пенсию сбагрим...
Словом, спихнули молодого спеца в отдаленный совхоз зоотехником отделения. А чтобы как-то подсластить горькую пилюлю, дали ему ставку уполномоченного районного общества защиты природы. Может, отбухал бы положенные три года спец, прибывший в пустыню по распределению, да и смотал восвояси, да встретилась ему Ойке, чистая, как белоснежная юрта среди песков. С прекрасным полом Ахметжан был робок, хотя и по-крутился вроде достаточно среди городских красавиц, а как останется наедине, будто язык проглотит. Догадливые партнерши порой проделывали с ним то, что должен был вытворять он... С Ойке с первой же минуты встречи все пошло наоборот: молодой зоотехник говорил без умолку, а она только слушала умного жигита да дивилась, разве можно так много знать? Семь вечеров провожал Ахметжан свою ненаглядную Ойке, а на восьмой предложил себя в мужья.
— Поговорите с родителями, — пролепетала счастливая девушка.
Когда отгремела свадьба, молодые перебрались в дом, построенный для специалистов, своего рода перевалочный пункт — пока новая семья не обретет собственного жилища. Разбирая один из чемоданов, наткнулся Ахметжан на кипу газетных вырезок — статей своего былого кумира. Журналиста звали Кожабай, статьи его были смелы, остры, задевали критическими стрелами тех, в чью сторону и посмотреть-то было страшновато. „Не сносить удальцу головы!" — говорили на курсе. Ах-метжан тоже так считал, потому вырезал статьи и очерки Кожабая, каждый раз полагая, что это его выступление последнее. Потом кумир его стал собкором по югу, и материалы его стали еще злободневнее, критика конкретней. Дух захватывало от неслыханной во времена застоя публицистики, но и росла тревога: что-то должно случиться, вот-вот гром грянет...
— Почему замолк Кожабай, не знаете? — спросил он своих однокурсников в столовке, не находя в последних номерах статей своего любимца.
— Аха, видно, с лавки упал! Погиб наш Кожабай...
— Как погиб?!
— Трагически. В автокатастрофе. Так в соболезновании сказано.
— И никаких подробностей не слышали?
— Убрали Кожабая... — начал, было, один из горячих собеседников, да по привычке оглянулся на соседний стол, а там сидели двое, одетых под студентов, — в джинсах и водолазках, но глаза их были колючи.
Так канул в никуда, в безвестность, в небытие кумир молодежи начала 80-х, лихой газетный публицист Кожабай... Услышав в отделении имя чабана Кожабая, молодой спец заново пережил старую историю, а, попав на отгон к тезке знаменитого журналиста, внимательно вглядывался в него, ища сходства с тем, с кем в годы студенчества встретиться так и не удалось. Сумрачный, малоразговорчивый тип, в растоптанных сапогах, в штанах не по росту, отчего они висели мешком, заросший бесформенной полуседой бородой... Да уж, такой и двойником его кумира быть не может, Правда, один момент насторожил его. Гудел монотонно движок у бетонного колодца, вода тугой струей лилась в колоды, овцы, пихаясь и беспрестанно блея, заступали копытцами в чистое пойло. Кожабай, широко расставляя ноги, метался в орущем бедламе этом, хватал наиболее нахальных и волочил на горбе в самый конец. И вот один ягненок от из-бытка силы, восторга, а, может, и отчаяния, подпрыгнул в воздух, прямо-таки воспарил и рухнул бы прямо в зев кудука, не рванись ему на помощь Кожабай. Он поймал его за ноги прямо над бездной, да так ловко, словно баскетболист трудную подачу. Ахметжан видел всю эту сцену и даже рот разинул от изумления. Чабан перехватил его взгляд и улыбнулся вдруг такой лучезарной улыбкой, полной ума, достоинства и благодарности, что молодой зоотехник был сбит с толку совершенно. Когда Ахметжан опомнился, пришел в себя, то увидел обычную картину: овцы беспорядочной толпой толкутся у колоды, среди них суетится сумрачный чабан в рубахе без пуговиц, взгляд его тускл, щеки серы. „Померещилось, что ли?" — недоуменно подумал молодой зоотехник и присел в тень у стены, подальше от коварного солнца Бетпакдалы.
5
В пустыне почти нет перехода ото дня к ночи, расплющилось светило о песчаные холмы, бывшие когда-то барханами, а потом остановленные травой и кустарниками, как бы пойманные сетью, — и все! Мгла окутала окрестности. Никаких тебе переходов, игры теней, сумерек. Так и утром. Обычно солнце нагревает землю, оторвавшись от горизонта на пару арканов. В Бетпак-да-ле оно жжет холмы и впадины сразу, как только злым углем выкатится из-под покрова тьмы; словно сухой травостой начинает пластать, и языки пламени-зноя затягивают весь небесный купол.
Как только светило потеряло бледный накал, налилось помидорным соком, Ахметжан, остановил свою умаявшуюся тарахтелку у сухого саксаула. Да, место для ночлега он выбрал правильно, горка невысока, рядом и повыше есть, значит, защита от ночного ветерка. Простор открыт, хищник к нему не подберется. Про нападение хищника подумал просто так, ибо знал, что волки летом не голодают, зачем им пропахший бензином зоотехник, к тому же защитник животного мира, полгода не получающий зарплаты?!
У костерка из сухих саксаульных сучьев сидится и думается сладко. Пожевал Ахметжан вяленого мяса и лепешки, потом достал курт и стал его размачивать во рту теплой водой, пахнущей почему-то одеколоном. Он устал без цели мотаться по серым щебнистым дорогам, кружа почти на одном месте, не мог же в самом деле, рвануть на север прямехонько к Балхашу. Вот бы Ойке посмеялась, свершись такой бросок. И тут он увидел возле камня странные желтые глаза с розовой обводкой: они глядели на него не мигая. „Жезтырнак! — догадался бедный путник. — Достала она все-таки меня...", И снова пронесся в тревожной тишине пустыни резкий гортанный крик, убивающий жаворонков и тарбаганчиков. „Сейчас она стукнет меня медным когтем и все — отъ-ездился!" — а рука между тем искала оружие: хоть палку, хоть камень. Короткоствольный карабин его торчал в люльке; но стоит ему пошевелиться, как злая ведьма долбанет его своим острым медным носом. Ахметжан нащупал нож, которым он только что резал мясо. Осторожно притянул его к себе, взял за ручку, и незаметно для Жезтырнак отведя острие за плечо, с силой метнул нож в сторону желтых глаз. Жезтырнак вмиг стала пушистым зверьком, большой хвост его поднялся трубой. С недовольным писком незванный гость пропал в сухой траве. „Да это же боялычная соня!" — вспомнил название зверька умный зоотехник. — Э-хе-хе! Верно подмечено: у страха глаза велики. Соня, соня... Не нож надо было кидать, а кусочек мясца. Услышала запах, бедняжка, и приползла ко мне на огонек".
Ахметжан подбросил дровец в костер, круг обитания раздвинулся, и в неровном, пляшущем розовом свете блеснуло лезвие. Отрезав ломтик, человек минуту вглядывался в молчащую темноту, надеясь найти прощение, и, вздохнув, бросил пищу наугад. Легкий, еле слышный стук, затем шорох и довольное чавканье. Кому-то повезло. Может быть, селевинии, так еще зовут боялычную соню.
Умостился в люльке, от греха подальше, вернее, подальше от каракуртов, тарантулов да скорпионов. Тарантулы, конечно, больше по камышам шастают, да кто его знает, вдруг рядом озерцо какое-нибудь расположилось. Вроде и скорпион не страшен, ядовитых-то желез у него нет, а если он падали отведал?... Забытые знания лезли в голову, но их путешественник прогнал. Воды он набрал больше, чем бензина, о себе побеспокоился, о своем брюхе, а об утробе верного конька забыл. Да, не забыл, зачем уж так терзаться, кто ж знал, что он заблудится в знакомых местах. Неужели лето так меняет дорогу? Ничего, у него в запасе есть еще канистра, а ее хватит на добрую сотню километров... Засыпая, Ахметжан слышал какой-то странно-знакомый звук, который чуть не прогнал его сон, но усталость и склонность к наваждениям уговорили не тревожиться, а спать, спать...
6
Утром первым делом тряхнул бак, хотя знал: горючего там на донышке. Он наклонился за канистрой и уловил резкий бензиновый запах. О, аллах! Что за напасти? Старая канистра протерлась на дорожных подскоках, а, разгружая в страшной усталости, видно, ударил ненароком об острый камень. Вон он, торчит, проклятущий, как сайгачий рог! Отверстие выпускало драгоценное содержимое и одновременно заглатывало воздух, этот всхлипывающий звук и слышал Ахметжан в люльке, а вот встать и проверить источник странного бульканья не смог.
Он машинально бросал сухие веточки и щепки в кострище; огонь давно иссяк, и только фонтанчики пепла вспрыгивали на золе. „Не стану ли я сам скоро пеплом? — спокойно как-то, без паники думал попавший в ловушку путешественник. — Не зря мне все время грезилась девушка с медным носом. Она и накликала беду".
Завел мотоцикл под раскидистый куст, забросал его сухими ветками, огляделся вокруг, запоминая приметы. Шансов выбраться живым у путешественника почти не было, но человек всегда живет надеждой, завтрашним днем.
Поднялся на сопку, оглянулся еще раз, — нет, мотоцикл издалека незаметен, а место приметное, сопка двугорбая рядом, и саксаул стоит с длинной веткой на выбросе, как будто останавливает кого, приглашает в тень. Надвинул поглубже колпак, поправил на плече лямку хурджуна и зашагал по едва различимой колее на север.
Тень перед ним все укорачивалась, пока совсем не исчезла, и Ахметжан понял: наступил полдень, пора делать остановку. Ноги его дрожали, перед глазами плыли красные круги. И тут он увидел загон, распахнутые ворота, серую юрту. Забыв, что надо беречь силы, путник устремился по каменистому склону чуть ли не бегом. Спотыкаясь, не успевая выбросить ногу, чтоб не свалиться, он нелепо двигался вниз, вперед-вперед.
Путнику хотелось добежать прежде, чем юрта исчезнет, растворится в дрожащем мареве. Так уже было с ним сегодня. Он видел зеленые кусты женгиля, светлую речку, мокрые камни на берегу... Или болото-сор, обрамленный высокими камышами, за их прохладной шелестящей стеной взгагатывали гуси. Но стоило очарованному сладостным видением страннику приблизиться к радостной картине, как все исчезало, лишь унылые осыпи, щебнистая дорога да редкая, кучками, трава представали его взгляду. Да пыльный воздух слоился перед ним, утомляя сознание и рождая новые видения.
Нет, на сей раз отгон не растворился в небытие, по мере приближения Ахметжан все явственнее ощущал знакомые запахи. Добредя до отгона, путник дотронулся рукой до шершавой теплой стены, опустился на колени и заплакал.
Сколько он лежал в полусознании под стеной загона, путник не знал. Но что-то в мире изменилось, свет стал тусклым, и шуршание, похожее на массовое перемещение змей, медленно вползло в уши измученного Ахмет-жана. Шуршание внезапно смолкло, что-то большое и шумное остановилось у входа в загон и начало в упор и недоуменно рассматривать лежащего в странной позе человека.
— Эй! Холера вас подери, что встали? — раздался хриплый голос. Ахметжан, обрадованный, хотел откликнуться, подать знак, но вот беда! — ни руки, ни ноги не слушались его. Бедняга дернулся, пытаясь сесть, но ударился головой о край кормушки и окончательно провалился во мрак.
7
— Аха, — спросил его тот же хриплый голос, — ты как в моем загоне-то оказался? Хе-хе-хе!
Ахметжан удивился: он еще не открыл глаза, пальцами не пошевелил, чтобы убедиться, пришел ли в себя, а хозяин отгона уже почувствовал его пробужденье. Зоотехник приподнялся на локтях, вглядываясь в лохматую седую голову. Похоже, Кожабай! Благодарение аллахуг ноги сами принесли его туда, куда не могли доставить колеса.
— Кожаке, мы тебя потеряли!
— Ладно, чаю попей, потом потолкуем.
Пока Ахметжан взахлеб пил крепко заваренный напиток, а наливала его безучастная ко всему изнуренная вечными хлопотами женщина, Кожабай откинулся на подушку и блаженно захрапел. Гость кашлянул для приличия, потом будто ненароком пихнул вовсю свистевшего чабана, но тот спал как убитый.
— Его можно вообще разбудить? — спросил он у хозяйки.
— А зачем? — недоуменно подняла та редкие брови вверх. — Срок придет, подскочит как заяц.
— Какой срок?
— У каждого свое время, надо знать ему счет, — неопределенно изрекла Шарипа.
— А будить хозяина забавы ради не стоит, он этого не любит.
— Какой забавы? У меня к Кожаке серьезный разговор.
— Всему свой срок, Аха. Не маши камчой без причины.
Опять послышалось знакомое шуршание, как будто поползли из своих нор тысячи змей, и гость схватился за голову: неужто опять началось наваждение. Заблеяла овца, громко, требовательно, ей стали вторить остальные.
— Да слышу, слышу! Что базлать? — вскинулся хозяин и, как сослепу, начал натягивать сапоги. Левый надел на правую ногу, ругнулся беззлобно.
Но отара, закрыв белый свет, стояла у входа в юрту и орала на разные голоса.
— Не шумите! — снова громко попросил чабан, но как будто спохватился и издал чудный звук — смесь хриплого оклика с блеяньем. Что тут началось! Овцы с радостным ором побежали куда-то прочь.
— Что с отарой? — встревожился зоотехник. — Овцы какие-то чумные у вас.
— Нормальные овцы, с понятием, — обиделась почему-то Шарипа, голос у нее был молодой, а лицо — старухи. — Они позвали Кожабая, сказали, что пора водопоя пришла, а он лежит бревном. Ну, поругались немного, бывает... Хозяин их успокоил, напою, мол, сейчас, утолю вашу жажду.
— Вы хотите сказать, что Кожабай понимает овечий язык? — воскликнул гость и опять потрогал себя за голову.
— Что он дурнее других, что ли? — удивилась в свою очередь хозяйка. — Японский учат, китайский... Да мало ли наречий нынче познают! А овечий, видите ли, выучить им недосуг!
— Но как же! — Иностранные — это же культурные языки. Азбука там, письменность... Громадное наследие!
— стал что-то неубедительно бормотать учившийся в столице зоотехник.
— Главное — понимать и откликаться на просьбу! — махнула рукой на бестолкового гостя хозяйка отгона.
— Вы... это несерьезно. Вышучиваете меня.
— О-хо-хо! Поживи с наше на отгоне, из года в год одно и то же, как заведенные стали. Каждое желание овцы понимаем, а она наше. Я целый день одна в юрте, с собакой беседую. А Кожабай на пастьбе с овечками за жизнь разговор ведет. Какие шутки, Аха? Больше других любит он общаться с Черным Бараном, вожаком отары, самым мудрым и обстоятельным. Овцы намучаются за день искать среди камней съедобные былинки, ночью дрыхнут без задних ног, а Черный Баран бодрствует. Ко-жабаю неохота лишний раз вставать, к загону топать. Вот он прямо от юрты кричит в темноту: «Как там дела, друг? Не рыщет ли волк рядом, не высматривает ярочку на ужин?» А вожак ему отвечает: «Зубастого не слышно. А вот варан у матери двойняшек опять все молоко высосал».
— «Почему тварь эта одну и ту же овцу выбирает?» — „Белобрюхая секрет знает: сладкие корешки умеет добывать... Молоко у нее самое вкусное!»
— Кожабай, он что, потом переводит свой разговор с Черным Бараном? — спросил как о деле очевидном зоотехник.
— А я разве глухая? У меня, небось, уши есть! — рассердилась Шарипа и даже отвернулась от бесчувственного чурбана, каким, очевидно, представлялся ей этот бестолковый Ахметжан. Дорогу на отгон забыл, тарахтелку свою в саксаульнике забросил, чуть не задохнулся в сопках, разве это жигит?!
В отдалении, у подошвы вытянутого холма, постукивал движок — это Кожабай поил свою отару и, наверно, перебрасывался незначительными фразами с Черным Бараном. Хозяйка юрты на время забыла о своем госте, извечные хлопоты позвали ее к действию — то она месила тесто на низком столике, то подкладывала кизяк в земляной очаг, то пробовала варево в казане... Спокойствие, несокрушимая воля, жизненная сила сквозили во всем облике хозяйки отгона, и Ахметжан, раздавленный собственной неудачей, следил за каждым жестом женщины почти с мистическим преклонением.
Сон стал одолевать его, и Ахметжан опустил голову на подушку. Издалека послышалось странное блеянье, и Шарипа перевела его гостю: «Кожабай напоил овец, отару будет стеречь Черный Баран... Погоди! Вожак стал бить ногами в глину. Он требует подмоги. Кожабай говорит: "Ладно, пришлю собак!»
«Апырай! — сквозь сон думал зоотехник. — Что за чудеса творятся на отгоне?! Глаза отказываются видеть, уши — слышать. Кожабай всю жизнь провел с овцами, научился угадывать их нехитрые желания — это можно понять. Но он улавливает звуки-символы, перебрасывается репликами. Самое странное: жена чабана так же легко понимает блеянье и переводит его смысл». Но больше не стал вслух высказывать свое удивление, приставать с настырными и глупыми вопросами. Ополоснул руки и почтительно занял свое гостевое место за дастарханом.
8
Коренастый, заросший чабан ел угрюмо, молча. В присутствии хозяина и жена его притихла, молча разливала сурпу, неслышно подавала пиалки с чаем. Ахметжан решил, что пора хозяевам объяснить цель своего приезда, вернее прихода, а еще вернее — приползания. Немного тушуясь, он откашлялся и сказал:
— Почтенный, мы вас потеряли в кооперативе. Я вот привез вам зарплату за квартал, а также письмо от председателя.
Кожабай даже не взглянул на конверты, так он был занят костью, с которой острым ножом соскребал мясо и отправлял себе в рот — пещерку среди зарослей волос. И Ахметжан, помимо воли, стал следить за действи-ями ножа, оставляющего на кости светлый след, ибо сей ритуал был важнее всех забот суетного мира. Когда вся кость стала белой, а хозяин, насытившись, отвалился на мятые подушки, зоотехник понял: вот оно, время откровений.
— Лицо человека подобно зеркалу, в твоем лице видна теплота, — голос Кожабая был глухой, надсадный, как будто ему было трудно произносить обычные слова. — Ты должен меня понять.
— Слышал, конечно, обо мне разные пересуды. Лада, есть в них доля правды, есть... Ведь и трава не зашуршит, не будь ветра. Скажешь, не слышал молву, чтя Кожабай, словно саксаул, врос в свой отгон и теперь его с места не сдвинешь...
— Нет, ничего подобного не говорят в ауле, — слишком поспешно запротестовал гость.
— Ха! Не говорят!... Ну не эту молву, так другую сорока на хвосте притащит. В наше смутное время люди научились снимать жатву языком и губами сражаться с врагами. Впрочем, пример-то подали деды и отцы наши. Сколько помню своего аке, всю жизнь был голоштанным активистом, мозоли себе натер на заднице в своем усердии угодить советской власти. „Скачки и перегонки", беспрестанные митинги да собрания. Достатка себе не нажил. Пришла пора покидать сей мир — умер аке от воспаления легких, погладил меня, несмышленыша, по головке и сказал такие слова: „Оставляю тебе в наследство, сынок, единственную медаль да куцехвостую клячу. Понимаю, такое богатство не принесет тебе счастья. Так что живи своей жизнью, не зарься на чужое, не говори охального соседям, особенно женщинам".
Шарипа зажгла керосиновую лампу, поставила ее на столик; странный полусвет воцарился в юрте, тени копошились на кереге, густо скапливались под шаныраком. Кошма была приподнята на стяжных веревках, ночной ветерок приносил прохладу, сухой запах тамариска щ жусана. Ахметжан слушал хозяина с напряжением, до того невнятна была его речь, голос глух, как отдаленные раскаты стихающего грома. Слушал и представлял судьбу аульного паренька, очень схожую с собственной.
Желание примерить на себе городскую жизнь привело Кожабая в столицу, где он поступил ни много ни мало на факультет журналистики. Проба пера, первая же практика показала недюжинные способности провинциала, что вызвало удивление преподавателей теории и практики печати и зависть сокурсников. Многие потом, сами отмеченные даром, простили ему возвышение и признали яркий талант... Но не все. Года через три после окончания университета Кожабай уже работал замом в одной газетке. В ней же подвизался сотрудником отдела писем его однокашник. Он-то и написал донос в горком партии, мол, молодой зам рассказывает в кругу своих собутыльников политические анекдоты про „дорогого Леонида Ильича". Как раз вышло закрытое постановление, где советовалось давать отпор разным антисоветчикам и диссидентам. Попал в электрическое поле этого „своевременного и актуального" постановления заместитель редактора с его открытым и доверчивым характером. Кожабая турнули с должности, а замом поставили велеречивого и пустоватого работника отдела писем, автора „телеги".
Но с тех пор, по меткому выражению самого Кожабая, к его имени словно колокольчик привязали. И аксакалы аула заступились за своего ученого земляка, и прошение написали куда надо. Вроде все — отцепились от журналиста репьи, а вот скандал нет-нет да аукнется и падет тень на Кожабая... Смелый редактор одной республиканской газеты, зная способности опального публициста, пригрел его и взял собкором в южную область. Там и нашел себе пару Кожабай в лице миловидной казашки.
— Она обернулась синей птицей и села мне на плечо, — вспомнил манеру выражаться аллегориями бывший собкор и посмотрел на жену. Сгорбленная, с потухшими глазами, она сыпала в чайник заварку и никак не отреагировала на „синюю птицу".
Между тем недоброжелатель Кожабая перебрался в то же издание заведующим отделом сельского хозяйства и вызывающие повальный интерес очерки и статьи южного собкора прямо-таки жгли завистью неугомонного сочинителя „телег". Кожабая вызвали на редколлегию. Его покровитель был в отпуске, заседание вел моложавый заместитель, бывший сотрудник комитета народного контроля.
— Когда ограниченный контингент наших войск вводился в Афганистан, — поджав губы, начал зам с пробором на левую сторону головы, — наш друг как раз проходил медицинское освидетельствование в местном военкомате. И вот — его год встал под ружье, один наш герой увильнул от военной службы.
Кожабай сидел в торце длинного стола заседаний, по обе стороны его расположились члены редколлегии — званием не меньше заведующего отделом или ответсек-ретаря. Все в годах, седые, с лысинкой, два-три ровесника Кожабая. Услышав обвинение чуть ли не в дезертирстве, оба ряда дружно повернули головы и уставились на южного собкора: вот, мол, гусь так гусь!
— Ойбай! Зачем напраслину возводите? Меня комис сия эта и освободила от воинской повинности. Еще в де стве два пальца правой руки — указательный и безымян ный — попали в мельничные жернова. Вот что от них ос талось! — И Кожабай, конфузясь, но не видя иног выхода, показал коллегам искалеченную руку.
За столом послышались возмущенные возгласы:
— Да откуда ветер-то дует? С чего вы взяли, что о дезертир?
Моложавый зам поднял тонюсенькую папку:
— Вот здесь, товарищи, убедительный компромат!
Вынесли вопрос на партсобрание. Там тоже потолкли воду в ступе, все завистники, недоброжелатели, шепту ны вволю поиздевались над южным собкором, припоми ная ему мелкие промахи, ошибки в статьях и даж опечатки. Вышел Кожабай с собрания красный как рак бросил в сердцах:
— Завтра же напишу заявление об уходе! Красивый мужик, завотделом капитального строительства, крепко взял его за руки и затащил к себе в ка бинет. Закрыл дверь на ключ, вытащил из сей початую бутылку „Посольской".
— Ты первый раз, что ли, на нашем партсобрании?
— Ну, первый... — почему-то сразу отмяк „прорабо танный" под веселым взглядом холеного коллеги в бело шелковой рубашке. Да и водка как рукой сняла напря жение.
— Не тушуйся! Первый зам, конечно, перегнул, чт то он имеет против тебя. Остальные просто несли околе сипу для протокола.
— Какого протокола? — опешил Кожабай.
— Понимаешь, редко собрания у нас проходят. Во райком и жмет: сдавайте протоколы, а то вашего секре таря на бюро вызовем, втык ему будет хороший... Н понял теперь?
— Это что же, театр устраиваете, инсценировку?
— Да не кипятись ты! Все так делают!
— Но выступающие-то... так горячо, принципиальн говорили.
— А если б секретарь райкома пришел? Его на мяк не не проведешь. Потом... заводятся люди-то, перехо на партийный язык. Порой такое друг о друге наговор что неделю в глаза не смотрят. Ходят как в воду опу щенные... Постой, ты что, ни разу на собраниях в пе вичках не присутствовал?
— Ни разу! — сознался Кожабай. — Меня мутит от их говорильни.
— Как же отчеты-то строчишь?
— Исходя из протоколов! — развеселился, наконец, изобличенный собкор.
— Вот видишь, круг замкнулся. Какая жизнь без протокола!
9
В посвежевшем ночном воздухе как-то явственно и четко прозвучал вой, и тут же пасшаяся поблизости лошадь испуганно заржала. Стреноженная, она поскакала к юрте, ударяя громко о твердую глину парными копытами спутанных передних ног.
— Зря переполошилась! — спокойно сказал хозяин. — Волчонок забрался в сай, вот и зовет мать на выручку.
— В волчьем вое есть свои оттенки?
— Это для нас вой. Для волков — способ общаться. Я знаю их язык. Мог бы позвать волчонка сюда от имени его матери, да боюсь, отара загон разнесет, он и так еле держится. Лето сухое, колючек полно, вот и чешутся мои овечки об острые палки, расшатывают ограду.
— А волки как? На отару нападают?
— На мою нет — мы мирно живем. Отстегивать, конечно, приходится, задабривать больными овцами.
— А как же отчетность? — вдруг вспомнил свои обязанности зоотехник.
— Какая отчетность, Аха? Я и сам не знаю, сколько в отаре своих овец, сколько — ваших... Через гору от меня стоит Оразак. Почему вы его на всех собраниях, бывало, склоняли за низкие показатели?
— Ленив, наверно...
—Не ленив, а жаден. Лишнюю овечку для друга-волка жалко. В итоге пропадает больше. А мои волки — помощники, они отару берегут.
Знакомая головная боль стала обручами сжимать голову бедного зоотехника. Сначала он думал, хозяева подтрунивают над ним, плохо знающем быт чабанов в пустыне. Гость — всегда разнообразие на отгоне, почему бы не разыграть его. Но, во-первых, не в характере людей, живущих чуть ли не в первобытных условиях, заниматься такого рода играми. Во-вторых, он же был свидетелем странных бесед Кожабая и Черного Барана.
Теперь вот, оказывается, и серые — добрые соседи чабана. Мир встал на голову?
Ахметжан, оправившись от солнечного удара, от пустынных наваждений, потихоньку приходил в себя, набирался сил. Но странная семья, живущая в мире и согласии с окружающей средой, ставила его в тупик, — его, защитника природы, уполномоченного на это самим районным обществом. Набрать бы фактов, доклад сделать... Какой там доклад — научное сообщение? Засмеют ведь, ославят на всю область. А может, увиденное и услышанное на отгоне Кожабая — продолжение наваждения, пустынного миража, шутки девы с медными когтями?!
Шорохи — потревоженных волчьим воем овец, травы ли, варана ли, крадущегося к вымени Белобрюхой, — вползали через решетку юрты, становились как бы осязаемыми, гладили Ахметжана по гладким стриженным волосам, не давали ему уснуть. Только под утро, когда предметы выделились из темноты своей обычной объемностью, тоскующая душа пустынного гостя отмякла, и он заснул крепко, надежно.
Очнулся Ахметжан от равномерного стука, глянул в проем юртовой двери, а там на воле Шарипа топориком машет. Тюк да тюк по саксаульной хворостине, а ветка же крепкая, потверже корневища, не поддается она слабосильным рукам. Стыдно стало гостю, лежит, сопит как байбак, а пожилая женщина дрова для очага колет.
Он перенял топорик у хозяйки, поаккуратней примостил корявую темную ветку на изрубленной неверными ударами колоде. И только взмахнул топориком, как почувствовал немощь в ногах, защатался и, наверно, рухнул бы головой в земляной очаг, не подхвати его своими цепкими руками Шарипа.
— Мираж в Бетпак-дале, — объяснила она, — а у непривычных к нему кровь в жилах сгущается.
Ахметжан лежал у войлочной стенки юрты и смотрел на мираж. Золотистого цвета башни и стены качались над горизонтом, громадные слоны и верблюды входили под арку, увешанную коричневыми коврами. Длинные-предлинные карнаи высовывались из-за стен, почему-то изгибались и превращались в розовую пыль... Что-то беспрестанно бормотала хозяйка, снова взявшаяся за орудие заготовки топлива, зоотехник, конечно же, окончательно пал в ее глазах. Гость прислушался и понял, что рубщица саксаула рассказывает ему или сама себе историю из семейной жизни.
— Она ученая — одно, по ресторанам находилась вволю — второе. А наш сынок кто? Рохля и недотепа, невестка в два счета мозги его превратила в айран. Долго его оседлать, вон какая бойкая, на язык остра, два института, говорит, закончила, а наш-то школу одолел с трудом... Она, как ты, Аха, солнца боится, давление у нее от жары и духоты поднимается, потому на отгон они — ни ногой. Невестка-то сыну еще и скажи: при виде твоих одичавших родителей, я, мол, в обморок падаю. И-ех! Страшилищами мы стали! А что, Аха, похожа я на ведьму, Жалмауз кемпир, а?! Не совсем? Да, у той семь голов, а у меня одна, зато седая да морщинистая, как пенек саксаула... Одна радость была — со внучонком понянчиться. Прячет его от нас. Сын хотел тайком увезти внучка-то, нам показать, вот, дескать, какой жигит вымахал! Так молодая ведьма перехватила беглецов, накричала на сына, всякими словами обозвала. Он горькой воды нахлебался, бузить дома стал. Так она что сделала? Не догадаешься ни за что! Красных воротничков в дом вызвала по проволоке. Сынок-то наш, как буян какой, как хулиган злостный, за решеткой ночевал. Ох-хо-хой! А я-то надеялась, что под старость избавлюсь от вечной возни по дому, буду счастьем молодых любоваться, внуков на коленях баюкать, словом, держать пальцы в миске с теплой водичкой.
Шарипа заплакала, слезы прямо-таки покатились по темным иссохшим щекам, вспыхивая в косых лучах. Сердце Ахметжана как огнем опалило, он вскочил на ноги, с радостью ощутив, что странная песчаная болезнь отпустила его, и подхватил топорик. С яростью стал рубить он крепкие ветки и вот чудо! — они разлетались под сокрушительными ударами иззубренного лезвия, как стеклянные.
Целую кучу топлива нарубил расходившийся зоотехник; Шарипа с одобрением следила за этой бешеной рабочей вспышкой, глаза ее оттаяли, Ахметжан, оказывается, не такой уж слабак.
Теплота согрела сердце Ахи, он перерубил последнюю саксаулину и выпрямился, довольный. И в это время за спиной его замычал теленок. Шарипа спохватилась, схватила пустое ведро и засеменила к колодцу. Мы-чанье между тем перешло в рев давно непоеных коров, г,Откуда здесь крупный рогатый скот? Да еще целое ста-А°"| — зоотехник стал подозрительно вглядываться в темное пятно, катившееся по склону плоского холма.
— Чего встал, Аха?! — закричала от колодца перепуганная насмерть женщина. — Помоги движок завести — разве я ведром успею колоду залить.
— Откуда у вас столько коров? — спросил он, дергая заводной ремень. Тут движок затараторил привычно, и вода хлынула в бетонный резервуар. А Шарипа опять покачала головой, удивляясь непроходимой тупости гостя.
— Иди в юрту, — попросила Шарипа. — Сайгаки тебя не знают и боятся.
Ахметжан поспешил к юрте, чувствуя, сколько он тут ни суетись, а создает на отгоне одни неудобства. Вот целое стадо степных антилоп припожаловало, и официальный защитник животного мира сразу стал лишним. Прикрыв вход пологом, он стал наблюдать за Шарипой в щелочку. Хозяйка отгона зацокала языком, и вожак небольшого табунка, самец с крупными рогами, понял ее, издал в ответ гортанный звук, и сайгаки послушно двинулись следом. Почуяв запах свежей воды, антилопы потеряли церемонность и понеслись к колодам вскачь. Лишь главный сайгак остался на возвышении, он вертел носом во все стороны, какая-то опасность чудилась ему в чуждом запахе, оставленном Ахметжаном. Но тут Шарипа вышла из-за укрытия, убедившись, что антилопы не собьют ее с ног, они, дорвавшись до желанного пойла, стали добрыми; вожак поднял носатую морду, покивал ею, успокаиваясь, и тоже припал к воде.
Шарипа зашла в юрту и удивилась; гость, стоя на корточках, что-то судорожно искал в своих вещах.
— Я твой карабин перепрятала, — сказала она с усмешкой. — Ты хоть и адвокат у животных, а пальнуть иной раз в них горазд. Таков ваш мужичий нрав.
— Верно, Шаке, прямо кровь у меня забурлила от азарта, когда я увидел у колоды красавца-самца... Спасибо тебе — уберегла меня от греха!
— Тебе грех, нам наказанье. У моего хозяина соглашенье с Круторогим. Мы их колодезной, прохладной водичкой угощаем, они нам ослабевших собратьев отдают. Сами сайгачатину пользуем, часть волкам отдаем. Бесплатно кто же стеречь отару станет?
Гость снова внимательно посмотрел на Шарипу. Мысль о том, что его постоянно и умело разыгрывают, не покидала Ахметжана. Но ведь только что на его глазах дикие антилопы, как смирные овцы, пили воду на отгоне, а хозяйка цокала языком, успокаивая своих четвероногих подопечных. И кто знает, не истребляй мы этот дикий мир, не пали по нему из ружей, винтовок и автоматов, может, жили бы в гармонии с природой и в душе не было бы места агрессивным позывам. Ведь исток наш, пуповина-то одна.
Вряд ли Кожабай забился бы в дыру, спасаясь от врагов. Причина тут более глубокая — он ищет мира в душе, а мир этот лежит в союзе с матушкой-природой.
10
Кожаке, спасибо вам и Шаке за гостеприимство, но мне пора возвращаться, — сказал он за вечерним дас-тарханом. — Только вот мотоцикл надо как-то выручить...
— В такой зной чужие тут нос не кажут. Беда другая, Аха. Чабан Разак стрелял по волкам из ружья
— Аллах с ним, с твоим Разаком. Стрелял — не стрелял, мне-то что?
— Пока стая добычу не найдет, не могу я тебя в обратную дорогу отпустить, — твердо сказал Кожабай и стал ковырять щепкой в зубах.
— Ой -ой, Кожеке! Председатель ухохочется, если я скажу, что задержался из-за того, что серые не могли долго добычу себе сыскать.
— Пусть тогда разоряется на похороны...
— Не говори загадками, дос!
— Голодные волки одинокого путника не упустят. Поверь мне, пустынному отшельнику.
В открытый проем юрты ворвалось тревожное блеянье.
— Погоди-ка! — решительным жестом остановил беседу хозяин. — Черный Баран жалуется: в загон опять забрался варан-ешкиемер, Белобрюхую, гад, ищет!
Кожабай прямо-таки впрыгнул в свои разбитые сапоги. И гость, крайне заинтересованный происшествием, вдел ноги в чьи-то опорки и запрыгал следом. Но видел он в темноте хуже, споткнулся о корягу или скрытый наполовину камень, упал. Пока добрался до загона, там шла настоящая война, овцы топотали и орали, чабан с палкой гонялся по загону за каким-то хвостатым существом.
— Верткий и юркий паразит, разве его поймаешь. — Хрипло и тяжело дыша, оправдывался воитель с соилом.
— Да как овца-то дает ему молоко сосать?
— Варан не спрашивает ее согласия. Захлестнет ноги хвостом, она, бедняжка, от страха немеет, а варану того и надо, вопьется в сосок и, пока все молоко не выжмет из вымени, не отпустит...
Овцы в загоне постепенно успокаивались. Звезды, крупные, яркие, висели так низко, что казалось, метни в них колпаком, и они светящимся горохом посыплются на притихшую пустыню. И вдруг в этой таинственной звездной тишине возник протяжный вой.
— Эка! Вот радость! — даже во мраке, при слабом звездном сиянии было видно, как счастливо улыбается чабан.
— Добычу нашли?
— Теперь уж найдут! Сайгаки пошли в глубину пустыни. Многие антилопы разжирели, потеряли стремительность. Вот тучные-то и повязнут в песках. Да и слабых всегда хватает.
— Откуда ты все это узнал, Кожеке?
— Ха! Откуда? О том вся Бетпак-дала знает. Волки только что провели большой сход. И радостным воем оповестили об этом округу.
Вой висел в зведной ночи, тревожил и мучил душу, но сколько ни вслушивался в него Ахметжан, никаких оттенков-намеков на тайные знаки разобрать не мог.
Как не мог понять самого Кожабая. Взобраться на высоту, быть популярным в обществе, а потом все послать к черту? Недруги яму копали? Да у кого их нет, тайных и явных врагов! Нет, похоже, его новый друг Жан-Жака Руссо начитался и увлекся идеей „естественного состояния".
Прихлебывая чаек, спросил Ахметжан, между прочим, не читал ли, мол, в университете сентименталиста и противника цивилизации Руссо „Юлия, или Новая Элои-за".
— Вон ты куда гнешь? — сразу раскусил замаскированную уловку гостя мудрый Кожабай. — Читал и в студенчестве, и после... И в „Эмиле" его разобрался, и в „Исповеди". Запутанно, но, знаешь, по сути своей, вер-но. Шаке! — вдруг позвал он жену. — В сундуке справа три голубые книги в тряпицу завернуты, подай любую.
Взяв том Руссо в руки, Кожабай раскрыл наугад страницу и прочитал первую попавшуюся фразу: „Для того, чтобы следовать своему призванию, надобно его знать. А разве легко распознать дарования людей?"
— Каково, а? Живая философия! Учебник жизни! Не понимаем мы, каким богатством владеем... Ладно! Ты же хотел услышать, в конце концов, как я очутился здесь, в глухой дыре.
11
Обида на судьбу, на коварных друзей, неблагодарных коллег погнала Кожабая по кругу, он не успевал отметки делать в своей трудовой. Наконец, бросил якорь в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук. Работа увлекла журналиста, склонного к серьезным исследованиям. Богатая историческая фактура под его опытным пером оживала в статьях, будоражила воображение. Особенно удачны оказались материалы о присоединении Казахстана к России. Известный историк так и сказал младшему научному сотруднику:
— Кожеке, лови удачу за хвост. Собери статьи — это же готовая кандидатская! Я тебя в свою аспирантуру возьму.
Не довелось стать Кожабаю кандидатом исторических наук. Не успел — пришли другие времена. В одной газетке, а их скоро расплодилось видимо-невидимо, тиснули статейку, где от прежних взглядов на историю только пух летел. Мол, что нам слушать консерваторов и ретроградов. Последствия этой публикации стали не просто горячими, а жаркими. Степной пожар начинается с огонька, а потом, гонимый ветром, поднимается в полнеба. Опалило огнем и Кожабая. Его имя склоняли в печати, поносили с трибун на различных конференциях и симпозиумах. Шарипа, так и оставшаяся аульной простушкой, пришла в ужас, услышав по телевизору, как честят ее муженька. „Тебя посадят, непременно поса-дят!" — твердила она. Однажды у подъезда встретила Шарипа двух незнакомцев со строгими лицами.
— За тобой пришли! — она была не в себе. — Но почему не заходят?
— Это „молчуны" в штатском, — сказал Кожабай, наблюдая с балкона за странной парой, усевшейся на скамейке, где обычно коротают вечера дворовые пенсионерки. — Они оперативку собирают, а ордера на арест у них нет.
Решил Кожабай убираться из столицы подобру-поздорову. И кто его осудил бы? Всяк на его месте не стал бы пропадать за понюх табака... Вот тогда и пришла эта мысль затеряться в глухой дыре, замести следы. А
Руссо... Что Руссо? Французский утопист давно грел его сердце, но бегство от цивилизации было все-таки принудительным.
Когда повеяли новые ветры и стали поднимать на щит тех, кто пострадал от прежнего режима, Кожабай мог бы всплыть и заявить о себе как диссиденте. Но парадокс в том и состоит, что жизнь в глухомани увлекла беглеца. И не просто увлекла, он стал частью „дикой" жизни.
Услышав, что в далекой Сары-Арке возникает новый совхоз „Бетпак", Кожабай сразу понял: вот его жребий! Сменив городскую одежду на простой наряд кочевника, беглец вместе с Шарипой прибыл на центральную усадьбу, где было в ту пору больше вагончиков, чем типовых домиков. Паспорта были при них, а остальные документы, мол, пропали вместе с вещами в поезде. В отделе кадров особенно и не придирались, для освоения новых пастбищ требовались крепкие руки. Много рук! Получив отару валухов, юрту, разный инструмент и добрый аванс, чабанская семья откочевала в глубину Бетпак-да-лы.
Первая же зимовка проверила на крепость характер Кожабая. Он не сломался, наоборот, ему пришлась по душе мужественная профессия скотовода, в одиночку борющегося за свое существование. Позже Кожабай понял и другую истину: не надо борьбы, надо просто жить в простом и понятном мире, находить язык со зверями и птицами, с ветром и ночной звездой, заглядывающими в твой шанырак.
Раньше он суету принимал за жизнь, грезы — за радость, но, лишь, растворившись в пустыне, став ее частью, осознал истинное свое предназначение. Стал жить с барханами и небом — одним; волки и корсаки, сайгаки и жейраны, курганник и сорокопут, жузген и семитрян-ка, свист ветра и наклон травы — все окружающее стало спутниками его существования. Как раньше необходимыми атрибутами городского бытия были дача, машина, гарнитуры, письменный стол и прочее, без чего цивилизованный человек не мыслит себя.
У зверей нет корысти, поэтому им неведомо предательство. Душа Кожабая отмякла, в простых заботах шли дни, и мысль, освобожденная от категорий условности, текла легко, непринужденно, как песок по склону бархана.
Разве в природе не бывает хитростей и обмана? Кожабай, если его спросить об этом, отвечает с усмешкой: „Без уловки лиса останется голодной, а беркут не принесет поживы в свое гнездо...". Этот обман похож на забаву, на игру, хотя, конечно, кому-то он стоит жизни. Но это честная охота, где обе стороны применяют разнообразную хитрость, чтоб обвести друг друга, остаться при своих интересах. Есть еще один вид обмана, который совсем по душе пустыннику — это миражи. Зрительный обман схож с живописью, с кинокадрами, с театральным действом. Именно: схож, ибо никакое воображение, никакие компьютерные игры не дадут того эффекта, каким обладают небесные метаморфозы. Городские сцены, средневековая охота, старинные усадьбы на берегу лазурных озер и полноводных рек, высокие беседки в тенистых садах, громадные головы воинов, зверей, чудищ, а то и просто бесформенное сюрреалистическое сочетание красок... Волшебный мир разворачивается на небесном полотне в жаркие дни над Бетпак-далой.
— Одна сквозная рана донимает меня, — тихо заговорил отшельник Кожабай, — Сын не понял меня, стал чужим, потому что убежал из пустыни. Шарипа уверяет, что невестка попала зловредная, увела его с собой. Вряд ли это так. Шарипа вон не оставила меня, пошла в глубь песков, а могла холить себя в городской квартире, жену-то, небось, не тронули бы красные воротники.
Они помолчали. В слабом свете керосиновой лампы заросшее лицо Кожабая, нос, надбровные дуги казались выпуклыми, вылепленными из красной глины чуткими пальцами неведомого скульптора. В углу вздыхала Шарипа, ее растревожили воспоминания, поднятые со дна души исповедью мужа. Цикады трещали за отполирован— ной многочисленными перекочевками решеткой юрты, вста-нывали овцы, лошадь чесала гриву о ствол женгиля.
— Вот убежал в райцентр, сын-то... Охотник один рассказывал, сначала вроде пиво продавал, потом улицы стал подметать. Очень достойное занятие! Ты вот удивился, Аха, почему я так равнодушен к деньгам. А зачем мне ваши тенге? Мне, который разговаривает с волками, воя, а с овцами, блея? Могу спрятать в сундук, копить... А потом сын утрамбует глину надо мною и запустит свои трясущиеся руки в мое добро.
Кожабай пронзительно глянул на гостя, словно расширенными зрачками своими прожег тому душу. И Ахметжан вдруг понял, что пустынник, научившийся понимать голос самой природы, не просто изливал перед ним историю своей жизни, застарелую боль, очищение, по-стигшее его здесь, среди такыров, увалов и саев, а беседовал с собственной судьбой. Не зная, как зримо выглядит судьба Кожабая, слушатель его представил ее в уже привычном облике юной девы с медным носом. Курт, который катал во рту Ахметжан, вдруг стал клейким, прилип к языку, небу, щекам... Гость закашлялся и, придерживаясь за косяк двери, вывалился наружу.
12
— Расстроил жигита своими байками, — укоризненно произнесла Шарипа, — у него сердце от сочувствия заболело. Что ответил хозяйке своей чабан, гость не расслышал, потому что странная слабость внезапно спутала его ноги, и он осторожно опустился на сухую, еще теплую глину. Следом вышел Кожабай, постоял рядом, смущенный, потом взял его под мышки, приподнял и, ласково придерживая, повел, как водят пьяных, в глубину юрты.
Утром, конечно, он проспал, Кожабай со своей отарой давно был на выпасах.
— Вряд ли хозяин с овцами, — засомневалась Шарипа на его похвалу и одновременно сетования по поводу собственной отсталости от дел отгона, — Черный Баран не хуже Кожеке с отарой управляется.
— Куда же хозяин мог подеваться?
— Мало ли забот... Может, шакалов в соседней долине пересчитывает, а может, корсака поехал навестить.
— Какого еще корсака, Шаке? — опять взмолился гость, снова чувствуя, как поплыл, растворяясь в сознании, реальный мир.
— Как-то притащил здоровущего корсака, — охотно стала рассказывать хозяйка, в отсутствии мужа она становилась необыкновенно словоохотливой, — он в капкан попал. Ну, Кожабай его вызволил и на отгон привез. А чтоб не убежал раньше сроку, поправился, в клетку того запер. Корсак всю ночь кричал, а потом стал обзываться, дразнить своего спасителя. Кожабай не выдержал да и отхлестал камчой неблагодарного зверя. Утром, не поверишь, корсаки со всех балок сбежались, подняли лай, овцы сломали перегородку, за двугорбый холМ унеслись... Оказывается, пойманный-то корсак — вожак
их стаи был. Кожабай спохватился, выпустил пленника, куырдак на блюде вынес, тот ни в какую: не идет на мир, рыжую мордочку свою воротит. Но стаю увел, тихо стало...
— Так вы думаете, хозяин к вожаку в гости поехал?
— Дело ли соседям в ссоре жить? — уставилась на гостя Шарипа: все-то ему надо растолковывать как маленькому дитяти.
Когда воздух снова налился зноем, как медный кувшин кипятком, а в небе встали красные башни со сверкающими на солнце островерхими шлемами воинов, из марева вынырнул Кожабай.
Отдышался в тени юрты, — мало сверху печет, распаренные бока лошади добавляют жары, — говорит Ах-метжану:
— Хорошо, что откочевку отложил, у Разака-то в самом деле волки лошадь ночью задрали, а я не поверил было своей Каурой. Не то что не поверил, язык ихний путаю с жейраньим...
Ахметжан в подробностях вспомнил вчерашнее. Когда ему стало плохо, он вывалился из юрты на волю, а, присев на землю, очумел. До того был великолепен подлунный мир! Ночное светило выбралось из-за дальних увалов, и похоже оно было на грудинку, испеченную в горячей саксауловой золе и выдержанную в дыме. Выкатившийся следом из юрты Кожабай тоже ополоумел, задрал лохматую башку кверху, навстречу луне. С круглой головой, похожей на казан, с острой бородкой, с острыми лопатками, выпирающими из застиранной рубахи, он вдруг показался Ахметжану сосланным сюда с самой луны, а сейчас тоскующим по своей непостижимо далекой родине.
Возле колодца заржала Каурая, и лунный изгнанник вздрогнул, словно его окатили ледяной водой. Он упал на сухую глину, припал к ней ухом и сказал:
— Апырай! Гнедая кляча Разака обычно держалась жилья, а сегодня вдруг ускакала в степь. Похоже, стала Добычей волков,..
— Может, показалось... — засомневался Ахметжан.
— Ты на Каурую глянь. Ишь как водит ушами. Так она всегда делает, когда зубастых чует...
И вот подозрения Кожабая подтвердились — беспечную лошадку соседа задрали волки.
— Слепой он к приметам, глухой к языкам зверей, посетовал Кожабай, имея ввиду чабана Разака.
— И не послушайся ты Каурой, откочуй отсюда, — поддержал хозяина Ахметжан, — бедный сосед оказался бы один на один с бедой.
— Во-во! — обрадовался вдруг Кожабай, брови его поднялись, глаза глядели ясно и открыто. — Поездка на отгон к дикарю-чабану пошла тебе на пользу.
— Кожеке, — несмело начал гость, — давно у тебя хотел спросить, но не решался... Откуда в газете той появился некролог о якобы гибели бывшего собственного корреспондента в автомобильной аварии? Такие вещи просто так не печатаются...
— Телеграмму о собственной смерти я сам сочинил. А проверять в редакции не стали, я ведь их сотрудником уже не был.
И снова они заговорили о коварстве друзей. Сегодня они сидят за твоим дастарханом, хвалят тебя, получая от тамады тост, а завтра напускают туман сплетен и клеветы.
— А не жалеешь иногда, что убежал в глушь?
— Иногда жалею, — признался Кожабай. — Должность в авторитетной газете, собкоровская жизнь, занятие наукой, мечты о собственной диссертации — разве можно все это взять и легко выбросить. Нет, брат, шалишь, — прошлое забвению не предается.
— Ну а недруги ваши, неужто вы их простили?
— Пожалуй, простил... Лучше сказать, забыл о них. Я ведь не граф Монте-Кристо, местью не обуян. Пусть деньги все загребут, пусть гуляют по тенистым аллеям, в концертных залах сидят или за ресторанными столиками — кому что ближе... У меня есть ценности более высокие и ценные, чем у них. У меня есть богатство, какое им не снилось в самых волшебных снах. У меня есть пустыня Бетпак!
А для мира я умер.
13
Ахметжан затосковал.
В странной тоске-болезни сказалось все — неудачная поездка, кошмары с участием девы с медным носом, миражи над пустыней, их продолжение в лице чабана Кожабая, похожего на киплинговского Маугли, понимающего язык зверей. Варан, спутав хвостом ноги Белобрюхой, пил ее молоко, но оставил на вымени свою ядовитую, мерзкую слюну. Шарипа доила овец, из их молока делала творог, а потом валяла курт — вкусные шарики, утоляющие жажду. Именно такой шарик, со слюной разбойника-варана, попался Ахметжану в тот злополучный вечер, когда он, давясь клейковиной, хватая ртом воздух, как сом в пересыхающей Сарысу, вывалился наружу и попал под завораживающий свет луны.
Именно в ту ночь пришла к нему красавица Жезтыр-нак — Медный коготь, наклонилась над изголовьем и так сладостно пропела:
— Ну что, проглотил курт со слюной варана? Это я его научила пить сладкое молоко Белобрюхой. Теперь тебе каюк, Аха. Убежал от меня в Бетпаке, а сейчас ты в моих руках. А хочешь я тебя пожалею? Зачем тебе мучиться, умирать дергаясь, утомлять Кожабая и Шарипу, потом твою белолицую Ойке и ваших милых деток? Давай я тебя тюкну своим крепким носом, и ты сразу очутишься у престола аллаха! Давай?
Красивое зловещее лицо с ало горящим носом склонилось над Ахметжаном, он в ужасе раскрыл рот и... проснулся. Со стороны двугорбого холма неслись дикие крики, от них стыла кровь в жилах, а между лопаток струился холодный пот.
— Кожеке, проснись! — стал будить он хозяина. — Волки близко.
— А! Чего? — забормотал спросонья чабан, потом вступил в явь, прислушался к хаосу звуков, затопивших юрту, и рассмеялся:
— Эх-хе-хе, жигит! Это свадьба в пустыне.
— Свадьба? Чья свадьба? Жуть какая-то...
— Ты свою первую брачную ночь помнишь? Твоя невеста не кричала от вожделения? Сдерживалась, наверно, стыдливость у нас, людей, выше наслаждения. Звери
свободные существа, они любят в открытую и вопят, визжат, кричат от радости. Чтоб все знали: новая жизнь зарождается! Спи, жигит. Завтра я разгоню их игрища, а то чабан Разак так и не погрузит юрту на кочевого верблюда.
На рассвете слышал он как бы сквозь размытое сознание совет Кожабая:
— У нашего гостя мешки под глазами. Может, ему курт со слюной варана попался? Дай-ка Ахе отвару из рогов молодого сайгака, авось, минует его песчаная лихорадка... А я подался к Разаку, успокою его. Из-за этих ночных свадеб он до осени на новое жайляу не переберется...
В последнюю ночь на отгоне Ахметжан спал крепко, не просыпался, потому что его хозяин — на всех звериных и птичьих языках говорящий чабан Кожабай — попросил волков угнать сайгачьи стада подальше от его стойбища и отгона Разака, иначе антилопы все пастбища потравят, и их овцы сдохнут. „Ладно, Кожабай! — провыли пустынные волки. — Антилопы все равно идут в Сары-Арку, а мы за ними. Но мы ускорим их отход, чтоб твои жирные овцы остались жить. Зимой ты подаришь нам десяток вкусных овечек".
— Живоглоты! — выругался звероговорящий чабан.
— Торгаши серые! Ничего даром не делаете. Ладно! Будь по-вашему. Гоните этих куцехвостых подальше, на север!
Крепко уснул Ахметжан и не слышал, как бесшумно приблизилась к нему меднокоготная ведьма и без лишних слов тюкнула своим острым носом. Да промазала маленько, метила в лицо, а попала в грудь. Закашлял во сне бедняга и сплюнул кровавую слюну на подушку
— Кожабай! Кожабай! — одно и то же повторял больной. Чабан положил свою твердую, как панцирь степной черепахи, ладонь на лоб гостя и все понял:
— Пустынная лихорадка. Бред у него.
— Умрет наш гость — тебя по судам затаскают. Вот и убереглись от тюрьмы, — горько заплакала Шарипа.
— Уймись ты, не каркай! — не на шутку рассердился чабан. — Чтобы мой гость богу душу отдал — никогда. Найди за бугром верблюда, приведи его к юрте.
— Ойбой! — опять заволновалась бедная женщина.
— Безумец ты, Кожеке! Пекло поглотит вас, и косточек ваших никто не найдет.
— Чисто пустынная ворона! — сменил гнев на насмешку Кожабай. — Ладно, посиди с гостем пока, отваром попои. Сам пойду за рыжим.
Неизвестно, добрался бы или нет до людского жилья Кожабай, открывший свою душу случайному гостю и полюбивший его за умение слушать и сопереживать, не встреться на пути грузовик кооператива. Председатель, обеспокоенный долгим отсутствием своего нарочного, правдами и неправдами достал горючего для единственной полуторки и послал ее по следу исчезнувшего в песках зоотехника. По приметам, описанным Ахметжаном, когда тот был еще в здравом уме, нашел чабан и мотоцикл, заваленный саксаульным валежником.
— А до отары далеко ? — спросил водитель.
— Полдня пылить, — осторожно ответил Кожабай, привязывая мотоцикл в кузове, чтобы дорогой не бился о борта. — А тебе зачем?
— Десяток овец прихватил бы. Деньги тебе не лишние, небось? Все равно они на бартер пойдут. Так Маркай сказал.
— Смотри, не гони шибко-то! — наказывал Кожабай, но по обиженному лицу молодого шоферюги понял: погонит, угробит Аху. И тут его осенило — пакет-то с квартальной зарплатой вот он, в кармане штанов!
— На-ка, возьми это... на лекарства пригодятся, — лепетал чабан, сроду не дававший на лапу и потому испытывающий сейчас невыразимый стыд.
— На лекарства, говоришь? Вот это ладно, вот это по-нашему! — повеселел водитель, и у Кожабая на душе стало тихо, спокойно. И печально: никогда он больше не увидит своего восторженного слушателя, наивного зрителя его бесед с овцами, волками, сайгаками... Просто-душный член кооператива проговорился: Маркай, оказывается, собрался менять его овечек на бензин! Нет уж, дудки! Зря, что ли, гробился он в песках, неужто не заработал права на приватизацию отары? Завтра же снимается с места и кочует так глубоко, что никакой Мар-кай-баркай его на найдет. Сказано: Кожабай умер для мира.
14
Маркай, выслушав болтливого шофера, сразу сообразил: не видать ему кожабаевских овец как своих ушей. Ругался в своем кабинетике страшно, а потом пнул колченогий стул так, что тот разлетелся вдребезги. Маркай успокоился.
— Пиши новый приказ, — сказал он секретарше, — она же бухгалтер и кассир в кооперативе, — смазливой и безотказной Хадише. — Ахметжану суточные не выдавать, за бензин не оплачивать! Будем считать его командировку не служебной, а частной поездкой. Отару-то Кожабая он прошлепал, бедолага пустынная!
Когда сосед передал ему слова Маркая, он никак не отреагировал. Досадливо, правда, поморщился: ушастый ежик, заслышав чужие шаги, нырнул за спасительные стебли кукурузы.
— Ежик-то знаешь, как Маркая обзывает?
— Ну? — насторожился сосед.
— Репа с усами.
— Ха-ха! Метко! Кто придумал-то?
— Ежик мой.
— Ошибка какая-то, — отодвинулся сосед, догадываясь, что ушибленный пустынной лихорадкой, видно, еще не совсем поправился.
— У природы ошибок не бывает. — Жан-Жак Руссо. Понял?
— Да-да, — поспешно согласился сосед. — Так я пойду, у меня картошка еще не полита.
Мазмұны
Пікірлер (0)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Журналистика-қоғам айнасы
- Қымбатшылық-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
- Ұшқыр ойдың жетегі Дубайдан бір-ақ шықты!
- «Құрметке лайық мамандықтың қадірі қайда жоғалды?»
- Бақыт деген немене ол, немене?
- Заман жақсылары – еріктілер
- TikTok-тағы жаңа «краш»: Шымкенттік «ұшатын Даулеттің» тарихы
- Ернар Амандық: жүректен шыққан әуеннің иесі
- ҰБТ: білім сапасының өлшемі және болашаққа бастар қадам
- 1000 теңге сынағы ;ақшаң сенің досың ба, жауың ба ?
- Қызылордадан — әлемдік ғылымға: әлемдегі жалғыз кванттық офтальмолог Мұхит Құлмағанбетов
- Нұрай Серікбай трагедиясы:қысқа өмір, үлкен қайғы, қыздардың қауіпсіздігі мәселесі қайта талқылануда.
- Онлайн оқу дәстүрлі білімді алмастыра ма?
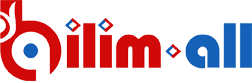


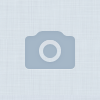
- Альберт Эйнштейн
- Альберт Эйнштейн
- Финли Питер Данн
- Бернард Шоу
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі