У тигра своя тропа
(повесть)
Что знает лист о дереве своем
В. Жак
Не знал, не слышал, не верил Аяпберды по прозвищу Сын песков, что есть на земле рай с таким поразительным воздухом, острым, свежим; он так и щекочет ноздри, так и заставляет дышать в полную грудь.
Прежде он думал: ему на роду написано все дни подставлять лоб жгучему солнцу, щурить глаза от колючего ветра, до самой смерти суждены ему желтые миражи Кызылкумов, бесконечные, нудные, змеями ползущие пески и глушь-глушь, такая безрадостная, что там и собаку на цепи не удержишь; а под ногами с утра до ночи ненасытная, хором блеющая отара овец, и еще семья в доме, престарелая матушка, готовая отдать Богу душу и не забывающая славить Аллаха по пять раз в сутки, двое малолетних сорванцов-погодков да жена, по годам вроде бы моло-дая, но уже поблекшая, словно оставленный на солнцепеке цветной ковер. Мало радостей в однообразной чабанской жизни, что говорить, но упрямый Аяпберды не оставлял своего стойбища, не рвался перебраться в другое место, неукротимый дымок его очага неизменно вставал над пустыней каждое утро, и чабан продолжал свое монотонное, серое, малорадостное житье-бытье в заботах об овцах, о детях, о жене и матери, и жил-поживал, как говорится, получше некоторых, хотя и похуже многих.
Нынешняя весна выдалась ранней, теплой, щедро оросил пески долгий дождь, утих лютый ветер, и усталая, истерзанная зимой земля расцвела. Престарелая матушка заговорила о том, что за последние, пожалуй, тридцать лет впервые на лик песков пало благословение Аллаха, испекла жертвенных семь лепешек и проникновенно прочитала благодарственную молитву. Овцы скоро набрали вес, ягнение прошло раньше обычного, и сноровистый Аяпберды быстрее других чабанов управился с весенней стрижкой. План по шерсти перестал его беспокоить, да и план по молодняку тоже, скупые обычно па приплод овцематки нынче словно сговорились и принесли почти все по двойне, а иные даже и тройню, так что Аяпберды нежданно-негаданно вышел в передовики, пригласили его, как и следовало ожидать, в райцентр, посадили в президиум и попросили рассказать с трибуны, как он и чего он там у себя добился. Теперь уже и стар и млад уважительно стали называть его Аяке, будто забыли даже прозвище его Сын песков, но самого Аяпберды все эти знаки внимания, почет, угощения мало радовали, в райцентре он уставал от суеты больше, чем в своих песках, и мечтал поскорее вернуться на стойбище. Успех чабана не прошел бесследно, восхваления завершились тем, что в один прекрасный день, уже в конце лета, Аяпберды оказался в санатории под Москвой посреди дремучего, пахучего леса. Такая перемена в ровном беге скучных дней смутила чабана, взволновала, заставила оглянуться на прошлое. Раньше ему казалось, так и придется покинуть мир, не ступив и шагу из глуши Кызылкумов, ничего не повидав, кроме сыпучей, скрипучей, шипучей пустыни. Сын песков не прозвище его, а доля его, судьба,— думал он, но, видать, ошибся, оказалось теперь, и ему суждено совершить поездку в далекую столицу, трое суток трястись в поезде, надеть наравне с другими отглаженный приличный костюм, повязать на шею галстук с узлом в кулак и даже сидеть в вагоне-ресторане и тянуть-потягивать кислое пиво, поднимая таким образом свое унылое, одним словом, тоже кислое настроение, и вспоминать, перебирать совсем недавние, середины лета события.
Как принято каждый год в конце июля – в начале августа, совхоз подвел итоги за полугодие, картина получилась отрадная, и вот однажды на отдаленном стойбище Аяпберды послышался рокот мотора, из-за бархана выкатил запыленный вездеход-«уазик», остановился возле домика чабана и вышли из машины двое – директор совхоза и главный зоотехник, звали их, между прочим, как и пророков ислама, одного – Сулеймен, а другого – Муса. Дальний путь их не утомил ничуть, они были веселы, громко переговаривались, не дожидаясь приглашения, прошли в дом, поздоровались за руку с престарелой матушкой, справились о здоровье Зейнел, уделили должное внимание ребятишкам, щелкнув каждого по носу, после чего прошли на почетное место.
Расторопная Зейнел быстро поставила самовар, приготовила дастархан, и вскоре гости, с удовольствием потягивая ароматный густой чай, степенно, торжественно, будто они и впрямь пророки, высокими словами повели речь о том, что дорогой Аяке, наша гордость и наша слава, не только выполнил, но значительно перевыполнил план по молодняку, а также по шерсти, и, если дело у него пойдет дальше с таким же успехом, то к концу года уважаемый Аяке утонет в аккордно-премиальной надбавке. Они дружески хлопали по спине растерянного чабана, говорили «спасибо», «молодец», «передовик», «вожак», заверяли, что и совхоз не останется в долгу перед знатным чабаном – «выдвинем», «выделим», «поднимем», «напишем в газету», – громкие их слова, конечно же, не миновали слуха матушки, она смахнула со щеки слезу радости, по-благодарила Аллаха и вознамерилась тут же принести в жертву любимого барашка своих внуков; «пророки» не стали ее отговаривать. «Поедешь, дорогой Аяке, в санаторий, и не куда-нибудь в пыльную Кзыл-Орду или в знойный Чимкент, – нет, в столицу поедешь, в Москву, вот какую мы тебе привезли новость». Однако сообщение их повергло домоседа Аяпберды в уныние, он робко попытался увильнуть от такой щедрости:
– Зачем я нужен Москве, какая ей от меня польза? Когда-то мой отец уже побывал там, защищая Москву от врага, хлеба-соли отведал, я думаю, для нашего рода хватит, зачем еще мне туда?
Гости только руками развели да голосами покачали, мимоходом благословили барашка в жертву, не забыли напомнить, чтобы подержали мясо на пару, а затем поджарили на сливочном масле.
– Ойбой, начальники мои, – не унимался озадаченный Аяпберды, – неужто и в самом деле хотите, отправить меня на край света?
И директор, и зоотехник лишь подивились его темноте и в один голос заговорили о том, что забота о здоровье чабана есть первейшее дело руководства, что санаторий ему крайне необходим, он там хорошо отдохнет и наберется сил для дальнейшего повышения производитель-ности труда. Возражать на такие важные слова Аяпберды было нечем, его будто к стенке приперли, и все-таки он еще раз попытался возразить:
– Ладно, пускай поеду, но кто тут без меня будет смотреть за овцами?
И в самом деле – кто? На кого он покинет отару в семьсот голов, если Зейнел и без того крутится-вертится, рук не может освободить от домашних дел, от забот о ребятишках да о престарелой свекрови? Самое большее, она сможет без него тут почистить загон, собрать овечий помет, с грехом пополам напоить овец водой из колодца, а дальше? Не-ет, начальники, голову не морочьте, нельзя ему бросать отару, Зейнел тут одна не справится, маток волки сожрут, а ягнята разбегутся, не-ет, Аяпберды натерпелся в позапрошлом году, когда пролежал с простудой в районной больнице без малого месяц, извелся там, беспокоясь за отару, сердце его чуяло беду и не обмануло, увидел он горе-горькое по возвращении. Пять или даже шесть добрых маток исчезли, то ли заблудились в песках и погибли от истощения, то ли стали жертвой волчьей стаи, одним словом, сгинули, а оставшиеся овцы ходили с язвами на губах оттого, что пасли их кое-как, на колючках, ягнята совершенно исхудали и стали похожими на цыплят. Намучился Аяпберды, кое-как удалось убыток покрыть в следующем году, и хорошо, что покрыл, пра-вда, нелегко было, одно дело, когда стойбище под боком у центральной усадьбы, но совсем другое, когда оно шайтан его знает где, в глуши, среди голодных волков, под зноем и ветром, тут ухаживать, ходить-следить за отарой куда труднее, так что довод Аяпберды против санатория был веским.
– На время твоего отдыха, Аяке, назначим сюда помощника чабана, даже двух, – заверили его «пророки».
– Кого же вы назначите? Опять эту обезьяну пришлете, сына Абдигаппара? – сердито сказал Аяпберды и косо глянул на Зейнел – она знает, в чем дело.
Обезьяной он называл великовозрастного шалопая Жетена, тот целыми днями слонялся по селу с гитарой на животе, подметая улицы широченными клешами. Сынок денежного папаши бездельничал, от работы, говорил, кони дохнут, ездил в город каждое лето поступать в институт, никуда, конечно, так и не поступил и снова бродит по селу, дрыгает коленками теперь уже не в клешах, а в джинсах, таких узеньких, вот-вот треснут по швам. Слоняется-слоняется, ищет-рыщет неведомо чего, пристает к девушкам да к молодухам, как репей, со своей болтовней, растянет рот до ушей и хоть бы одно слово путное сказал, несет белиберду, скалится да кривляется. Бездельника решили трудоустроить и прислали сюда в позапрошлом году, когда Аяпберды угодил в больницу, так вместо того, чтобы ухаживать за овцами, Жетен ринулся ухаживать за молодкой Зейнел, и одну ночь не давал ей спать своими сладкими словесами, и другую, дождался, когда все улягутся, и ползком направился к постели Зейнел, прикоснуться побоялся, но лопотать лопотал всякие обольстительные штучки-дрючки, а она, тихоня, не может на него прикрикнуть, боится детей разбудить, только шепотом пыталась его урезонить, да не так-то просто. На третью ночь догадливая свекровь поставила на ночной тропе Жетена пару пустых ведер, а сама легла и засопела в обе ноздри, будто спит, а на самом деле следила, как себя поведет прощелыга приезжий. Жетен полежал-полежал, подождал-подождал, когда все уснут, и, думая, что настал его звездный час, тихонько поднялся со своей постели и на четвереньках пополз к Зейнел. В темноте стукнулся головой о первое ведро, отпрянул в сторону, зацепил второе ведро — грохоту на весь дом, дети проснулись в испуге, заплакали, бабушка тут же поднялась, лампу зажгла и набросилась на ухажера:
– У тебя что, чесотка по ночам?! Сам не спишь и другим не даешь, я вот тебе сейчас покажу! — и взялась за кочергу.
– Извините, апай, мне воды захотелось, – без всякого зазрения совести заявил парень и начал заглядывать в пустые ведра. А на другой день, помня о кочерге и видя, что под надзором старухи счастья ему не светит, дал Жетен стрекоча на центральную усадьбу и даже кепку свою забыл с фасонистым козырьком.
И Сулеймен и Муса знали про эту комедию и сейчас заверили чабана, что Жетена больше не пришлют, а вместо него направят сюда двух джигитов после десятилетки, оба они комсомольцы, ребята скромные, как говорится, травинку у овцы не отнимут. Аяпберды понимал, что упрямиться нехорошо, начальство ему во всем навстречу идет, лишь бы он отдыхать ехал, радоваться бы ему, благодарить, а он никак не может таких слов подобрать, душа его неспокойна. Поставили перед гостями полную чашу молодой баранины, зажаренной на сливочном масле, принялись они за еду, а чабан снова за свое, отважился высказать еще одну, последнюю заботу:
— Апыр-ау, дорогие Сулеймен и Муса, не хотел бы я портить вам аппетит, да вот чуть не забыл сказать вам про главную беду. Пески на нас движутся, заметают кошару, поднимаются за сутки на три пальца. По утрам я хватаю лопату и отбрасываю, сколько могу. Но если в прошлом году я справлялся с песком за полтора часа, то теперь трачу не меньше двух часов. Беда, прямо вам скажу, беда, каждый день песок все ближе и ближе.
Особой новости в его словах не было. С давних пор казахи называли эту местность Ойпатом — Зеленой впадиной, оазисом посреди желтой пустыни. Пески двигались сюда с северо-запада, образуя на границе с Зеленой впадиной высокую гряду Буйрат — Кудрявые барханы. Сыздавна граница между Ойпатом и Буйратом была довольно надежной, Зеленую долину защищала могучая роща, сплошные заросли саксаула. Не одно поколение скотоводов выращивало преграду от ползучих песков, высаживали год от года саксаул, а если приходилось вырубать на всякие нужды, то вырубали осторожно, с умом, и в тиши Ойпата спокойно разводили скот и даже сеяли просо. Так жили годами, веками жили, не зная горя, но вот лет десять назад в совхоз прибыла из города бригада заготовителей, добрались они до Ойпата, громкоголосые, длинноволосые, частенько пьяные и бойко, с большой производительностью труда начали валить саксаул на дрова. Глядя на их бурную деятельность, старики хватались за сердце, пытались урезонить заготовителей: «Дети наши, не поднимайте топор па заросли Буйрата, иначе не дадут нам жить пески Кызылкумов, заметут наши стойбища и зимовки». Бригада вроде бы прислушалась к мольбе стариков, стала рубить саксаул выборочно, заготовила дров, уехала, а на другое лето снова приехала и опять рубила выборочно, с пониманием, помня об охране природы. В конце концов заросли поредели настолько, что сквозь бреши стали проникать пески, сначала они затопили прогалины, потом быстро сползли на сочный травостой Ойпата и постепенно, шаг за шагом начали подползать к стой-бищу чабана, словно ползучие гады. И вот настал день, а случилось это в прошлом году, когда Аяпберды пришлось взяться за лопату и до ломоты в спине биться каждое утро с песчаным нашествием. Днем он ходил за отарой, кормил ее и поил, оберегал и холил, затем усталый валился спать и не слышал, как всю ночь, змеисто извиваясь, ползет и ползет песок к его стойбищу, грозя похоронить кошару. На рассвете он видел ту же печальную картину, что и вчера, снова хватался за лопату и яростно отбрасывал слой за слоем, ненавидя пески как живое и злобное существо. Он бился с ними, как батыр с драконом, однако силы были неравные, год назад он тратил на схватку полтора часа, нынче уже тратит два, на прошлой неделе добавил еще пять минут, так и будет расти трата времени и сил изо дня в день, и чем все это кончится, лучше не думать.
Высказал все это Аяпберды директору и зоотехнику и поставил вопрос ребром: сможет ли его Зейнел одна справиться с наседающими песками? Или совхозу придется смириться с тем, что кошару его поглотят пески?
Сулеймен только-только примерился выпить рюмку, отхлебнул глоток, но после вопроса чабана поперхнулся и отставил рюмку на край стола; глаза его сузились, морщины на лбу стали глубже, щеки побагровели до синевы, он сидел неподвижно, будто вслушиваясь в шорохи песка за стеной, будто видя ужасающую картину, крылатого дракона, который кружит уже вокруг стойбища и вот-вот свирепо налетит на кошару, на дом с людьми, растопчет и разнесет все в один миг, и даже видавший виды «уазик» не убежит, несмотря на свои лошадиные силы. Сулеймен невольно поежился, а Аяпберды, видя его смятение, поддал жару:
— Оу, братцы, вернусь я после веселого отдыха и увижу тут одни скелеты!
Немудрено, и такое может случиться. Зоотехник Муса рассудительно заговорил о том, что пришла, пожалуй, пора бросить ко всем чертям это гиблое место и перевести кошару поближе к Сырдарье, совхоз не слишком уж обеднеет, пусть уменьшится немного выпас, пусть овцы потеряют в весе при перегоне, все это не так страшно, а иначе как прикажете понимать обстановку: в конце двадцатого века, в пору наивысшего расцвета науки и техники, наши чабаны простой лопатой пытаются противостоять пустыне? Позор, да и только, стыда не оберешься, если солидные люди о том узнают.
Директор только головой покачал на его слова:
– Сегодня мы уберем в тихое место кошару Аяпберды, завтра переведем кошару Койшеке, а там придет день, надо спасать кошары Каипназара, Сейтназара. Но спасут ли наши головы все эти переводы-переходы, если скрипучая напасть готовится поглотить все живое на Ойпате и Буйрате? Мне даже такая мысль приходит: уж не двинулись ли Кызылкумы на Сырдарью, на древнюю нашу кормилицу, чтобы высушить ее и засыпать? А признаков того сколько хочешь. Ляжешь в постель – под спиной песок, сядешь — песок под задницей, обедаешь – песок на зубах хрустит, чай пьешь – опять песок сплевывай. О Всемогущий, да избавит ли меня смерть от такого наказания?! – тонким голосом запричитал Сулеймен. – На днях совсем расстроился, иду в свой кабинет, а в коридоре песок. Говорю техничке: неужели хоть раз в неделю нельзя эту пакость вымести? А она мне в ответ: «Да я его каждый день выгребаю, выметаю, только пол вымою, не успею оглянуться, а там снова лежит эта адская пыль». И сама чуть не плачет. Открываю в кабинете сейф, дверца у него, сами знаете, в ладонь толщиной, и – о Всемогущий! – песок и туда просочился. Да что в коридор, что в сейф, даже в мои сны проклятый песок лезет, только глаза закрою, а он так и сыплет, и сыплет, и сыплет. – Сулеймен схватил рюмку с водкой, одним махом выпил, словно торопясь залить свое горе, Муса тут же наполнил рюмку, директор и ее опорожнил одним глотком; после чего слегка успокоился, на лбу его выступил мелкий пот, глаза несколько посветлели.
Откровенная озабоченность директора заметно утешила Аяпберды, но все же не настолько, чтобы он переменил разговор, нет, ему хотелось добиться какого-то твердого мероприятия со стороны руководства.
– Надо действовать, – сказал он. – Поискать надо разумный выход, не сидеть сложа руки.
– Ойбой-о-ой, – Сулеймен взялся за голову обеими руками и повертел ее туда-сюда, как кумган с водой. – Если бы я знал выход, думаешь, стал бы его скрывать? Не знаю выхода, дорогой, но убежден: если начнем менять стойбища, бегать с места на место, будет еще хуже! Весь район станет издеваться над нами. Надо бороться изо всех сил, отбрасывать, отгребать, выметать, ставить загородки, щиты, брезент, анау-мынау'. Я уже послал докладную в Алма-Ату нашим ученым-всезнайкам, так и так, приезжайте сюда, проведите исследования, да спаси-те нас побыстрее от этого песка-удава, живьем глотающего наши пастбища. Оттуда обещали оказать всемерную помощь животноводам, так что не сегодня-завтра прикатят сюда специалисты по тайнам природы. Ну, а пока они едут да пока приедут, тебе, дорогой Аяке, надо тем временем побывать в санатории под Москвой, отдохнуть, поправить здоровье, зачем тебе пятиться, если уж разделся, так полезай в воду. А за отарой будут ухаживать комсомольцы, дадим наказ, проинструктируем, чтобы они и за песками следили, отгребали своевременно и не ленились, вот так решим, Аяке, и на этом прекратим прения.
Аяпберды уныло кивнул, видя, что упрямиться дальше уже неприлично, ведь добра же ему хотят, о его здоровье пекутся. Так и оставил он стойбище под знойным ветром, поручив отару жене да двум юным джигитам, раз десять повторил им строгий наказ, как, что и когда делать, оставил малолетних ребятишек на попечение своей матери, а мать — на попечение Аллаха, свернул аккуратно вчетверо голубую путевку и скрепя сердце поехал на станцию, сомневаясь, сожалея, рискуя, сел на скорый поезд и покатил в столицу.
Тяжело человеку, выросшему в ауле, отроду не покидавшему родной край, оказаться в громадном городе. Когда вышел Аяпберды из поезда на Казанском вокзале, от обилия людей с чемоданами, сумками, тюками, ящиками, от гомона и суеты у него закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Сколько он ни спрашивал и мужчин, и женщин, как ему доехать до санатория, никто ему толком не мог объяснить, и Аяпберды пошел в город, полдня бродил по улицам, опасливо озираясь, как бы не затоптала его толпа, а машины, казалось ему, так и норовили на него наехать, но все-таки он расспросил дорогу, узнал расписание электрички и к вечеру наконец-то добрался до своего санатория, радуясь тому, что прибыл на место, не заблудился, верно старики говорят, расспросы и до самой Мекки доведут. Отдал путевку кому надо, вошел в палату, какую ему указали, призвал, как говорится, потерянную душу к себе и даже погулять вышел. Лес вокруг санатория был густым, казалось, он собрал под свое крыло деревья со всего света, вперемежку стояли здесь сосны и ели, пихты и белоствольные березы, щебетали птицы, загадочно шелестела листва, вздыхали хвойные лапы, и такая стояла тишина вокруг и прохлада, что хочешь не хочешь, а подумаешь, будто рай земной именно здесь и находится. Не думал, не гадал, не верил Сын песков, что бывает в природе такой упоительный воздух, он так и щекочет ноздри, так и заставляет дышать в полную грудь. Подышал он, подышал перед сном, улегся и спал спокойно, а утром не смог подняться и два дня пролежал в постели навытяжку, чувствуя тяжесть в руках, в ногах, будто в тело его влили свинец, нянечки приносили ему завтрак, обед и ужин прямо в палату. Молчаливое возлежание иссохшего, как мумия, прокопченного на солнце парня они объяснили языком медицины: акклиматизация. Молодая врачиха внимательно его осмотрела, выслушала, выстукала и сказала, что от постоянного пребывания под палящим солнцем и горячим ветром кожа его слишком высохла, даже потрескалась, нервы тоже поизносились прежде времени, назначила ему витамины, хвойные ванны, как он понял, из сока лесных деревьев, а также целебные лучи электричества. Аяпберды кротко согласился с миловидной, приветливой врачихой, он послушно исполнит все, будучи уверенным, что Богом данную душу даже врач не сможет отнять, вынесет он все ее назначения, и ванну, и электричество – все стерпит, даже если предложат ему карабкаться на дерево, он полезет, как белка, лишь бы побыстрее перемочь-пережить отмеренные ему голубой путевкой двадцать четыре дня, купить потом гостинца детям и живым-здоровым добраться до своего дома на краю земли.
Вскоре прошла эта самая акклиматизация, от витаминов, хвои и электричества Аяпберды почувствовал себя бодрее, возрадовался было своему новому самочувствию, но вот однажды после горячей ванны бросило его в холодный пот, сердце его в предчувствии беды неминучей забилось мелкой пташкой, еле-еле добрел до палаты Аяпберды и упал в постель, не слыша своего дыхания.
Как же он мог забыть, как же он не додумался, как же он не спохватился вовремя и не предупредил жену о самом главном, наиглавнейшем?! Все из-за спешки, из-за Мусы, он торопил, завел свой «уазик» и дверцу открыл — садись, Аяке, да поедем скорее. Зоотехник привез на стойбище двух помощников Абуталипа и Таубая, хвалил их, нахваливал: «Ребята смирные, скромные, работящие, знают, как ухаживать за овцами, могут и по домашним делам помочь, воды натаскают, дров наколют, кошмы вытрясут, надо будет — и ковры почистят, и песок смогут вовремя отгрести, — все смогут, только садись в машину, а то опоздаем на поезд». Аяпберды поставил свой чемодан на сиденье и в третий раз объяснил джигитам, когда и куда выгонять отару на пастбище, когда пригонять на водопой, в третий раз напомнил Зейнел, чтобы она поставила за кошарой загородку из чия, старой кошмы и бре-зента, и чтобы каждый день все трое отгребали песок, следили, не подпускали, а уж потом, когда он вернется, то возьмется, не щадя спины своей, бороться с песками днем и ночью и либо победит ползучего гада, либо покинет уже покинутое Богом место. Вроде бы он все сказал и даже не один раз повторил, да вот в спешке бедная его головушка забыла о самом главном, торопясь, попрощался: «Ну, пока, бывайте здоровы, берегите отару!» — и даже не поцеловал Зейнел, а она смотрела на пего влажными глазами, сел в пыльный «уазик» и покатил по тряской дороге.
А теперь вот вспомнил, и бросило его в дрожь, потому что забыл предупредить, потребовать строго-настрого: «Не пускайте овец к Тропе тигра и сами, упаси боже, не приближайтесь к ней!» Начисто вылетело из головы, а ведь сам он всегда помнил, ни на миг не забывал о Тропе тигра, и причины для тревоги были у Аяпберды основательные.
В давние-предавние времена на северо-западе Буйрата стеной стояли непроходимые заросли саксаула, джиды, колючки и другой скудной, но костлявой, крепкой растительности и тянулись дикие заросли вплоть до самых камышей вдоль берега Сырдарьи. Старики рассказывали, будто лет сто назад в хаосе зарослей водились тигры, грамотные люди вспоминали, что царский генерал Черняев даже в книжке описывал, как он выезжал в джунгли Буйрата на тигровую охоту. Но год от года дикие заросли все больше редели, саксаул высыхал, крошился, развеивался ветром, пески давили, топили, даже дремучие камыши Сырдарьи стали редеть и блекнуть, словно волосы на голове старика. Оставались ли там тигры и как долго они могли продержаться в лысеющих зарослях Буйрата? Запомнил Аяпберды рассказ своего деда, тот перевозил соль на верблюде, возвращался однажды порожняком, остановился на ночлег посреди Буйрата и в сумерках развел костер. По-дорожному наспех поужинав, дед задремал, но уснуть не удалось — страшно закричал верблюд, дед вскинулся, открыл глаза и в свете догорающего костра увидел, как через спину верблюда багровой молнией пронеслось чудище и тут же пропало в темноте. Помолясь Аллаху, дед поднялся, неверно ступая, подошел к верблюду и увидел на песке четкий след, похожий на след кошки, только необыкновенно большой. Верблюд как лежал, так и остался лежать без движения, издавая тягучий мучительный стон, не зря, видно, говорили в народе, что если через животное перепрыгнет тигр, то в хребте жертвы расходятся позвонки, то ли от испуга, то ли скорее оттого, что зверь успевает нанести удар своей мощной лапой. Дед всю ночь не спал, подбрасывал в костер битый саксаул, на рассвете прирезал стонущего от мучений верблюда, перекинул через плечо корджун и пешком поплелся домой. Вот такую историю слышал маленький Аяп от своего деда, помнил ее и отец, мало того, и у отца было что вспомнить про зверя. В начале тридцатых годов, в голодную пору, отец бродил по Буйрату, собирая коренья трав, и как-то раз увидел на песке свежий след, по всем признакам след тигра. Он поспешил домой, оповестил аул, мужчины тотчас вооружились кто чем и пошли облавой на Буйрат. Они скоро нашли след и, вполне возможно, смогли бы настигнуть и прикончить хищника, но сама природа его пощадила, поднялся ветер, понес пески, и след тигра исчез, наверное, уже навсегда. Место, где увидел следы отец, совпадало по рассказам с тем же местом, где их видел дед, значит, у тигра были свои владения, своя тропа на Буйрате.
Сначала дед, потом отец, пришло время, и сам Аяпберды повстречал на тропе зверя. Нынешняя весна выдалась дождливой, дружно поднялась трава по склонам сопок и хоть на время, да укротила движение горбатых барханов. После стрижки овец Аяпберды отделил молодняк, оставил ягнят в кошаре, а маток погнал па дальние выпасы, он знал овец, как говорится, лучше самих овец,— если маток вовремя не отделить, ягнята высосут из них все соки, никакие корма потом не помогут им набрать вес, вот почему чабан угонял отару на хорошие выпасы, и угонял надолго, недели на две, матки быстро набирали вес, а ягнята без них сами привыкали щипать травку. Зейнел собрала ему в корджун лепешек, вяленого мяса, сушеного сыра; Аяпберды приторочил корджун к седлу и погнал отару туда, где, по его предположению, нынче много сочной травы — на западный край Буйрата, где когда-то были непроходимые заросли. Переход с отарой занял два дня, зато ожидания чабана оправдались, он увидел здесь хороший травостой, овцам было приволье. И вот в ночь, последнюю ночь на Буйрате, когда Аяпберды уже решил назавтра повернуть отару домой, он увидел нечто такое...
Впрочем, ночь еще не наступила, солнце, хотя и зашло, но отсвет его лучей все еще озарял пустыню, и там, в стороне заката, появилась вдруг странная тень на горбу бархана, как раз на Тропе тигра. Сам Аяпберды, возможно, и не заметил бы ничего особенного, если бы не всполошились овцы. Почему-то так всегда получается, человек замечает опасность в последнюю очередь, сначала овцы почуют, собака подаст голос, а потом уже и чабан спохватится. Так и сейчас, овцы с отчаянным блеянием сбились в кучу, собака — рослый, с теленка волкодав, которого Аяпберды нахваливал, будто он один одолеет стаю волков, — заскулил, словно щенок, поджал хвост, лег на песок и закрыл голову лапами — такого еще не бывало! Чувствуя, как мгновенно пересохло во рту, Аяпберды быстро схватил ружье, оглянулся, увидел: непонятный зверь с косматой гривой, громадный, растянутый своей тенью, без боязни и без утайки легкой рысью шел по Тропе тигра, вот он чуть приостановился на вершине бар-хана, словно дразня Сына песков, и затем исчез, будто растаял с последним светом заката.
Аяпберды взобрался на свою клячу, долго не мог попасть ногой в стремя и, подняв ружье наизготовку, поскакал туда, к Тропе тигра. Нет, то был не мираж, совсем не мираж: Аяпберды увидел след, да остался и запах, судя по тому, как лошадь его шарахнулась назад, всхрапывая. Аяпберды сошел с седла, пригнулся, вгляделся... Он знал следы всякой твари Кызылкумов, хищной и травоядной, отец с детства обучил его навыкам охотника и следопыта, но такого следа видеть ему не доводилось — волк не волк, тигр не тигр, похоже, сам дьявол прошел по гребню бархана. Чабан постоял-постоял, всматриваясь, вслушиваясь, — никакого движения, никакого звука, — несколько успокоенный он вернулся к отаре, сошел с коня, но тут овцы снова заблеяли, в панике сбиваясь в кучу, а волкодав, скуля, полез прятаться под брюхо лошади. Обозленный, оскорбленный, униженный Аяпберды огрел пса плетью, вскочил на коня и погнал его снова к бархану, крича во все горло до одурения: «Шайт! Шайт!» А темнота сгустилась, в двух шагах уже ничего не видно, лошадь всхрапывает, топчется, пятится, темно вокруг, чернота, жуткий страх охватил чабана, волосы встали дыбом, зверь наверняка залег где-то рядом, не станет он уходить от легкой добычи, а защититься ему нечем, ружье старое, да в темноте и не прицелишься как следует, от собаки никакого проку, сожрет ее зверь и чабана растерзает, а овцы рассеются и пропадут. Аяпберды поскакал к отаре, скатился с коня и, призывая Бога на помощь, начал сгребать сучья, выдирать сухие корни, спички ломались в дрожащих пальцах, сердце колотилось в горле, кое-как он развел костер, тесно окруженный животными, — и овцы, и лошадь, и скулящий пес, казалось, готовы в огонь броситься, лишь бы не оказаться в пасти непонятного чудовища.
Чуть живой — и как только душа его не улетела в рай? — он дождался рассвета, сел на коня и, стараясь не оглядываться, погнал отару домой. На закате второго дня он увидел дымок своего становища и только теперь вздохнул с облегчением. Зейнел, как всегда, вышла встречать мужа, вгляделась и невольно вскрикнула: «Оу, что с тобой? На тебе лица нет!» Аяпберды ничего ей не сказал тогда, просто, дескать, устал и все, не сказал тогда, но надо же было, непременно надо было сказать потом, крепко-накрепко следовало бы предупредить молодых парней: «Не пускайте овец к Тропе тигра. И сами туда не ходите». Забыл в спешке о самом главном, закрутился, теперь вот блаженствует посреди зеленого леса на мягких пру-жинах, на белых простынях, а там нависла беда над родным становищем, и потому не спится Аяпберды, не лежится, ноют кости, и внутри все горит огнем.
Наверное, правду говорят люди, будто предчувствия не обманывают, даже за тысячи верст от своих близких всегда ощутишь, учуешь их беду, муку их душевную и телесную. Лежа в постели поздним вечером, когда утихли голоса в санатории, Аяпберды закрыл глаза, задремал и явственно, как в кино, увидел перед собой все события тамошние, в песках.
Зейнел с лопатой в руках обошла кошару и остановилась перед пологим бугром. Прошла неделя, как уехал Аяпберды, семь дней всего-навсего, но проклятые пески продвинулись уже настолько, что вот-вот навалятся на кошару. Вчера вечером Таубай и Абуталип заверили ее, что песок отгребли достаточно далеко, все в порядке, а на самом деле никакого порядка — или поработали джигиты лениво, или песок за ночь поработал куда усерднее их, взял свое. Она только что накормила их завтраком и проводила с отарой, а теперь вот придется самой до вечера махать и махать лопатой.
Зейнел поплевала в ладони, подражая жесту Аяпберды, взялась за черенок и вонзила острие лопаты в ненавистный песок. «Держи черенок покрепче,— поучал жену Аяпберды, — иначе быстро натрешь мозоли, вспухнут волдыри, и тогда пальцы согнуть не сможешь. Да отбрасывай равномерно, не суетись, не спеши, а то быстро устанешь». Помня советы мужа, она крепко сжала пальцы на черенке, но про размеренность забыла, до того ей хотелось поскорее расправиться с ползучим гадом, повернуть его вспять, а потом пойти домой и готовить обед, постирать белье, хоть немного заняться с детишками. С каждым взмахом лопата становилась все тяжелее и тяжелее, соленый пот заливал глаза, на влажный лоб налипла мелкая пыль, кожа стала чесаться, но Зейнел продолжала работать лопатой, преодолевая усталость, кусая губы и часто дыша. Когда плечи ее заныли и в глотке невыносимо запершило, она выпрямилась, глянула на песок и чуть не заплакала от бессилья — сколько было песка, столько и осталось. А вокруг мертвая тишина, беспощадное солнце накаляло пески и воздух, и так было знойно, душно, тяжко, что ей захотелось заголосить, излить тоску в протяжном надрывном стоне. Слабо дохнул жаркий ветер, и лежащие перед ней поперечные полосы песка вновь ожили, с шорохом поползли к ее ногам, и ничего не оставалось Зейнел, как снова вонзать лопату и отбрасывать и отбрасывать сыпучее исчадие ада, лоб ее постепенно высох, она перестала потеть, приноровилась и равномерными взмахами шаг за шагом все-таки стала одолевать, отодвигать пологую гору...
Сколько же лет прошло, как они поселились здесь, в стандартном домике для чабанов, на самом дальнем совхозном стойбище? Много, кажется, очень много, если подумать, а если вдуматься да посчитать, то всего-навсего пять. Пять лет назад они вместе с Аяпом окончили школу, в город не поехали, институт их особенно не манил, они поженились и решили, как их предки, дальние и близкие, заняться извечным для родного края делом — овцеводством, жить отдельно, уединенно и вполне само-стоятельно. Они сами выбрали место подальше и ехали с надеждой на свое счастье, и надежды их оправдались. Пески в ту пору были куда спокойнее, лежали волнами мягкими, бархатными, вроде бы даже безвредными, но опасными; пустыня будто с умыслом заманивала молодых, скрывая от них поначалу свои жестокие тайны. Они бегали по барханам, словно по зеленому лугу, обгоняли ветер, а песок слабо и ласково струился по их босым ногам. Не знали они, не ведали, что со временем тихий край взбесится и глянет на молодую семью жестоким, налившимся кровью глазом. Но это потом, а в первые дни, первые недели, месяцы характер у мужа был покладистым, уступчивым, слова его, обращенные к Зейнел, звучали тепло и приветливо, он старался во всем угодить ей, услужить, так и вертелся рядом, выискивая, как бы помочь ей в большом и в малом. Возвратись домой с овцами, он тут же, не умываясь, не переодеваясь, бросался обнимать Зейнел, поднимал ее на руки, целовал ее губы, шею, приговаривал: «Ух, и соскучился я по тебе за день!»' Не забыть Зейнел его горячие руки, они тискали ее, рвали с нее одежду, большими ладонями Аяп сжимал ее груди и замирал, словно младенец. Потом, как водится, не успели они оглянуться, один за другим появились два малыша. Казалось бы, пора теперь и остепениться, они уже отец и мать, дети на них смотрят, но они продолжали свою игру, то и дело задевали друг друга, щипались, хохотали, гонялись друг за дружкой, не стесняясь матери, она только головой качала и поджимала губы укоризненно, а они никак не могли остепениться, не хватало им для любви коротких ночей лета, да и длинных ночей зимы тоже не хватало. И все-таки поутихли страсти со временем, не сразу и не в один день, по жизнь их стала меняться и не к лучшему, лучшей жизни им и не надо было, а к худшему. Связан человек с природой, как ни крути, связан, и хотя говорят — властелин, покоритель, — не всегда у него так получается, особенно в здешнем крае. Все чаще стала подниматься песчаная буря, неся косматые, колючие волны, засыпая пастбища. По вечерам появлялась грусть в глазах Аяпа, появилась в лице озабоченность, за ужином он уже не рассказывал жене подолгу о том о сем, как ведут себя овцы, что видел сегодня, о чем думал, а на ее пытливые взгляды отмалчивался, лишь изредка бросал что-нибудь вроде: «Привеса совсем нет» или: «Измотался вдрызг, весь день против ветра гнал», а то сядет в угол, опустив руки между колен, подавленный с морщинами вокруг рта. «Чего ты?» — спросит Зейнел. «Да ничего, — вздохнет устало. — Ни к чему душа не лежит». Дальше – больше, он стал плохо спать, по ночам ворочался, и мысли были об одном и том же, вертелись на месте, стояла перед глазами одна картина — песок-песок, нудный-трудный, сыпучий-колючий, косматый-хвостатый дракон, да и только. Аяпберды ездил хлопотать на центральную усадьбу, побывал и в районе, и с начальством, и с каждым встречным делился своими бедами, но слушали его вполуха, потому что бессильны были помочь, а шутники аульные приклеили ему еще и кличку — Сын песков. Замкнулся Аяпберды, молчалив стал, утром наспех поест, не проронив ни слова, сунет ноги в кирзовые сапоги и скорей из дома. Скажет ему Зейнел вдогонку: «Куда ты спешишь, хоть бы поел как следует», а он только буркнет в ответ три слова: «Кошару песок сожрет» — и ничего больше. Хватает лопату и давай кланяться до земли дьявольскому нашествию. Приедут на стойбище директор или зоотехник, едва рот раскроют, чтобы спросить о делах, о житье-бытье, совхозные новости рассказать, как Аяпберды словно палкой по голове: «Чем будем пески останавливать?!» В ответ и Сулеймен мнется, и Муса хмурится, с ноги на ногу переступает, ни застолья тебе, ни должной беседы, поскорее бы убраться отсюда, не слышать сердитый голос настырного чабана. И внешне изменился Аяпберды, вялым стал, квелым, похудел, ходит сутулясь, и всему виной, всему причиной, скоро поняла Зейнел, пески-змеи, неотступное их наступление на стойбище...
Вспомнила Зейнел прошлое, и стало до того тоскливо, до того одиноко, так ей захотелось утешения, что показалось: вот появился бы сейчас хоть кто-нибудь, пусть бродяга бездомный, взял бы ее за руку, и она бы молча пошла за ним хоть куда, лишь бы избавиться от одиночества и тоски. «Апыр-ау, уж не схожу ли я с ума? Всего неделю живу без мужа, а уже думаю бог знает о чем. Да разве я одна живу в глуши, ухаживаю за овцами, ведь и у многих моих подружек по школе такая же доля, и та не смогла поступить в институт, и другая не осталась в городе, и третья не нашла себе никакого другого занятия, и пошли они тихим шагом, словно песчаные черепахи, в Кызылкумы следом за овцами и живут, трудятся, растят детей, собирают по веточке свои скудные радости...»
Зейнел снова взялась за дело и отбрасывала песок весь день до самого вечера, поясницу ломило, ладони жгло, но она махала и махала лопатой, билась с песком, как бился ее муж, а когда разогнула наконец спину, в глазах ее потемнело, в висках застучала кровь. И все-таки она отгребла бархан от кошары, заставила врага отступить и удовлетворенно отерла лицо тыльной стороной ладони. Она и сама не предполагала, что способна на такую ярость и стойкость. Глядя на чистое пространство между кошарой и барханом, она испытала теплоту в душе, в сердце ее словно загорелся костер от сознания своей силы, своего упорства, — она не сдалась, не отступила. Зейнел вздохнула свободно, и губы ее прошептали невольно: «Муж мой, родной мой, радость моя и опора, где ты?» И сказать некому о своей тоске, дети маленькие, свекровь престарелая, с подружкой бы поделиться, да где ее сыщешь?
И тут послышался вой, Зейнел не сразу поняла, откуда, не то спереди, не то сзади,— не ветра вой, не бури, а именно звериный вой. Она положила руку на грудь, стараясь унять испуганный стук сердца, прислушиваясь, дикий вой повторился — с наветренной стороны, из-за барханов. Зейнел выпустила лопату из рук, побежала от кошары и стала взбираться на гребень бархана, песок осыпался под ее ногами, она оскальзывалась, падала, карабкалась на четвереньках, помогая себе руками, — поскорее бы увидеть, кто там, что там? — и недоумевала: что со мной, ведь прежде взбегала на любую сопку словно козочка? — а сейчас задыхается, плечи ходуном ходят. Наконец она выбралась наверх и торопливо оглядела окрестности. Последние лучи заката уже таяли на краю пустыни, полоса между землей и небом была едва различима, какое-то марево, похожее на стадо животных или зверей, медленно перемещалось там, на закате, и наводило страх. Пора бы уже, пора вернуться парням с отарой, но их все нет и нет. Может быть, напали на них волки, растерзали неопытных помощников и теперь, вздымая песок, терзают кровавой пастью овец? Дикий вой, хищный, властный, грозящий, так и стоял в ушах Зейнел. Ничего толком не разглядев и все больше тревожась от наступающей темноты, Зейнел побежала домой, зажгла лампу, схватила со стены ружье, наказала перепуганной свекрови запереться на крючок и выбежала из дома встречать отару...
«Оу, горе мне, горе, как же я сплоховал, — корил и корил себя Аяпберды, томясь посреди зеленого леса, в чистоте и уюте подмосковного санатория. — Как же я запамятовал, не предупредил: не пускайте овец к Тропе тигра и сами не приближайтесь к ней!» Молодая врачиха послушала через резиновые трубки его сердце, посчитала пульс, — частый, как после бега, — измерила давление и покачала головой — сто шестьдесят на сто.
— Голова у вас не болит? — спросила она уже в третий раз, и вчера так спрашивала, и позавчера. — Может быть, вас что-то сильно беспокоит, вы нервничаете?
Аяпберды отрешено покачал головой и пробормотал:
— Калай гана умыттым? ...
Здоровый вроде бы молодой мужчина, ни капли жира на нем, одни мускулы, смуглый, проложенный солнцем, отчего у него такое давление?
— Побольше гуляйте, — посоветовала врач, — побольше ешьте и поменьше волнуйтесь. — И вышла из палаты.
«Калай гана умыттым?!»
...Вой зверя больше не повторялся, но тишины не было, чуткие уши Зейнел уловили дальний, из самой глубины Кызылкумов, слабый поющий звук, словно кто-то легонько коснулся струн кобыза, потом послышалось, опять же далекое, раздольное уханье, протяжный глухой стон, будто человека душат во сне. Зейнел еще больше встревожилась, она знала — так начинается ураган. Но где же овцы, где же парни, ее бестолковые, беспечные, легкомысленные помощники? Взошла луна, багровая, кривобокая, и в свете ее стало видно небо, низкое, мутное, тревожное. Поющий дальний звук становился слышнее, «Где же отара, боже мой, помоги им Всевышний, и овцам, и юношам!» — взмолилась Зейнел. Наконец с северной стороны послышалось блеяние овец, и Зейнел со всех ног бросилась навстречу, держа перед собой тяжелое ружье, и вскоре увидела — впереди отары шел Таубай, заложив за спину длинную палку и небрежно перекинув через нее руки, шел себе и беспечно насвистывал.
— Где вы бродите до самой ночи?! — набросилась на него Зейнел. — Я же просила вас не угонять отару далеко. Сейчас как раз самая плохая пора, гиены учат охоте своих детенышей. Говорила я вам или вы совсем оглохли?! Соображают ли ваши головы хоть что-нибудь?!
— Ойбой, какие гиены! — весело отозвался Таубай. — Братья-браконьеры давно их поистребляли вместе с сайгой, зря вы панику поднимаете, хозяюшка. Просто мы решили дать овцам волю, и они пошли туда, где больше травы, далековато, правда, зато и овцы сыты, и чабаны довольны. — Таубай перекинул свою палку из-за спины на живот и сделал вид, будто играет па ней, как на домбре, да еще и песню затянул, подняв лицо.
— Увидел бы Аяп такое безобразие, такую вашу беспечность, дал бы вам хорошей плетки. Вот подождите, приедет он, все ему расскажу.
А Таубай, без причины веселый, продолжал изображать игру на домбре.
— Надеюсь, вы не дошли до тех страшных зарослей? — продолжала строгий допрос Зейнел.
— Вполне возможно, что и дошли, — признался Таубай как о какой-то мелочи. — Шли-шли, едва дотянули ноги до Тропы тигра.
— Что ты несешь?! — прикрикнула на парня Зейнел.
— А что? — недоуменно глянул на нее Таубай.— Так сказали нам два русских геолога, мы их встретили на обратном пути.
— Да знаешь ли ты, что говоришь?! — В голосе Зейнел послышалось отчаяние.
Таубай посерьезнел от ее крика.
— Тропа тигра, — пробормотал он, — такое название, что тут особенного?
— Помолчи лучше! Благодарите судьбу, что вернулись оттуда целыми. На Тропу тигра даже Аяпберды, Сын песков, не осмеливается выходить. «Шли за овцами, еле ноги дотянули», — передразнила она. — Разве можно таким, как вы, доверять скот? С завтрашнего дня я сама пойду с отарой, а вы останетесь дома, будете кошару чистить и отгребать песок, да как следует. Вот приедет Аяп, он вам задаст жару.
— Слушаемся и повинуемся, — снова перешел на веселый тон Таубай. — Только вы, пожалуйста, не ругайтесь, когда вы сердитесь, вы теряете половину своей привлекательности. Я, между прочим, пока шел за овцами, сочинил песню, вот послушайте и оцените, очень прошу!
Зейнел слегка успокоилась, поостыла, слава богу, добрались они домой живы-здоровы, к тому же, если честно сказать, ее занимал Таубай, он всегда вежлив с ней, внимателен, вроде бы даже ухаживать пробует, хотя и совсем молод. Вчера вечером дотронулся до ее плеча как бы нечаянно и посмотрел на нее с улыбкой.
Таубай запел:
Благодатной порой среди лета,
Где ни зноя, ни ветра нету,
Я собирал смородину,
И ты собирала смородину.
А когда пришло время расстаться,
Грустным взглядом мы стали прощаться.
Зейнел улыбнулась невольно, — нашел джигит благодатную пору, ни зноя ему, ни ветра, — ладно, посмотрим, смелый, как ты запоешь дальше. А Таубай, довольный неизвестно чем, возможно, лучистой ее улыбкой, вприпрыжку побежал к овцам. От его легкости и ей стало легче, и не поймешь сразу, кто кого в тот миг одарил хорошим настроением.
Усталые за день овцы как пиявки присосались к бетонному желобу с водой, парни едва успевали доставать из колодца ведра. Тем временем полная луна поднялась повыше, края ее выровнялись, виднее стало, как небо все больше затягивает мутно-серая пелена, а понизу над песками густела, чернела мгла, по всем признакам приближалась буря, да и овцы стали проявлять беспокойство, блеяли, надо поскорее загнать их в кошару, иначе не соберешь их потом, когда засвистит, закружит косматый песок, не даст глаз раскрыть. Зейнел, Таубай и Абуталип с трех сторон начали криком загонять овец в кошару, но те упрямились, шарахались от ворот, будто там не спасение для них, а наоборот, погибель, ненасытная пасть чудовища. Абуталип догадался взять за рога белого барана-вожака, силой потащил его внутрь кошары, и тогда уже овцы побежали следом. Едва успели они закрыть ворота, как налетел ветер и сразу стало черным-черно. Прикрывая лица руками, толкая друг друга, двое парней и женщина уже в полном мраке добрались до крыльца дома. Испуганные джигиты до того торопились попасть в укрытие, что забыли о вежливости и первыми нырнули за порог, а Зейнел, закрывая дверь, еще успела оглянуться назад, словно привороженная налетевшим ужасом. Луна уже совсем исчезла, земля и небо слились в сплошное месиво, не понять было, откуда теперь дует ветер, он с ревом кружил на месте, будто избрав себе в жертву оди-нокое стойбище, наводил ужас разноголосым хором: выл, свистел, хохотал, плакал, рычал, блеял, мычал, — будто сам дьявол затеял свой концерт. На какой-то миг из бешеной разноголосицы один звук выделялся особенно пронзительно и так близко, что волосы вставали дыбом. Ничего не останется завтра в окрестностях стойбища, ни травинки, ни живой твари, не уймется стихия, не уляжется, пока не сомнет, не снесет, не поглотит все живое вокруг. Зейнел оглохла от мешанины звуков, у нее заложило уши, дверь так и рвалась из рук под напором ветра, кое-как она притянула ее к себе обеими руками, накинула крючок, поправила раскосматившиеся волосы и вошла в комнату. Только сейчас она вспомнила о семье, ведь не видела детей весь день, ничего им не сварила поесть, махала от зари до зари лопатой, а что толку? Налетел ураган, и теперь все ее труды обратятся в прах. Она растопила плиту, поставила на нее казан с мясом, разожгла самовар, заглянула в ведро, там осталось воды на четверть, Таубай заметил ее досаду, схватил ведро — и к выходу, но она схватила его за рукав и строго приказала:
— Сиди! Все равно до колодца не доберешься — пропадешь!
В окна струями бил песок, звенел и шуршал по стеклам, будто намереваясь их выдавить, в трубе выло, наружная дверь ухала, словно в нее стучались пинками, стены сотрясались под порывами ветра. Плита никак не разгоралась, то и дело из дверцы бил в комнату дым, будто сам дьявол сидел на трубе и дул в нее изо всех сил, забавляясь. Ребятишки так и не дождались мяса, попили чаю полусонные, и Зейнел уложила их спать. Свекровь, сидя, дремала, клевала носом, время от времени вскидывая голову, когда особо сильный порыв ветра налетал на дом. Таубай от нечего делать взял домбру хозяина, сделанную им из джиды — крепкого жилистого, наподобие саксаула дерева пустыни, и тихонько тренькал на ней в ожидании ужина. Абуталип пристроился возле лампы, сидел согнувшись, подняв колени до ушей, и читал книгу.
Завтра не узнаешь пустыню, если только они доживут до завтра, если только не унесет их домик, не завалит песком. Если бы ветер дул в одну сторону, то хоть какая-то была бы польза, он отнес бы барханы подальше от кошары, так нет же, он крутит и вертит, и дует со всех сторон, стараясь замести и дом, и кошару. А там ворота из старых досок, сбиты они кое-как, может, их уже разнесло в щепки, перепуганные овцы повыбежали наружу, и ураган их разметал по округе, — пропала отара, ищи-свищи!
Зейнел дрожащими руками вытащила готовое мясо из казана и, надевая на ходу брезентовый плащ, сказала Таубаю:
— Пойдем к кошаре, боюсь, как бы не сломало ворота.
Таубай отложил домбру и поспешно встал. С усилием, преодолевая напор снаружи, они открыли входную дверь и едва вышли, как порыв ветра чуть не сбил с ног Зейнел, Таубай успел подхватить ее за руки и теперь, пригибаясь, почти на четвереньках они двинулись в сторону кошары. Днем при свете до нее было рукой подать, но сейчас они ничего не видели в темноте, оступались и падали, вставали и снова шли, а кошары все нет и нет, так и казалось, ее унесло совсем, без следа. Кое-как они до-брались до ворот и убедились, ураган их пока щадил,— дощатые ворота скрипели, качались, но держались на запоре и, судя по всему, продержатся до утра. Оба вздохнули с облегчением, стихия все-таки милостива, постояли немного, избавляясь от страха, огляделись. На какое-то мгновение стало светлей, показалась серая бескровная луна, виден стал быстрый бег рваных туч и клубов песка.
— Что творится! — проговорил Таубай. — Гляньте-ка вон туда.
Зейнел посмотрела, куда юноша показал рукой, и сердце ее подпрыгнуло к самому горлу. Метрах в двадцати от них, похоже, громадный верблюд впятеро больше обычного медленно поднимался на ноги, страшные горбы его колыхались, косматились на верхушке, он разъяренно ревел, готовый вот-вот вскочить и броситься на людей, чтобы растоптать их. Зейнел в ужасе прижалась к груди Таубая, он поднял ее на руки и понес к дому, оступаясь и тяжело дыша. Едва они перешагнули порог, как Зейнел обеими руками ухватилась за дверную ручку, ощущая холодный пот по спине. Таубай набросил крючок да еще для надежности привязал ручку обрывком веревки к косяку и затем, возможно, от радости, оттого что они в безопасности, наклонился к Зейнел и поцеловал ее в губы. Она отпрянула к стене, закрыла губы ладонями и сказала едва слышно:
— Тебе не стыдно?
...А тем временем Аяпберды, Сын песков, спал в своем санатории посреди зеленого леса, но спал тревожно, виделась ему во сне пустыня и некое чудовище на Тропе тигра, оно то исчезало, то снова появлялось, вот оно набросилось на Зейнел, рвет на ней ее любимое красное платье, вот оно схватило ее за горло... Аяпберды вскочил с постели, озираясь в полумраке палаты.
— Где я?! Куда я попал?! — бормотал он бессвязно. — Сохрани ее, защити!
Он вышел во двор, и только здесь, на свежем воздухе, под тихий шепот сосновых ветвей пропал, выветрился из головы кошмар. Аяпберды сел на крашеную скамейку и вытер взмокший лоб. Наверное, он не совсем здоров, хотя воздух здесь такой бодрящий, такой целебный, мертвого оживит. И все-таки нехорошо ему здесь, плохо он ведет себя, неприлично, ест по. четыре раза в день, как здоровый, а валяется в постели с утра до вечера, как больной, что люди скажут? Там, в песках у него не было таких страшных снов, там он спал младенчески спокойно, а здесь вот, в хорошем климате, вдали от жгучего ветра и колючего песка, все ему что-то видится, все ему что-то мерещится. Когда это кончится, да и кончится ли? А что, если завтра он зайдет к главному врачу, скажет ему за все спасибо, извинится перед молодой врачихой, перед нянечками, поблагодарит всех, купит билет и покатит домой? Наверное, так оно будет лучше...
К рассвету ураган утих. Окрестности возле стойбища Сына песков изменились неузнаваемо. Когда утром Зейнел, Таубай и Абуталип, с трудом отворив дверь, до половины занесенную снаружи кучей песка, вышли наружу, унылая картина предстала перед их глазами,— ураган будто расчленил пустыню на части и разбросал как попало. Там, где вчера лежал крутой бархан, темнела теперь голая плешь низины, а там, где зеленела поляна, высился ребристый бархан, словно прилегший верблюд. К стене домика, прикрыв наполовину окно, привалился горбатый бугор, не мог найти себе более подходящего места. Придется просить на помощь технику, экскаватор или, как его там, бульдозер, пусть пригонят с центральной усадьбы, лопатой тут работы месяца на полтора. Хорошо еще, ураган пощадил кошару, не успел засыпать ворота, только со стороны заката намело большущий бархан.
Зейнел постояла, подумала, — делать нечего, придется кого-то из парней посылать к начальству просить помощи. Выбор ее пал на Абуталипа, наказала ему, чтобы он обрисовал там все трудности, — «беда, скажи!» Парень ни словом не возразил ей, собрал в корджун хлеба, соли, кусок мяса, переобулся и пошел по бездорожью. Если не заблудится, то скорым шагом к ночи доберется до места. Свекрови Зейнел наказала сварить обед, детям строго-настрого запретила выходить из дома, Таубаю велела весь день отгребать песок за кошарой, а сама взяла ружье, села на лошадь и погнала отару наугад, не зная, где найдет выпас и найдет ли сегодня, до того изменилась округа. Голодные овцы, забыв ночные страхи, резво бежали впереди, скатываясь со склонов, словно шарики ртути, рассыпанные по кошме. За все пять лет здешней жизни Зейнел еще не видела, чтобы так безжалостно была искромсана земля, будто всю ночь шли тут громоздкие тапки, бомбили с неба самолеты — все как в кино про войну. Не знаешь теперь, где юг, где север, все так переменилось, вон там прежде торчал кустарник с травой в тени, теперь же совсем голо, будто прожорливый хищник единым махом слизнул всю зелень. Овцы после урагана, казалось, проголодались вдвойне и теперь спешили со склона на склон, жадно выискивая остатки травы. Сначала она подумала, что лучше довериться овечьему чутью, пусть себе сами идут и сами ищут кормовую тропу, но потом вспомнила, что Аяпберды, бывало, в сильную засуху, когда начисто выгорала трава, угонял овец в сторону восхода солнца, к урочищу Тогускена. Может быть, хоть там что-нибудь осталось? Зейнел подхлестнула лошадь, громким криком стала собирать овец и направила вожака к востоку, к спасительному урочищу. Пока она гоняла коня туда-сюда, голые ее икры, растертые о бока лошади, стало саднить и жечь, будто их посыпали солью, она сошла с коня и повела его в поводу.
После ночного урагана пустыня была особенно тихой и неподвижной. Волны песка сейчас напомнили Зейнел океан, который она видела в кино, — такая же бескрайность, такие же перекаты, так и хочется полежать на волнах, понежиться под ярким солнцем, волны справа и волны слева, они идут вдаль, соединяясь с голубовато-серым небом на краю земли.
Когда же она была в кино последний раз? — теперь и не вспомнишь, год прошел или два, а ведь было время — она ни одной картины не пропускала, и сопровождал ее смуглый юноша в белой рубашке, по характеру простой и открытый, преданный ей Аяп, тогда он не был еще Сыном песков, да и она была не бабой с двумя детьми, а стройной и гибкой, как прутик, красавицей восемнадцати лет, увивались за ней парни, многие, но покорил один, а чем покорил, она и сама не знает, может быть, тем, что любил мечтать вслух, упрашивал ее жить вместе, дескать, будет у них хорошая семья, возьмут они отару и уйдут в степь, чтобы жить вольно, как душа пожелает, она согласилась, и сейчас, бредя за отарой, вспоминала начало своего замужества, неловко было перед собой, стыдно, но вспомнила она и свою первую ночь после свадьбы, Аяп обнимал ее, целовал, а она почему-то стала сопротивляться, глупая, отталкивала его руками и коленями, и так не одну ночь, а, наверное, целую неделю. В ту сладостную пору Аяп был вот таким же молодым и красивым, как этот Таубай, очень они похожи, даже походка такая же...
«Стыд какой, зачем сравниваю, подпускаю к сердцу первого встречного, когда у самой есть муж, судьбой предназначенный, живой и здоровый?» Ничего подобного прежде ей бы и в голову не пришло, а вот теперь она думает о молодом джигите, помнит щекотанье его усов, значит, душа ее с некоторых пор изменилась, правду говорят, человек вдали от людей начинает терзать самого себя, перестает терпеть и сдерживаться, хочется ему счастья всякого, пусть случайного, мимолетного, лишь бы избавиться хоть на миг от постылой скуки.
Так она думала о том о сем целый день, машинально следя за овцами, уходя следом за ними все дальше и дальше в глубь песков, солнце перевалило за полдень, постепенно стало клониться к закату, овцы уже насытились, можно и возвращаться, а она все брела и брела, погруженная в свои думы, в свою тоску. «Не пора ли уже повернуть отару домой?» Едва она так подумала, как овцы, будто учуяв ее намерение, стали быстро сбиваться в кучу с отчаянным блеянием. Что случилось? Зейнел поднялась в седло и с криком: «Шайт! Шайт!» — направила коня на пригорок, посмотреть оттуда, что перепугало овец, конь вынес ее на сопку, сначала она ничего подозрительного не увидела, но вот конь шарахнулся в сторо-ну, да так круто, что Зейнел не удержалась в седле, упала на песок, тут же быстро приподнялась и увидела, как поодаль, по крутому склону бархана, поднимался какой-то зверь, изгибаясь, вытягивая рыжий хребет с белым хвостом. Зейнел вскочила на ноги, дрожащими руками прижала к себе ружье и поблагодарила судьбу, что направила она зверя в сторону от овец — то ли крика он испугался, то ли конского запаха.
«Неужели я дошла, неразумная, до Тропы тигра?!» — запоздало всполошилась Зейнел. Немудрено заблудиться после вчерашнего урагана, от прежних примет на местности ничего не осталось. Она побежала к коню, тот стоял в нелепой позе, низко опустив голову к ноге, и топтался, кружа вокруг себя, будто слепой — оказалось, запутался в поводу, не то убежал бы с испугу, и пришлось бы Зейнел брести пешком до самого дома. Теперь ей уже не нужно было подгонять отару, овцы сами заспешили поскорее убраться подальше от страшного места, а она ехала как ошалелая — ночью ураган мешал спать, днем думы ее терзали, а тут еще и зверь с белым хвостом, да еще и с гривой на хребте, загадочный зверь, невиданный... Она вяло вошла в дом, не приласкала детей, как обычно, ни слова не сказала свекрови, а ведь всегда расспрашивала, как они тут без нее прожили день, сумрачно посмотрела на Таубая, он сидел на кошме усталый и прикладывал то к одной, то к другой ладони нагретую деревянную ложку, чтобы не вздулись волдыри. И за чаем она все еще была не в себе, ощущала ломоту во всем теле, будто ее продул зимний ветер, чем-то следовало бы облегчить душу, и она сказала Таубаю:
— Устал? Может быть, выпьешь?
Он поднял на нее недоуменный взгляд, показывая на пиалу, дескать, я и так пью, без приглашения.
— Водки, — сказала Зейнел, непроизвольно облизнув сухие губы.
— Нет, не хочу, — сумрачно отозвался юноша. Убирая со стола, Зейнел чуть не выронила самовар, руки ее не слушались. «Да что такое со мной, в конце-то концов?!» — рассердилась она на себя, не в силах унять мелкую дрожь во всем теле, голова болела, в висках стучало. «Надо укутаться как следует и лечь в постель, видно, у меня жар». Она легла под теплое одеяло, накрылась с головой, надеясь пропотеть. Скоро ей стало невмоготу дышать, она высунула голову из-под одеяла и за мутным, давно не мытым окном увидела лунный свет.
Дети спали, свекровь тоже посапывала, наверняка и Таубай спал в боковушке за дверью, намотался за день с лопатой, а Зейнел все ворочалась и ворочалась, сон не шел и жар не отпускал ее, но жар странный, она уже поняла — не от болезни ее лихорадит, а… не поймешь, отчего, неведомая, неутолимая жажда сжигала ее. «Апыр-ау, уж не схожу ли я с ума?» Она тихонько поднялась, открыла дверцу шкафа с посудой, достала оттуда начатую бутылку водки и, стараясь не звякнуть, наполнила рюмку до краев, закрыла глаза и жадно выпила, — теперь-то уж ей полегчает, и она забудется в желанном сне. Легла в постель, подождала, но стало хуже, чем было, все ее тело огнем жгло, сердце стучало бешено. Она села в постели, провела рукой по горячему упругому животу, подогнула колени, туго сжалась, собралась вся и, чтобы привести себя в чувство, опомниться, стала кусать свои голые крутые колени, потом, пылая вся от неуемного желания, она тихонько встала и на носках, как кошка, пошла к боковой комнате. Затаив дыхание, боясь, как бы не скрипнула дверь, она осторожно отворила ее, неслышной тенью скользнула в комнату и так же тихо, но плотно прикрыла дверь. Таубай спал на спине, раскинув натруженные за день руки, и ровно, глубоко дышал. Она присела на пол возле его постели, теперь ей стало полегче, жар словно волной схлынул, она откинула с лица растрепанные волосы, посидела-посидела, наклонилась и коснулась щекой лица Таубая. Юноша проснулся, оторопело вскинулся, — что за видение посреди ночи? Не сразу он различил полуголую женщину с распущенными волосами, чуть не вскрикнул, Зейнел прикрыла ему рот ладонью, он покрутил головой, высвободился и, уже разглядев, успокоившись, спросил строгим шепотом:
— Что вам нужно, хозяюшка?
Она ничего не ответила, лишь бы посидеть вот так, рядом с ним, ощущая тепло его молодого тела, и снова слабо опустила голову к его лицу, чувствуя жесткий пушок на щеках юноши.
— Не надо, — чуть громче сказал Таубай и отстранился. — Зачем вы себя позорите?
Она не слышала его слов, губы ее были раскрыты, дыхание их смешалось.
— Уходите! — сумрачно, твердо проговорил юноша и отодвинулся на край постели.
Только теперь она пришла в себя, ее будто обдало холодной водой от тона его и от движения в сторону.
— А как понять твою песню? — сказала она дрогнувшим голосом. — Как понять твой... поцелуй вчера?
— Я хотел успокоить вас, немного отвлечь,— рассудительно объяснил Таубай. — Я видел, как вы тоскуете без мужа, волнуетесь, вам нужно внимание, вот я и решил немного пошутить. А так... я не могу. Если ваш муж тигр, то я лишь волк, а волк никогда не наступит на его след. У тигра своя тропа.
Зейнел так и сжалась вся от его холодных слов, он ее похоронил заживо, сюда она пришла по земле, а уйдет под землей; она попятилась от постели и вышла из комнаты.
Теперь уже жар прошел, зябкий озноб покрыл ее тело, она натянула одеяло до самого лица. «У тигра своя тропа», — прошептала она, кляня себя, свою слабость, свое легкомыслие. — Несчастная, тьфу на тебя, что о себе возомнила? Верно говорят: хваленый пес свою мочу считает бальзамом. Но и он тоже хорош, начал ее поучать как старший, а ведь щенок еще, да к тому же хвастун, — волк, видите ли, хищник, хозяин степи! Подожди, вот наступит утро, растрясу я твое зазнайство, для начала свекрови скажу: всю ночь ко мне приставал, в постель ко мне лез, еле-еле спровадила; отчитаю тебя как следует и выпровожу за семь гор, и пусть Сулеймен и Муса не присылают сюда больше таких сопливых». Она долго не могла успокоиться и костерила Таубая на чем свет стоит: «Ах, негодяй, ах, подлец, ведь сам ко мне приставал, заигрывал, а потом опозорил меня, из живой сделал мертвую, ну погоди же, мерзавец, я с тобой рассчитаюсь, прицеплю к твоей заднице колокольчик, и звону будет на весь совхоз: приставала, юбочник, хулиган, молодой, да ранний! Наклею тебе ярлыков, за всю жизнь не отлепишь. Чтоб тебе не проснуться, щенок, неспособный наступить на след тигра...»
Прошедшую ночь Аяпберды спал спокойно, ничего такого особенного ему не снилось. Днем он много бродил по лесу, дышал свежим воздухом, вечером вместе со всеми посмотрел кино, перед сном зашел в столовую, выпил кефира, потом долго еще прохаживался из угла в угол по своей палате, не зная, чем занять себя перед сном. Ни стойбище у него свободной минуты не было, а здесь и не сообразишь, куда время девать, желанный прежде сон становится теперь вроде бы и ненужным. Аяпберды прошел к столу, посидел-посидел, побарабанил пальцами по полировке, увидел смутное свое отражение, потом от скуки выдвинул один ящик стола — там пусто, выдвинул другой — газета лежит, взял ее и от нечего делать стал читать, хотя и не нашел ничего особенно интересного, поскольку не касалось ни его совхоза, ни его края, вот разве что про землетрясение в Ташкенте, но он про то и раньше слышал. Все-таки прочитал, отложил газету, еще посидел, но что-то заставило его вернуться к одной заметке в углу, он снова перечитал ее, теперь уже внимательно, и почувствовал, как сильно забилось сердце,— нет, не от бедствия в столице узбеков, он его уже пережил, а от кое-чего другого. В заметке говорилось, что во время землетрясения пострадал зоопарк, некоторые звери вышли из своих клеток, их удалось служителям возвратить на место, а вот бразильский волк редкой породы, привезенный из Южной Америки, исчез бесследно, искали его в городе, и по районам, возле кишлаков и аулов, но так и не нашли, вероятнее всего, волк ушел в Кызылкумы. С обычным серым волком его не спутаешь, — гривастый, масть желтая, а хвост белый. «Безобразие, — подумал Аяпберды, — почему же сразу его не смогли найти? Если какой-нибудь негодяй совершит преступление, его немед-ленно начинают искать повсюду и находят, хотя он ничем не отличается внешне от других людей, две руки у него, две ноги, одна голова, ищут и не успокоятся, пока не найдут. Если пропадет комнатная собачка величиной с варежку, оповещают о том всех родных и близких, даже в газете объявление дают, беспокоятся о крохотном существе. А тут пропал большущий зверь, платили за него золотом — и никто его не видел, никто его не ищет, как будто он в небеса улетел, не воробей же он!» Так, размышляя, Аяпберды начал разбирать постель, снял покрывало, снял одеяло и — сел на постель, застыл, ему стало тяжело дышать, целебный воздух санатория сразу утратил все свои свойства, он снова схватил газету, глянул на дату — полгода прошло. Босой, с взъерошенными волосами Аяпберды выскочил на балкон. «Апыр-ау, какой же я растяпа, какой безголовый! Да ведь тот зверь, который пробежал мимо отары возле Тропы тигра, наверное, и есть бразильский волк! Именно волк, а не тигр, шкура не полосатая, к тому же последнего тигра в их краю пристрелил его дед Ширкинбай, давным-давно это было; не тигр, но и не простой серый волк, масть у него под цвет песков, а хвост и в самом деле светлый». Сомнений не оставалось — Аяпберды видел зверя, бежавшего из зоопарка. А какой зверь откажется полакомиться овцой, да и только ли одной? В неволе он стал жестоким, в клетку его запер человек, и теперь волк будет мстить своим двуногим обидчикам. Завтра же Аяпберды распрощается с райским местом и укатит домой, ни для не останется, иначе сердце его лопнет, не зря ему снились тяжелые сны, сама природа посылает ему картины грозящей беды — бежать надо, бежать, верно говорили предки: «Пока ты в своем уме, вернись к родному очагу»...
С утра Кызылкумы дымились от зноя, желтое марево стояло сразу же за порогом дома. Таубай поднялся рано, выгнал овец из кошары, намереваясь в одиночку погнать отару на пастбище. Неспешным шагом к нему подошла Зейнел, внешне спокойная, хотя и видно, веки припухли, под глазами круги. Таубай опустил голову, начал чертить носком сапога по песку, наконец спросил ровным голосом:
— Кому из нас пасти сегодня овец, Зейнел?
Она только и ждала этого, набросилась беркутом:
— Только не тебе! Отправляйся к себе домой, к маменьке!
— Почему же домой?
— Ты всего лишь мальчишка, твои детские шалости без присмотра родителей не доведут до добра, так что давай уходи от греха подальше.
— Вам здесь трудно будет одной, — упрямо сказал Таубай. — Я помогу вам, пока не приедет хозяин очага.
— Незачем! Скажешь начальству, чтобы прислали сюда другого помощника, а сам уходи, если не хочешь услышать от меня горькую правду.
В голосе ее звучала твердость, ясно было, решения своего она не изменит. Таубай постоял-постоял, опустив плечи, пробормотал: «А-а, пусть будет по-вашему», — отбросил палку в сторону и пошел в дом собираться. Он уже натерпелся здесь, а тут еще и гонит взашей молодуха с дурным характером, не угодишь ей ничем. «Зайду к директору, скажу, что прогнала жена чабана ни за что, пусть ругают, пусть что хотят, то и делают, а совесть моя чиста, голову вешать незачем, на пару рук всегда найдется одна лопата!»
А Зейнел хоть и гнала помощника, все-таки надеялась, что он не послушается, останется, извинится, — ведь ночью он оскорбил ее женское самолюбие, неужто не понимает, должна же появиться в нем хоть капля сострадания? — зря надеялась, гонец уперся, как козел в степу рогами, ишь, гордый какой, вышел из дома, закинул свой тощий корджун за спину и пошел, не оглядываясь, по сыпучим пескам. Она смотрела ему вслед, едва сдерживая крик: «Вернись!», ей заплакать хотелось, зарыдать, запричитать па всю пустыню, но она крепилась, молча и неподвижно стояла, кусая тонкие губы и следя, как юноша все дальше уходил от стойбища, теперь кричи не кричи, рыдай, ори во весь голос, ни единого звука не долетит до его ушей, все поглотят пески. Вот он поднялся на самый дальний холмик, тонкий, стройный, не остановился, не оглянулся, еще мгновение — и совсем исчез. Лютая тоска охватила Зейнел, одна она, одна-одинешенька в неприютной, невыносимо знойной, страшной пустыне. Сжав на груди руки и закрыв глаза, она представила свою одинокую фигурку посреди бескрайнего простора песков. С кем ей заговорить, кому излить свою печаль? Разве что вон тому столетнему жилистому саксаулу, но он и сам тянет свои иссохшие руки к небу, взывая о помощи, ночной ураган снес песок, сорвал почву, оголил его темные корни, и кряжистый долгожитель накренился, вот-вот повалится, из последних сил хватаясь длинными цепкими корнями за земную твердь. На сухом сучке его висит черепаший панцирь, иссушенный солнцем, белесый, огромный, его принесла буря, и теперь черепашьи останки кажутся плодом дряхлого саксаула, только шевельнется ветер, как панцирь с дырами начинает стонать и свистеть, напевая заунывную похоронную песню па разные голоса.
О чем поет ветер в песках свою долгую, нескончаемую песню? О духах предков, о караванах людей и скота, прошедших по песчаным тропам, о жизнях, канувших в небытие, поет и поет, будто призывая помнить, что во всем есть свой смысл,— и в каждой песчинке, и в каждой веточке высохшего саксаула, во всем, во всем...
Зейнел пригнала отару домой раньше обычного, весь день ей было тревожно и одиноко, даже собака куда-то пропала — то ли за хорьком погналась и заблудилась, хотя и смешно подумать, что собака может заблудиться, побегает-побегает да прибежит к становищу. Она напоила овец, загнала их в кошару, с унынием осмотрела гору песка за кошарой и махнула рукой — лучше за нее не браться, пусть уж приедет Аяпберды и сам просит начальство принять меры, а для нее сейчас главное сохранить поголовье, не отдать овец в пасть волкам. Пора бы уже вернуться Абуталипу, чего он там сидит на центральной усадьбе, одна она совсем пропадет здесь.
Овцы быстро угомонились, тишина после бури стояла особенная, небывалая, солнце уже село, но лик пустыни еще пламенел, словно жидкой охрой залило все пространство до самого места заката, скоро краски потухнут, сгустятся сумерки, и одинокое их стойбище станет похоже на утлую ладью в бескрайнем море.
Куда все-таки подевался пес? С ним все же не так страшно, время от времени пес гулким лаем оглашал окрестности, заявлял о своих правах, отпугивал всякую нечисть от стойбища, а теперь его нет. И почему так долго не возвращается Абуталип?
Она колола щепки, наливала воду в самовар, разжигала его, а озабоченность и тревога не покидали ее, то и дело она выходила за порог и настороженно вслушивалась в вечерние звуки. По ясному небу плыла луна, заливая тихим светом неровную гладь песков.
После ужина свекровь и дети скоро улеглись спать, а Зейнел села за шитье, она давно собиралась прострочить наволочки, придвинула лампу к машине, но шитье не шло, то нитка рвалась, то ткань морщилась под иголкой; Зейнел поправила и раз, и другой, и третий, заметила, как дрожат ее руки, да и сердце колотится непонятно отчего, потом ей показалось, кто-то ходит вокруг дома, песок заглушает шаги, но она слышит; Зейнел не выдержала, пошла к двери с лампой в руке, вышла из дома и остановилась на крылечке. Свет луны с ясного неба был настолько сильным, что, казалось, видна была каждая песчинка. Она поставила лампу на землю и прошлась вокруг дома, жадно вдыхая ночной воздух, успокоилась и вернулась в комнату, разобрала постель и легла, закрыла глаза, надеясь, что усталость сморит ее и она быстро заснет, но пробежала беспокойная мысль, одолело смутное недовольство собой, захотелось найти причину, разобраться, ответить хотя бы на простой вопрос: любит ли она своего мужа? Раньше она ни о чем таком никогда не думала, да и не верила в так называемую любовь, слово это уместно было в стихах поэтов да в шутках сверстников, именно в шутках, а вот когда начинается серьезная жизнь, про любовь и не вспомнишь, семейным людям вместо любви достаются одни заботы: лишь бы не болели дети, лишь бы уцелели овцы, все ладилось по хозяйству, лишь бы терпеливо снести посланное тебе судьбой. В семейной жизни, думала Зейнел, более применимы такие понятия, как долг, уважение, а любовь или там пылкая страсть, все это не для них с Аяпом, хотя было время, Зейнел ждала, не могла дождаться, когда муж наконец-то вернется домой, выбегала его встречать, таяла в ожидании ночи, но это сначала, а потом жестокий край взял власть в свои руки, заботы стали грызть день ото дня все больше, особенно мужа, он стал не таким внимательным, не таким заботливым, часто злился, выпив рюмку с гостями, быстро пьянел и сразу, едва голова его касалась подушки, начинал храпеть. А ей было обидно, она не спала, глотала слезы, потом притерпелась, привыкла, хотя обиду не изжила, не зря говорят: гусь радуется сочной траве, а душа — теплому слову. Она понимала, характер мужа изменился не сам по себе, нет, он изменился от забот-хлопот, которые не по силам одному человеку, жена должна помогать ему, вот и выходит, что нет никакой любви, а есть долг, обя-занность разделить все тяготы с мужем, так уж ей на роду написано. И она свой долг исполняла, помогала ему во всем, только вот одолели ее нечистые помыслы, пошла она по наущению дьявола к чужому парню, своими руками коснулась его постели, — какой позор, стыд и срам! До чего же она несчастная, что за наваждение на нее нашло, какими глазами встретит она мужа, а ведь он скучает по ней, тоскует, она это знает. Теперь она будет умнее, никогда не осрамит чести ни своей, ни мужниной, он ведь у нее не простой человек, Аяп, не шаляй-валяй, он, можно сказать, герой, ничего и никого не боится, сколько бы ему ни грозили пески, ураганы, свирепое солнце, он не сворачивает с дороги, словно саксаул держится корнями за глубину и не гнется, не пятится, на таких вечных тружениках, как ее муж, и держится суровый край; неспроста начальство, и не только в совхозе, но и в районе, хвалит его, превозносит: «Наш передовик, вожак нашего каравана», дают премии, путевку выделили в далекую столицу. Легкие на язык прозвали его Сыном песков, а ведь таким прозвищем можно гордиться, не каждый способен жить и работать в таких условиях, да еще создавать семейный уют, вот и прозвали его так из черной зависти. Но какие слова сказал о нем Таубай: «У тигра своя тропа»! Он сравнил Аяпа с могучим тигром, и хотя сам еще юнец безрассудный, но уже осознал, за великий грех посчитал наступить на след Аяпберды, сойтись с его женой. Никогда не забудет она своего позора и впредь ничего подобного себе не позволит!
Сын песков... верно сказано, справедливо. Он совсем не думает о жизни в каком-то другом месте, ему и здесь хорошо, хотя радио молчит, батарейки старые, газеты привозят за прошлый месяц, если на центральной усадьбе люди наслаждаются телевизором, то здесь пока его нет, однако муж ее к новостям жаден, как-то умудряется все узнавать, съездит на полдня к начальству и потом полмесяца рассказывает жене, сидя за чаем, про то, про это. «Оу, Зейнел, оказывается, в космос полетел наш земляк Джанибеков... Америка так и старается сделать по бомбе на каждого человека... Сынок Абдигаппара купил себе «Москвич»...» И так до следующей поездки пересказывает ей то одну, то другую новость, вспоминая, добавляя подробности, придумывая что-нибудь от себя.
Выходит, зря она на него обижалась, говорила ему иногда горькие слова упрека, чего он совсем-совсем не заслуживал, ее хороший, неповторимый, незаменимый никем Аяп, Сын песков. Жалость, досада на себя жгли сердце Зейнел, не могла она задремать никак, ворочалась и ворочалась, наконец села в постели, положив голову па колени. Свет луны падал в окно, было тихо-тихо, все спали, пора бы и ей уснуть, но тут подал голос младший ее сынишка, видно, захотел помочиться. Зейнел встала, подняла обоих малышей и вышла с ними за порог. Под ясной луной пустыня лежала, словно умытая молоком. Ребятишки постояли, дрожа от ночной свежести, справили свою нужду и побежали в дом, в теплую постель, а Зейнел, завороженная ночным безмолвием, задернулась еще немного, томительно потягиваясь, подрагивая бедрами, сонно жмурясь, и тут совсем близко, па расстоянии одного прыжка она увидела легкую тень, похожую на упавший кусок луны,— припав к земле, лежал зверь, почти неотличимый от песка под луной, с белым, как разлитые сливки, хвостом.
Выросший взаперти хищник, оказавшись на воле, убегал все дальше и дальше от железной клетки, которая не стала ему родным логовом, не манила его обратно, убегал он все дальше и дальше от людей, которые кормили его каждый день, но так и не приручили. Он резвился, радуясь воле, мчался с ветром наперегонки, питался скудной живностью пустыни, ящерицами, черепахами, варанами, потом его выследили охотники с грохочущими ружьями и вислоухими собаками, он понесся от них, растянув ремнями длинные ноги, но охотники его настигали, и он чуял: идут они по пятам совсем не для того, чтобы покормить его из своих рук, как это делали прежде, и если бы не ураган, не спасти бы ему своей шкуры — ветер, песок и мрак помешали людям расправиться со зверем, а он, оставшись в живых, набрел на след отары, выманил собаку подальше от человека, в два прыжка настиг ее и вцепился в горло, и теперь уже не уходил далеко от человеческого жилья, от овец.
Женщина стояла неподвижно, как изваяние, а зверь легким шагом метнулся мимо нее за ребятишками, когти его слабо клацнули по доскам крыльца, и через открытую дверь он проник внутрь дома. Зейнел стояла, оцепенев от видения, страшная тень на песке исчезла, и теперь она, зорко озираясь и не видя ничего подозрительного, быстрым шагом вернулась в дом, переступила порог, набросила крючок, обернулась и в свете луны увидела перед собой горящие глаза зверя, вздыбленную гриву, белый оскал, услышала глухое рокотанье; она закричала что было сил и повалилась на пол, теряя сознание.
Глубокой ночью Аяпберды сошел с поезда на полустанке, не стал дожидаться утра в райцентре, поднял на плечи тяжелый чемодан, остановил на дороге попутную водовозку и утром, к началу рабочего дня, оказался в родном совхозе. План у него был простой: сначала он разузнает, как там житье-бытье у него на стойбище, и, если все благополучно, он останется еще на денек в совхозе, зайдет к Мусе в гости, как-никак вместе когда-то в школу ходили. Муса потом и отвезет его в пески. По дороге в контору он поздоровался с одним, с другим, с третьим, все, конечно, знали, что Аяпберды вернулся из далекой Москвы, расспрашивали об увиденном, ему же не терпелось самому узнать, живы ли, целы ли его Зейнел с ребятишками, мать престарелая, как там его отара, но люди не спешили его успокоить, отвечали уклончиво, никто толком ничего не знал, все ссылались на «говорят»: «говорят, твоя жена стала несносной, сдуру выгнала молодого помощника, а он парень смирный, рта не раскроет, хоть пройди по нему верблюд, она же его прогнала, что-то тут нечисто, парень-то хорош собой, крепкий джигит, за-гадка здесь, тайна, и еще говорят...» Аяпберды вспылил, взбеленился:
— Вы можете сказать толком, жива ли хоть моя семья, целы ли овцы?!
А в ответ ему опять: «говорят, вроде бы овцы целы, да вот только привес резко снизился и песок кошару почти накрыл».
— Оу, братцы, а что удивительного, Зейнел не в силах одна за всеми уследить, чего вы меня зря пугаете?
А ему снова: «говорят, приезжал туда почтальон, так она ему чашки чая не подала, будто не заметила его совсем, характер у нашей снохи, видать, совсем без тебя испортился».
Муса встретил его приветливо и, предвидя расспросы, не дал Аяпберды рта раскрыть:
— Семья твоя жива-здорова, овцы целы, а насчет слухов ничего тебе не скажу, мало ли что болтают.
Значит, и начальство уже наслышано, это вконец расстроило Аяпберды.
— Хотел бы я знать, кому взбрело в башку порочить мою жену, приписывать ей всякие грешки?
Муса только возмутился в ответ:
— Ну чего ты пристал ко мне? Не обвиняй меня, мало ли что я слышал, лучше раскрывай свой пузатый чемодан и доставай, что привез.
Аяпберды плюнул в досаде, достал из чемодана две бутылки «Пшеничной» и поставил их на стол перед зоотехником. То краснея, то бледнея, кое-как выпил свой стакан и поперхнулся, закашлялся.
— Не в то горло пошло, — рассмеялся Муса, стал закусывать, потом закурил и все посмеивался мелким смешком, подозрительное его веселье рассердило Аяпберды, он налил себе еще стакан, выпил, не переводя дыхания, и, чувствуя, что пьянеет, заторопился, пока язык ему подчиняется, высказать свою досаду:
— Ты зачем погнал меня в санаторий, скажи честно, Муса? Жил бы я сейчас в своем доме, лежал бы возле своей жены, наевшись молодой баранины, а не бродил бы по селу, собирая сплетни. Но ты погнал меня на край света, большим начальником себя возомнил, да?
— В брюхо тебя! — обозлился на него Муса. — Вместо спасибо ты еще ругаешь меня, будто ты мне ровня, тоже мне, друг нашелся!
Бледный Аяпберды поднялся и пошел к выходу.
— Да сядь, посиди! — попытался удержать его Муса. — Сегодня домой не доберешься, переночуй здесь, а завтра я отвезу тебя на «уазике», слышишь, дуралей, куда ты бежишь?!
Но Аяпберды в ответ только хлопнул дверью, отправился к знакомому пастуху, выпросил, у него клячу и поскакал на ней в свои пески, словно гнался за ним но пятам джинн, даже про чемодан свой забыл с подарками. Вскоре он перевел коня на рысь, дивясь тому, как сильно изменилась пустыня. Езжено им-переезжено по пути в родное стойбище, но сейчас показалось, Аяпберды заблудился, куда-то не туда поехал. Заходящее солнце багрово освещало барханы, вдали маячили вихревые столбики, то ли ветер, то ли скотина поднимали пыль. Апыр-ау, что же случилось тут без него? Не узнать теперь ни Буйрата, ни Ойпата, песчаные холмы будто вырваны с корнем, не осталось прежних тропинок, голая земля потрескалась и разрыхлела, будто переваренная печенка. Наступила темнота, труднее стало держать направление, но вскоре из-за левого плеча показалась луна, верный спутник в ночи, Аяпберды чуть ослабил повод, конь пошел спокойнее, по вот, всхрапнув, дернулся в сторону, и Аяпберды чуть не вылетел из седла, так и не разглядев в темноте, что могло напугать коня. Привстав на стременах, Аяпберды громко, зычно откашлялся, намереваясь прогнать нечисть, он всегда помнил наказы отца, его предостережения: в песках полным-полно всякой твари, о которой люди не знают. Кто слышал, например, про рыбу песков? — а они с отцом однажды ее встретили. Темно-бурая, как кошма, и тонкая, как копье, не похожая ни на змею, ни на ящерицу, длиной с кнутовище тварь дремала на солнцепеке. «Рыба песков, — сказал отец, — надо ее прибить и забрать с собой». Едва они приблизились на удар плетью, как спокойно лежавшая тварь взметнулась, будто стрела из лука, и отлетела метров на пятнадцать и тут же извилистыми движениями стала быстро зарываться в песок, они даже не успели ее настичь на верблюдах. Отец сказал, она вынырнет с другой стороны бархана, они подождали, и действительно, тварь появилась вскоре из песка, но, почуяв опасность, снова молнией отскочила метров на двадцать и снова, бешено извиваясь, стала буравить песок и быстро исчезла. Часа три они гонялись за рыбой песков, пока не вывели ее на такыр, здесь уже не зароешься, поверхность такыра твердая, как бетон. Они прибили плетьми, и отец положил ее в корджун со словами: «Высушим в тени, сотрем в порошок, добавим размолотые зернышки кучелябы, и получится незаменимое лекарство при болезни суставов...»
Свет луны стал бледнеть, небо на востоке окрасилось алым сиянием. Когда Аяпберды добрался наконец до стойбища, уже совсем рассвело. Он сошел с коня, потоптался немного, разминая затекшие ноги, огляделся недоуменно,— никто его не вышел встречать, из трубы не вьется дымок, кошара закрыта, овцы не выгнаны. Сердце его забилось в тревоге, он быстро пошел к дому, дернул дверную ручку — заперто. Аяпберды подошел к окну. Солнце как раз выкатилось из-за барханов и заглянуло в окно вместе с человеком. Колени Аяпберды стукнулись одно о другое, он едва-едва устоял, держась за стенку,— два горящих волчьих глаза смотрели на него сквозь стекло, грива дыбом, большие уши торчком. Не чувствуя ног, Аяпберды вернулся к лошади, отстегнул двустволку, подошел к окну и дальше уже плохо помнил себя, словно в глухой дремоте действовал, приставил стволы к стеклу напротив горящих глаз, нажал на холодные спусковые крючки, прогрохотали два выстрела, но и они не разбудили его, он медленно побрел к двери, ударами приклада выбил запор и вошел в дом.
Зейиел лежала на спине головой к двери и неподвижно смотрела в одну точку на потолке. В большой комнате на постели сидела его старая мать и трясущимися руками прижимала к себе внучат...
К полудню приехали Сулеймен, Муса, с ними Абуталип, все трое на лошадях. Больше всех испугался Абуталип, запричитал: «Оу, мои родные, да как же это случилось?!» — хватался за голову, суетился, пестрый корджун нелепо болтался за его спиной.
На удивление всех, зверь не тронул людей. Оказавшись взаперти, он, видимо, снова почувствовал себя в клетке зоопарка и начал с бешеной яростью вырываться на волю, в щепки изгрыз дверной косяк. Аяпберды, приложив ухо к груди Зейнел, услышал слабое биение сердца, осторожно поднял жену на руки и вынес ее на свежий воздух. От потрясения она не могла говорить, не могла двигаться, еле дышала, ей брызгали на лицо холодную воду, принесли из аптечки нашатырный спирт, растерли виски, совали ватку под нос, но Зейнел все равно не могла подняться. Муса тем временем крутился возле мертвого зверя, измерял вершками его длину и ломким голосом приговаривал:
— Апыр-ау, какая-то особенная порода, видать, благородный зверь, не тронул человека, надо же!
Сулеймен, к счастью, привез батарейки, включил рацию и соединился с центральной усадьбой. На проводе оказался заведующий фермой, и то ли спросонья, то ли спьяна долго не мог понять, что случилось.
— Слушай меня внимательно! — кричал в микрофон директор. — Немедленно отправь сюда «скорую помощь», слышишь? Машину сюда!
— Зачем машину? Застрянет в песках машина, не пройдет. Много овец пропало?
— Пускай срочно едет до начала Буйрата, а мы выедем навстречу на лошадях.
— Матки-то хотя бы целы?
— Да не овцы, не овцы, люди чуть не пропали!
— Неужели ни одной овцематки не осталось?
— Да проткни шилом свои глухие уши! — вопил не своим голосом Сулеймен. — Человек умирает, человек, об овцах я с тобой не говорю.
А оттуда слышалось:
— Ну вот опять, как падеж, так «я с тобой поговорю», все валят на завфермой, а у меня в кармане больничный.
— Чтоб ты пропал со своим больничным! — орал директор, готовый укусить микрофон. — Передай кому-нибудь рацию, безмозглый! Немедленно вышлите «скорую помощь»!.. Машину с врачом!.. Пусть едут к началу Буйрата и ожидают нас там!... Ох-ах-ух!... — Сулеймен вытер платком взмокшее лицо, отключил рацию, выбрался из дома во двор и осевшим от крика голосом стал утешать Аяпберды, беря его за руку, поглаживая по плечу: — Жену твою мы сами довезем, положим в больницу, ты не волнуйся, дорогой Аяке, присматривай за семьей, за овцами, постарайся, дорогой, не падай духом.
— Тысяча проклятий, — устало отозвался Аяпберды и сплюнул в песок. — В голове у меня каша, я уже не человек, а дырявая подметка. Верно говорят: Сын песков, ничего человеческого во мне уже не осталось.
— Все правильно, мой дружок, — перешел на доверительный шепот Сулеймен. — Сын песков — могучий человек, несгибаемый, ты наш герой, дорогой Аяке, твою жену мы обязательно вылечим, не переживай, дадим тебе мотоцикл по итогам года, твердо обещаю, только возьми себя в руки.
Аяпберды поднялся с корточек, пошатываясь, вошел в дом и выволок за хвост тяжелую тушу зверя.
Зейнел пришла в себя, ей помогли встать на ноги, она стояла, опершись рукой о стену дома, но глаза ее были мутными, она держалась за голову рукой, потрясение оказалось таким глубоким, что она не могла ничего толком ответить на расспросы мужа. Ее усадили на лошадь Абуталипа, Сулеймен и Муса на своих лошадях встали по бокам и вот так, придерживая больную женщину с двух сторон, трое всадников выехали со стойбища туда, где их должен ждать врач на «скорой помощи». Мерным шагом, стремя в стремя, они двинулись в сторону заката по горбатым пескам и вскоре скрылись.
Осиротел Аяпберды без жены, так торопился к ней, а вот остался один. Старая мать поодаль совершала намаз, прикрыв подолом кумган, сосуд для омовения. Она совсем одряхлела за эти дни, сердце Аяпберды сжалось от боли за нее.
А за кошарой уже махал лопатой Абуталип, свирепо сражаясь с наседающим песком. Вдали поднимался вихрь, буравя небо шилоподобной мордой, танцуя и кружась на месте.
Надо жить дальше, не сдаваясь, не отступая, жарясь на солнце подобно черепахе на раскаленной сковороде, жить здесь и работать, чтобы пески не заносили травы, чтобы служили людям и суровый Ойпат, и жестокий Буйрат, никто за него здесь не будет жить, никого сюда не зама-нишь никакими зарплатами, никакими премиями, никого не удержишь здесь посреди зноя, пекла, жгучего ветра, надоедливой мошкары, посреди песков, ползущих на тебя змей. Он с острой неприязнью вспомнил санаторий, некоторых бездельников, требующих за столом привередливо то того, то другого, не знающих, какими трудами достаются мясо и хлеб, молоко, фрукты и овощи. Там он видел стариков лет восьмидесяти, с утра до вечера лупили по шарам в бильярдной, как кувалдой в кузне, уплетали с аппетитом четыре блюда и на прогулках вышагивали, по-гвардейски выпятив грудь и чеканя шаг. Кочуют они круглый год по санаториям и домам отдыха, мелочно соблюдая режим, диету, предписания — трусцой от склероза, бегом от инфаркта. Он сравнивал их со стариками аульскими, которые и слыхом не слыхивали про диету, про режим, с утра до ночи дремлют возле теплого очага да перебирают четки, думая о том свете. О мои благословенные предки, неукротимые деды и прадеды, сколько раз вы проливали кровь за этот скудный край, за эти пески, за эти такыры, испещренные трещинами от зноя, сколько раз стеной вставали вы против врага, положа свои жизни на кончик копья! Разве может Аяпберды покинуть свою суровую родину, разве может променять ее на леса и до-лины со свежим бодрящим воздухом?! Не хочет он попусту произносить высокие слова «подвиг», «мужество», «самоотверженность», хотя и понимает, что истинный их смысл — в его работе, в его жизни здесь...
Зейнел еле держалась в седле, голова ее клонилась все ниже, всадники по бокам с трудом поддерживали ее. Пережитый ужас не покидал Зейнел, мерещилась ей пасть волка и горящие глаза зверя в темноте дома, сердце ее замирало, не хватало воздуха, и она широко раскрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Тело ее тяжелело все больше, она легла на гриву коня, и тогда Муса посадил ее впереди себя. Зейнел таяла на глазах, словно свеча, казалось, неосторожно дохни на нее — и последнее крохотное пламя жизни погаснет.
Вокруг лежали безмолвные желтые пески, несло по ним серые шары перекати-поля, вдали плыл мираж, словно знак неисполнимых желаний, а на руках Мусы изнемогала женщина, одному Богу ведомо, успеют ли они довезти ее до врача. Тревога всколыхнула в душе Мусы давно наболевшее, и он заговорил с директором, едва сдерживая себя, чтобы не перейти на крик:
— Если бедняжка отойдет в мир иной, вы меня первого возьмете за воротник и поставите перед судьей. Но сколько раз я говорил вам: не городите стойбища посреди песков, хоть и дешево кажется, да дорого обойдется. Но вы уперлись на своем, у вас куда голова склонится, туда вы и падаете. Построили на зыбучем песке семь кошар, растратили кучу денег...
— Хватит болтать! — вспылил Сулеймен. — Я уже весь дымлюсь от забот, как будто план — только мое личное дело. Я бы тоже хотел, как и ты, поставить кошары возле Сырдарьи, но там и на ладонь не оставлено места, все отдано рисоводам, а они тоже должны выполнять свой план. Рудники Каратау потеснили наши джайляу, но можем ли мы с тобой запретить промышленность? С такой политикой, дорогой Муса, мы и в космос не полетим, так что набирайся терпения, будем и дальше осваивать Кызылкумы.
— Да сколько можно терпеть! — плачущим голосом возразил зоотехник. — Пески заваливают кошары, молодые чабаны бегут, в домах уже начинают хозяйничать дикие звери!
— Ух-ах-ох! — От негодования Сулеймен закашлялся и кашлял долго, лоб его и виски вспотели, потом усталым жестом он вытер лицо, губы его скривились в гримасе, как от долгой, неизжитой боли. Видел однажды Муса такое лицо у бродяги, который долго блуждал в песках, не ел, не пил, а когда люди спасли его, привели в аул и стали поить-кормить, он только отворачивался, и на лице его была вот такая же отчужденная не то гримаса, не то улыбка. Наконец директор заговорил хрипло, вполголоса:
— Когда я брал тебя главным специалистом, я думал, из тебя будет толк, ты молодой, и сил у тебя много, поможешь мне вылезть из тисков, в которых мы оказались. Я видел в тебе друга, а теперь вижу, правду говорят: когда недруг хватает за воротник, плохой друг хватает за полу. Ни одного путного слова я от тебя не услышал, не имеешь ты своего мнения, так и норовишь упрятаться в кусты при решении важных вопросов, отступаешь перед трудностями прежде времени и даже не пытаешься искать какие-то пути для развития нашего хозяйства.
— В этом адовом пекле, на безводье, бескормице какие могут быть пути развития, ага? Тут только один вопрос надо решать: жить или не жить? Верно мне говорила матушка еще в детстве: всему виной будет твой широкий лоб, на нем заранее написано семь бед.
— Жара, безводье, бескормица в песках — это само собой разумеется, главное для нас: как удержать кадры? Старые чабаны один за другим отошли от дела, доживают свой век на пенсии, а молодые хоть и берутся с охотой, но недолго держатся, стойкости у них нет. Да и понять их можно.— Сулеймен опять сморщился и махнул рукой.— Ты уже заметил, чабан в наших краях не такой, как в других местах, молчаливый, угрюмый, больше десяти слов за весь день не скажет, да и не с кем ему разговаривать, кругом барханы, саксаул да ветер. Ты вспомни, каким был Аяпберды два года назад? Разговорчивый, веселый, побалагурить любил, а теперь вот жена при смерти, а от него и слова не услышишь.
— Мы запустили культурные мероприятия, — отозвался Муса, несколько успокоенный раздумчивым тоном директора. — Не посылаем на стойбища кинопередвижку, не направляем к чабанам концертные бригады.
— Посылали, направляли, да что толку? — снова рассердился Сулеймен. — Артисты только жалуются: показываешь им комедию, они не смеются, показываешь им трагедию, они не плачут, будто ничего не видят, ничего не слышат.
— Надо нам получше благоустраивать стойбища, тогда и люди не разбегутся, — осторожно продолжал Муса, решив, пусть с опозданием, но проявить самостоятельность, отозваться на критику руководства. — Побольше надо бурить скважин, к примеру...
— Каждая скважина, к твоему сведению, стоит тринадцать тысяч рублей. Облводхоз может бурить только на глубину двести метров, а там не всегда найдешь воду, надо бурить глубже, а для этого просить геологическую партию и платить ей еще дороже. Но даже если и забьет фонтан, это еще половина дела, надо подрядчика найти, стройматериалы перебросить в глубь песков, ойбой-ой, сколько еще надо сделать. Эти пять-шесть кошар стоили мне полжизни, я совсем седой стал, желтухой заболел, а план каждый год растет, оу, не топчи мое сердце, Муса! — Сулеймен головой потряс и даже застонал, отчего лошадь его встревожено дернулась и прибавила шагу.
Муса молча вздохнул, верно говорят в народе: один от сытной еды икает, другой — от лютого голода, однако же отмалчиваться ему теперь нельзя, пусть не думает директор, что его главный специалист и впрямь бездельник.
— Я тоже не сижу сложа руки, ага, в прошлую неделю с ног сбился с этим уполномоченным из Алма-Аты, доказывал ему, убеждал с цифрами в руках, что именно нам нужно и в каком размере. И убедил все-таки, заста-вил его взять с собой все наши докладные, наши предложения и требования...
— Что ты наделал, твою мать!.. — взревел Сулеймен, словно буйвол. — Я готовил эти документы для бюро райкома, доказать, убедить, здесь меня все поймут, а ты отдал бумаги кому-то, он перевернет все факты и выставит нас бездельниками и попрошайками! В этих документах все мои многолетние сводки, все мои доказательства, обоснования!
— Но откуда я знал? — попытался оправдаться Муса.— Уполномоченный ведь тоже ответственный человек.
— Ну погоди, вот приедем в контору, соберу актив и вышибу из тебя душу, как Азраил из предателей, покажу тебе, где бог, где черт! — Сулеймен бешено рвал повод, губы лошади вспенились, она дергалась то вперед, то назад. — Ты живого хотел меня в могилу засунуть, но ты забыл — разруби змею на три части, она все равно одолеет ящерицу. У меня хватит ума не пропасть раньше тебя!
Они готовы были вцепиться друг другу в глотку, и, если бы не было с ними больной женщины, они наверняка пустили бы в ход плети. Сулеймен сорвал злость на лошади, хлестнул ее под брюхо и ушел вперед.
А Зейнел становилось все хуже, она тяжело валилась набок, Муса едва удерживал ее обеими руками, видел ее серое, как земля, лицо и ее чистые смородиновые глаза, в них отражалась жажда непережитого — не высказанные ею слова, несбывшиеся мечты и надежды, неувиденное счастье ее детей, неутоленная ее любовь. Он вглядывался в ее глаза, искал в них хоть крупицу надежды на выздоровление, но увидел только меркнущий свет. Зейнел опустила веки и едва слышно произнесла:
— Ой, дышать нечем... снимите с лошади. ..
Испуганный Муса пустил коня рысью, торопясь навстречу спасительной машине с врачом, уже зная, что не успеть — молодая женщина, подруга и спутница Сына песков, тюльпан Кызылкумов, угасала на его руках, губы ее обиженно опустились, будто вернулась она с пустыми руками с ярмарки жизни, дыхание ее стало частым-частым, по телу ее прошла дрожь, словно последним усилием она попыталась еще выскользнуть из объятий смерти. Муса склонился над ней, душу его обожгло горем, он ухватился за гриву коня и зарыдал громко, взахлеб...
Желтое море пустыни, мертвые волны без конца и края, они идут вдаль и сливаются с небом, неистово печет раскаленное белое солнце, ползет и ползет песок длинными змеями, скрипит высохший саксаул — и все это твоя родина, суровая, но и желанная, незаменимая, до боли любимая, со своими радостями и печалями, тревогами и надеждами, дорогами и стоянками, здесь начальная твоя судьба и конечная, кровными узами связана с ней душа, и нет на земле места дороже...
Пікірлер (0)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Журналистика-қоғам айнасы
- Қымбатшылық-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
- Ұшқыр ойдың жетегі Дубайдан бір-ақ шықты!
- «Құрметке лайық мамандықтың қадірі қайда жоғалды?»
- Бақыт деген немене ол, немене?
- Заман жақсылары – еріктілер
- TikTok-тағы жаңа «краш»: Шымкенттік «ұшатын Даулеттің» тарихы
- Ернар Амандық: жүректен шыққан әуеннің иесі
- ҰБТ: білім сапасының өлшемі және болашаққа бастар қадам
- 1000 теңге сынағы ;ақшаң сенің досың ба, жауың ба ?
- Қызылордадан — әлемдік ғылымға: әлемдегі жалғыз кванттық офтальмолог Мұхит Құлмағанбетов
- Нұрай Серікбай трагедиясы:қысқа өмір, үлкен қайғы, қыздардың қауіпсіздігі мәселесі қайта талқылануда.
- Онлайн оқу дәстүрлі білімді алмастыра ма?
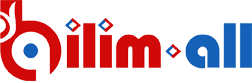


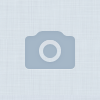
- Альберт Эйнштейн
- Альберт Эйнштейн
- Финли Питер Данн
- Бернард Шоу
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі