Человек песков — абориген
(повесть)
1
Имя, которое было избрано отцом нашего героя, и которое прокричал мулла ему на ухо, было Абылуйген, но со временем то ли учитель начальных классов самовольно изменил, то ли малограмотный и русскоязычный заведующий районным паспортным столом ошибся, но во всех документах его имя стало Абориген.
Наш джигит, достигший 37 летнего возраста, с проседью волос на голове, с морщинками на лбу и под глазами, с удлиненным, продолговатым лицом, с горбинкой на носу, с утра был в скверном настроении. С тяжестью на душе, как будто кто-то сдавил его плечи, нагибаясь, он в раздражении выгнал отару овец из кошары и, нещадно ударяя палкой, погнал овец против злобно дующего ветра. Это было сделано специально, ибо если овцы пойдут против ветра, то их глаза вскоре забьются песком, а носовые полости будут изрезаны песчинками, отчего овцы очень рано перестанут пастись. Встречающийся на пути боялыч качался на ветру и как бы плакал и скорбел по этой неприглядной рыжей степи. Овцы, сходясь, голень с голенью, медленно брели, понурив головы. Он не выдержал. Злобно ругнувшись, размашисто шагая с белой палкой в руке, пригнувшись и преодолевая сопротивление ветра, встал перед отарой. Громко крича “Шайт, шайт!”, повёл за собой овец в направлении красного солнца, едва поднимающегося на горизонте. Овцы несколько рассредоточились и издали стали похожи на белую сметану, разлитую в степи.
Одно его беспокоило — голодная скотина не сразу начнёт пастись и, беспрестанно блея, не отстанет от него. Оставалось только идти к руслу реки. Ведя за собой овец, он в этой голой, неприглядной степи стал похожим на сатану, ведущим за собой белых призраков.
Потихоньку ведя за собой отару, он к обеду добрался до древнего, высохшего русла великой реки. Дойдя до края обрыва, овцы резко остановились и скучились. С тяжёлым придыханием, с кроваво-красными глазами Абориген устало рухнул на землю. Сидя на краю обрыва, он под ногами увидел желтоватую воду на дне широкого русла реки, обрамлённой с двух сторон высокими берегами, как будто кто-то их вырубил кетменём, отчего берега образовали глубокую впадину.
И это был сегодняшний печальный вид некогда могучей, полноводной великой реки, которая, когда-то теснясь и пенясь, еле вмещаясь, текла по этому руслу. Вот эти желтоватые остатки похожи на горькие, маловодные слёзы. От этой картины сердце чабана сдавила горечь и такая невыносимая печаль, что из его глаз невольно вытекли маленькие капельки слёз. Он глотнул было, но в горле застрял комок. С усилием проглотил. С видом человека, павшего духом, опустив голову, он немного посидел, отдыхая. И это безжизненное, не дающее тепла солнце, и этот холодный, пронизывающий ветер, и невзрачный простор степи, похожий на изжёванную коровой тряпку — всё это навевало тоску на его усталое измученное сердце. Когда-то его покойный отец, всю жизнь пасший овец, говорил: “Дыхание мира стало вялым, воздух изменился”. С каждым прошедшим днём меняется вид русла реки, она мельчает, уменьшаясь в размерах. Этот противный, не умолкающий ветер, который дует каждый день и выбивает пыль с земли, похожей на затвердевшую шкуру барана. Эти овцы, которые не могут ни досыта поесть свежей сочной травы, ни вволю напиться чистой воды, целый день бегающие туда-сюда и блеющие так жалобно, что душа переворачивается, когда с тоской глядишь на их страдания. Ой-хой, что за мир, что за жизнь!
За какие-то двадцать-тридцать лет на месте обширного моря осталось съёжившееся соленое озеро, а на дне русла некогда могучей реки, полноводно текущей две тысячи километров, осталось немного желтоватый воды. Синий простор на глазах превращается в рыжеватый тон, как человек, желтеющий от болезни желтухи. Как сейчас он понял, и его отца свела в могилу эта желтуха.
До сих пор перед глазами картина последних дней отца. Однажды он, больной , с потрескавшимися губами, с тонкой складчатой кожей лица, с прерывистым хриплым дыханием, подозвал к себе его, Аборигена, единственного сына. И сказал еле слышным голосом, как будто говорил издалека.
— Сынок, я хотел, чтобы ты учился на большой учёбе, но не смог этого добиться … мечтал, что ты станешь большим человеком, но, увы, мечта не осуществилась. Я ухожу из этой жизни, взвалив на твои хрупкие плечи и шею всю заботу, все тяготы по уходу за отарой овец … прости меня! …Прошу тебя, когда тебе будет очень плохо, не осуждай и не проклинай меня словами “Чтоб ты мучился в могиле!”.
Приподняв хрипло дышавшую грудь, оперившись на локоть, пристально посмотрев далеко вдаль через открытую дверь, он, увидев голую, высохшую степь, задрожал подбородком и тихо заплакал.
— Вон там, на берегу, в прошедшие годы находилась могила Коркыт-ата. Река, бурля, кипя, потихоньку обвалила берег, и появилась опасность того, что его могила может упасть в воду… мы всё думали, вот сегодня, вот завтра перенесём могилу, и не заметили, как упустили нужное время ... то было некогда… то руки не доходили… и однажды ранней весной река вскипела, забурлила сильным наводнением… могила Коркыт- ата в одну ночь исчезла, обрушившийся берег подмял её под себя, завалив землю. До сих пор меня терзает печаль, что не смог вовремя перенести прах великого предка—кобызиста … перенести его прах было моей самой великой мечтой! … Я ухожу с неисполненным желанием!
Сказав это, устав, исчерпав все свои силы, хрипло дыша, бедный отец лёг на спину и ненадолго неподвижно замолчал. Только ресницы дрожали. Его глаза, кожа лица, похожая на высохший пергамент, стали желтеть прямо на глазах, как будто вся жёлчь из жёлчного пузыря выплеснулась наружу. Отдышавшись, он продолжил:
— Моё тело похороните на этом берегу реки, на высоком месте. Кто знает, когда-нибудь исчезнувшая великая река, опять став полноводной, как весенний поток, вернётся в свои берега, и засохшее русло опять заполнится водой, … хочу всё это чувствовать своим телом.
Бедный отец, оказывается, всё это время, лёжа на боку, тосковал. Ведь это река стала ему такой родной, такой близкой, когда текла полноводной. Правду говорят, что человек, когда тяжело болеет и очень много страдает, находясь в бессознательном состоянии, возвращается опять в своё безмятежное, безгрешное, доброе детство, вспоминая, как бегал босиком по земле, как в подошву ног вонзались колючки и острые камни. Покойный отец, пожелтев лицом и переносясь в далёкое детство, тихо скончался на рассвете. Абориген безутешно плача, похоронил отца на высоком берегу высохшего русла реки. Неумолчное блеяние овец, доносившееся до ушей, раз за разом обрывало ход его мыслей. Он в тот момент был похож на того мореплавателя, который месяцами-годами плавал на просторах великого океана и так истосковался по земле, что рад был бы увидеть хоть малый клочок её. Или на караванщика, которого измучила жажда, и он в поисках воды вытягивает шею, надеясь увидеть какой-нибудь населённый пункт. Он тосковал по полноводной реке, смотря неотрывно, до боли в глазах. Настроение упало, на душу чёрной змеёй легла горечь. Его детство, юность, молодость — всё осталось позади, вот за этим проклятым холмом, на этих безлюдных, безучастных просторах. В течение двух-трёх лет на голове появилась проседь. Однако, выпасая овец на этих бескрайних, высохших просторах, думая и надеясь, что когда-нибудь на эти земли придёт благодатная пора и всё вокруг заполнится живой, зелёной жизнью, он провёл здесь много лет, значительно утончив веру в это и упав духом. Когда-то его отец сказал ему одну истину:
— Сын, запомни раз и навсегда то, что я скажу сейчас. Если умру, то некому тебе будет сказать это. Одно время у этой великой реки, где ты сейчас видишь только высохшее русло, во времена её полноводного течения было восемь видов наводнения. У каждого из восьми своё название.
Наводнение, которое приходило рано утром, заставляющее дрожать кончики камней, раскачивающее деревца урюка и джиды, плавно текущее, источающее вокруг себя ароматный запах, не спеша приходившее и наполняющее водой все ложбинки и впадины — называется «голенью верблюжонка». Оно рождается оттого, что с больших каналов, идущих от берегов реки, после того как они наполняются водой, в реку сбрасывают излишек воды. Вволю напившись от «голени верблюжонка», скотина вскоре наливается жиром и радует глаз, как мех лисицы, вывалявшейся в снегу. Наводнение поздней осени, когда идущие подленькие, ненужные дожди поднимают уровень воды, и она заполняет все сухие ложи ручья, все пологие берега, называется «опрокинутый казан». Этот «опрокинутый казан» наполняет водой очаг чабана, только что прикочевавшего с благодатных джайляу, пронизывает сыростью войлок кошмы, забираясь в дом как нежданная, извивающаяся змея. Наводнение, набирающее силу зимой из далёких снеговых вершин высоких гор, приходит на равнину, лежащую в тысячах километрах от них, и пробегает по льду. Оно называется “давка льда”. Это наводнение похоже на пожар, стремительно пробежавший по льду. Оно быстро начинается и так же быстро заканчивается. Если утром с рёвом и грохотом начинает течь по белому снегу и синему льду, то вечером остаются только небольшие остатки вяло текущей воды. Вскоре и они исчезают. Земледельцы и животноводы, обитающие по берегам великой реки, опасаются этой “давки льда”.
Наводнение, которое зарождается в начале марта, разбивает ледяные оковы, толкает лёд к берегу и, нажимая-нажимая, приходит, как будто прыгает. Оно называется наводнением “годовалого верблюда”. Стоит только прийти “годовалому верблюду”, как земледельцы и животноводы, живущие по берегам реки, тут же начинают разбирать юрты, грузить поклажу и откочёвывают подальше от реки, боясь утонуть в этих бушующих вихревых волнах. “От нас ничего не останется, если мы будем противостоять этому бешеному напору льда и воды ”, — говорят они, привыкнув к бегству.
Но самое сильное наводнение происходило в апреле — шли сильные дожди, и волны достигали такой силы, что легко переворачивали лодки. Оно и называется наводнением “перевёрнутой лодки”. Оно бывает таким могучим и свирепым, каким бывает лев, бросающийся на врага и кидающий его наземь. “Перевёрнутая лодка” разрушала и размывала арыки бедняг-земледельцев, которые они с таким трудом рыли всё лето и осень. У животноводов ломались кошары, если они были построены близко у реки. Если бы “перевёрнутая лодка” повторялась каждый год, то очень плохо пришлось бы всем живущим вдоль реки. Но, к счастью, такая беда приходит только один раз в пять или семь лет, и люди успевают позабыть о её последствиях. Опытные люди, следящие за погодой, говорили, что “перевёрнутая лодка” начинается тогда, когда на далёких вершинах снежных гор начинают интенсивно таять вечные льды. Я слышал, как однажды “перевёрнутая лодка” унесла в пучину вод отцовскую верблюдицу с верблюжонком и двух маленьких детей дедушки, катя и переворачивая их, как мячи.
Шестое наводнение называется “рёвом быка”. У него хоть и есть свирепость, но оно не имеет такой силы, как у “перевёрнутой лодки”. Ее хватает только на то, чтобы срезать, как бритвой, встретившуюся рощу или обрыв или успеть сегодняшнее русло реки переместить завтра в другую сторону. Звук “рёва быка’ далеко разносится вокруг, наводя ужас на людей. Ой-бай, не дай Аллах услышать голос “рёва быка” и не дай попасть в водоворот «перевёрнутой лодки», — не напрасно говорили люди издавна.
Наводнение, про начало и конец которого не знает никто, характером похоже на грубую женщину и не иметь своих границ, называется наводнением «дьявола». «Дьявол» начинается от подъёма воды в мелких речушках, впадающих в великую реку.
И, наконец, восьмое наводнение «ярость». У него нет ни определённых границ, и для хозяйства нет ни капли пользы. Эта «ярость» похожа на тигра, который внезапно приходит в ярость сам по себе, лёжа на земле и выгнув спину. Это наводнение играючи подхватывает больших сомов, и ударяясь об отвесные обрывы, переливаясь через пологие берега, вливается в солёное море и только там успокаивается, смирив свою ярость. Они очень похожи — «Дьявол» и «Ярость». Их могут отличить друг от друга только опытные рыбаки и лодочники.
Абориген до сих пор не понял, какую мысль и какую цель преследовал покойный отец, рассказавший про эти наводнения, и зачем твёрдо попросил похоронить его на высоком холме возле великой реки. Может, он думал, что если будет лежать возле своей реки, то почувствует телом:
Как придёт благодатное наводнение «голени верблюда»;
Переполнившись от осенних дождей, вспучившись, как вспучивается опара теста, придёт «опрокинутый казан»;
Как внезапно прыгнувшая змея, придёт «давка льда», принеся гул и треск.
С рёвом, разбудив всех животных и людей, придёт «рёв быка». Или он надеялся на то, что все эти наводнения нахлынут во всей своей мощи и, наполнив благодатной водой пересохшее русло реки, принесут этому краю благоденствие. Или его дух будет хотя бы желать, чтобы исполнились просьбы потомков, надеясь, что они сделают то, что не смогло сделать их поколение.
«Умирая, может умереть природа, человек не умрёт, однако он больше и играя, и смеясь, не вернётся назад», - сказал поэт, видимо, подразумевая это. Он подался вперёд, смотря на возвышающийся холмик могилы отца, пробормотал про себя молитву. Провёл ладонями рук по лицу, негромко сказав «Аминь». Вытер ладони рук о белую глину. Через некоторое время порывистый неумолчный ветер начал стихать. Измученные жаждой животные начали спускаться вниз к руслу реки. И спускались очень торопливо, толкая головами бёдра друг друга, настолько вода влекла их вниз. Он вскочил и побежал за ними. Сбежав вниз, он не смог остановить бешеный напор. В одно мгновение вместе с овцами добежал до русла реки. И тут случилось неожиданное, невероятное, так что он не поверил своим глазам. Измученные жаждой бедные животные, которые, казалось, и камни сырые готовы были сглотнуть, не стали пить желтоватую тёплую воду, источающую неприятный запах. Понюхав её и подняв головы, они, жалобно блея, стали смотреть в его сторону, как бы говоря: «Это не вода!». Став свидетелем этого ужаса, чабан, не зная что делать, в растерянности затоптался на месте. «Бедный отец, — пробормотал он про себя, — я только сейчас понял, что чем дальше проходит время со дня твоей смерти, тем ближе я приближаюсь душой к тебе и начинаю понимать твою ценность для себя. Почему ты не придёшь ко мне, завернувшись в степной покров? … Я же страдаю, отец! … Как я соскучился и по твоим рассказам о наводнениях великой реки. Это было в детстве, и их, кажется, было восемь видов?».
За его спиной жалобно блеяли овцы, прося воды, и их было мучительно слушать. Знойное июльское солнце прожигало затылок, нигде не было ни одного деревца, чтобы укрыться в тени. Ползущая жёлтая ящерица, увидев его, резко остановилась. Неподвижно застыв, она подняла заострённую головку и высунула язык. О, боже! Кто поверит, что это маленькое, ничтожное животное является потомком могучих динозавров, некогда господствовавших на земле. И вправду, вполне может случиться, что человеческий род, не найдя чистой воды на поверхности земли, не найдя ничего съестного для бренного тела, задыхаясь от недостатка, может превратиться в обезьяну. А что ещё осталось, чтобы не стать обезьяной! В прошлую пятницу из центра прибыл ветеринарный врач Мамырайхан. Он приехал на вездеходе, плавно плывущим в песках, как лодка по воде. С ним был юноша, одетый в брюки в обтяжку, с прямой спиной, похожей на щит, и волосами с причёской «ёжиком». Сам он, видать, был навеселе, так как спустился с машины, напевая под нос: «На огне кувшин, ай, как глаза открываются и закрываются, ай».
Абориген говорит: Басеке, травы поблизости стало мало, не хватает для овец, из труб скважины еле течёт вода, куда деваться, что делать, Басеке?. …Мамырайхан говорит: «Что за трава, ай, глаза открываются и закрываются, ай …кочуйте в пески, …ищите древние останки колодцев, которые были на пути кочевых караванов, …а до этого пейте грязную воду на дне великой реки».
Он говорит: «Ау, басеке, сверху по течению коллектив рисоводов спустил в реку воду с остатками гербицидов, отчего животные не пьют отравленную грязную воду». Мамырайхан в ответ на эти слова бьёт себя по лбу кулаком: «Так что прикажешь мне делать, Ой-бай, ты что, хочешь сказать, чтобы я с этой артисткой взял в руки лопату и стал копать тебе колодец!».
Абориген вытаращил глаза от удивления. Этот, по его мнению, юноша, прибывший из города, оказался казахской девушкой, подведшей тушью ресницы, с напудренным лицом и с коротко подстриженными волосами. Как тут не удивиться! И она действительно может быть артисткой. Интересно, как она танцует, виляя бёдрами, а когда говорит, то шевелит губами и головой, спрашивает что-то по-русски.
Мамырайхан дал указание: « - Пожалуйста, зарежьте одного ягнёнка, сварите хороший бешбармак, и тогда артистка споёт вам прекрасные песни. Не вы ли говорили каждому уполномоченному из района, что в жизни не видели артистов, о писателях ничего не слышим, а теперь я специально привёз вот эту артистку, которая целый день будет петь песни только для вас, дядюшка».
Абориген говорит: «Ау, ты в своём уме? Да разве не будет стыдно нам всем перед духами предков, если мы, наевшись мяса нежного ягнёнка, будем слушать песни этой артистки, тогда как бедные овцы будут жалобно блеять, мучаясь от жажды?». Мамырайхан говорит: «Я пошлю вездеход в райцентр и попрошу, чтобы сюда приехал водовоз. Ты и твои бестолковые бараны вволю напьются свежей воды! Открой свой большой сундук! Вытащи свои запрятанные спиртные напитки».
Абориген не стал спорить с начальником. Услышав слова «вода прибудет», он тут же уважительно забегал перед ним. Он то выходил из дома, то заходил в него, тем самым показывая своё почтительное отношение. Жене приказал: «Поставь казан на огонь, я сейчас зарежу ягнёнка, и мы, вдоволь наевшись мяса, от души послушаем песни этой артистки». Некоторое время спустя одна мысль мелькнула у него голове: а не превращаюсь ли я в обезьяну перед начальником? Однако она тут же пропала без следа и забылась. Он выбрал жирного ягнёнка, зарезал, осмолил голову и, усердно работая, помог жене промыть кишки. Открыл сундук и достал спирт, который берёг на осеннюю случку овец. Мамырайхан сказал: «Я буду пить чистый спирт, не разбавляя водой». Он сильно опьянел, его лицо покраснело, он стал нести что попало. Через некоторое время, шатаясь, поплёлся в дальнюю комнату и лёг спать, храпя на весь дом. Артистка вначале хорошо пела, мелодично, с приятным для слуха голосом. Затем начала показывать «концерты». Чуть отведав варёного мяса, принесённого женой Аборигена, попросила немного айрана, болезненно заявив, что у неё болит живот. Затем пожалела жену Аборигена, с жалостью сказав: «Сестрица, разве тебе не скучно в этой непроглядной степи, где нет ни одного человека, с кем можно было бы перекинуться словом?». Увидев машину-водовозку, она захотела искупаться в тёплой воде, для чего сняла одежду и, расталкивая овец, окунулась в лоток. Обмакнула платье в воду и надела его мокрым. За всеми этими выкрутасами незаметно настал вечер. Жена Аборигена сказала: «Ау, твои гости выпили весь спирт, эта артистка распугала овец, окунувшись в лоток голой, твой ветеринарный врач свалился пьяный. Отагасы, избавься скорей от этой артистки, пока она тебя не развратила».
Наш герой, тоже изрядно выпивший, пошатываясь, одел эту артистку как маленького ребёнка, она же пьяненькая, не могла стоять на ногах, колеблясь из стороны в сторону, как надутый шар. Затем он зашёл в дальнюю комнату, где лежал пьяный Мамырайхан, поднял его, ибо он был не в состоянии двигаться, вытащил на улицу и вылил ему на голову остатки воды из самовара. Ох, с великим трудом привёл его в чувство. «Да пропади пропадом вся эта собачья жизнь, когда в июле принимаешь вот так гостей, одна из которых поющая артистка. Да разве они мне ровня, им то что — напились да уедут, а я останусь в этой жаром пышущей степи», - подумал про себя с горечью Абориген.
И надо же, в справедливости своих дум он убедился, когда сажал пьяную вдребезги артистку в кабину вездехода. Поднимая её безвольное тело, подталкивая за мягкие места, он услышал горячий шёпот артистки, обернувшейся к нему: «Я давно не была с мужчиной. Я хочу, благодаря вам, дядюшка, почувствовать себя женщиной и могу дать вам наслаждение, как женщина!» Подмигнув при этом, она запела какую-то ноту из песни. С другой стороны Мамырайхан закричал диким голосом: «Посади меня!… Крепко держи поводья!» Он никак не мог поставить ногу на подножку кабины вездехода и громко вопел. Абориген, запыхавшись, подбежал к Мамырайхану.
«Басеке, это не поводья скакуна, это подножка кабины вездехода»- сказал он, объясняя ситуацию. «Посади меня, живо!» — заорал начальник, приказывая. На той стороне кабины водитель машины, молоденький парнишка, с пьяненькой артисткой, которая готова была упасть на землю, с этой стороны орет громким голосом Мамырайхан. Поет песню: «Как хорош камыш реки, О нас, дорогой, не забывай.» Да так дико ревел, что перепугал всю скотину, и собаки от перепугу залаяли громким лаем. А тут шофёр подбежал. «Агай, — сказал он, тяжело дыша — эта артистка выскочила из кабины и побежала в пески. Если не поймаем, то её съедят шакалы». Абориген, сняв с себя кирзовые сапоги, побежал в ту сторону, куда указал парнишка. Вскоре догнал бежавшую артистку. Она же, изворачиваясь как змея, не давалась в руки, как будто кто-то облил ее жидким маслом. Взяв песок в руки, он потёр их ладонями рук. Схватив артистку за шиворот, со злостью потащил к дому. «Эта девушка так похожа на обезьяну, но и я хорош, не лучше её» — сказал он, увидев себя в зеркало кабины: рубашка порвана на груди, на лице прилипшие песчинки, в волосах застрявшие травинки…Вдвоем с шофёром-парнишкой толкая, еле-еле запихнули, наконец, в кабину и обезьяну певичку, и обезьяну начальника. Парнишка-шофёр крепко-накрепко завязал верёвкой снаружи дверь вездехода.
— А теперь прощай, коке, мне бы довести этих обезьян в центр в целости и сохранности. А там, плюну на машину и уеду в район, подальше от такой жизни — сказал он, плюнув со злостью. Громадная машина, заурчав, вскоре пропала в непроглядной ночи. Наш герой, смотря вслед машине почувствовал себя таким одиноким, таким несчастным. Может оттого, что пожалел жирного ягнёнка и две бутылки спирта, так любовно припрятанных в сундуке и истраченных напрасно, без пользы. А может от сознания попусту прошедшего дня, а может от злости на всю свою сейчас проживаемую жизнь. Кто знает. А только все это, скопившись, вылетело наружу в крике:
— Что осталось у нас, чтобы не стать обезьянами! Что?!
И этот горестный крик, вырвавшейся прямо из глубины души, как ножом прорезал непроглядную темень ночи.
— Что осталось у нас, чтобы не стать обезьянами! Что?!
После этой истории Абориген резко изменился в характере. Он приобрел привычку сравнивать всех живых существ, ползущих, летающих, бегающих — с видом и обликом знакомых ему людей. Ему казалось, что животное говорит ему про себя — я же такой-то, неужели ты не видишь, и ему сразу чудился облик того человека. Ему также казалось, что за естественной природой каждого животного проглядывают естественные черты и характер знакомых людей. Он стал как баксы-шаман угадывая в животных образ того или иного человека. И вправду, разве не находится вот в этой ползущей по пескам ящерице его коллега Амантур, который нажил себе двести овец и, от жадности потеряв здоровье, умер, не дожив до старости! А ещё вот в этой ящерице сидит жадный Онгарбай, который, работая продавцом в аульном магазине, нагло обсчитывал людей, подкладывая магнит под чашку весов и тем самым увеличивая вес товара. И наживал большие деньги. Некогда приезжавшая певичка — это обезьяна, живущая на земле и её представитель людей в этом краю. Кроткий, тихий чабан Калтак как бы находится в теле шакала, шерсть которого ранней весной слиняла и у которого от голода ввалились глаза, а сам он с несчастным видом сидит на холме; а вот Мамырайхан, похоже, находится в теле быка, который в прошлом году пропал, а после объявился в ауле — жирный, сильный, наглый и стал кидаться на всех, гоняя по улицам людей. А вот он сам … кто он? … он похож на степного беркута со сломанным крылом, который не может взлететь в поднебесье и питается всякими сусликами. С голой шеей, садящийся на могилы и тоскующий по высокому небу. Ему кажется, что его душа находится под крылом этого беркута.
В теле матёрого волка, который, не брезгуя ничем, питается всем, что ему дают в скромном простом ауле, и воет, смотря на гребень холмов, а зимой лоснится от жира — находится, похоже, Ергенбай; когда ты во время первого выпавшего снега, сидя на лошади, увидишь, как лёгкой трусцой бежит волк по вершине холма …скачи, придерживая поводья, а ноги не вынимай из стремян …очень ошибёшься и пожалеешь, если сгоряча пустишься в погоню за ним в надежде убить его — этот волк похож на образованного врача аула Ергенбая.
Со временем Абориген приобрёл неблаговидную привычку разговаривать со всеми, встречающимися ему на пути животными, здороваться с ними и вести задушевный разговор. Это происходило в то время, когда ему становилось скучно одному в этой огромной степи и так хотелось поговорить с кем-то. Иногда он стал советоваться с самим собой, негромко говоря. «Пропади всё пропадом, лишь бы никто не заподозрил, а не то не оберешься от смеха окружающих», — сказал он однажды себе. В большинстве случаев он не сразу замечал, что, увидев животное, тут же начинал говорить, присев перед ним на корточки. Однажды с ним произошёл интересный случай в начале недели. Сразу после полудня он, идя по дну узкой долинки, что была у подножия солнечной стороны Абылуйгена, внезапно увидел большую песчаную черепаху. Панцирь её был в трещинах. Она пыталась заползти по склону, чтобы найти что-нибудь съестное. Увидев его и встретившись с ним взглядом, она застыла неподвижно. Наш герой тут же сел на землю перед ней. Он стал похож на рассерженного учителя, недовольного своим учеником. Он обратился к черепахе глуховатым голосом, полным иронии и сарказма.
— Ей, Онгарбай, ты хотел жить за счёт людей, обманывая и обвешивая, думал разбогатеть таким способом, но проклятие стариков настигло тебя, и ты, несчастный, превратился в черепаху. Так тебе и надо. Если бы ты был добр и щедр, ты не был бы сейчас черепахой.
Черепаха, вытаращив глаза, молча слушая, смотрела на это диковинное двуногое существо.
— Әй, ты дважды задолжал рабкоопу, за что твоё дело было подано в суд, и ты, чтобы избежать наказания, пошёл к старикам и, плача, сказал: «Пожалуйста, помогите мне. Я остался единственным сыном Жаманбая, не хочу, чтобы мой род исчез, как исчезает соль, брошенная в воду». Ты плакал, рыдал, валялся в ногах, и аксакалы сжалились над тобой. И вынесли решение: поможем родственнику, для чего от каждого из сорока домов выделить по одной овце. Благодаря чему ты выплатил долги и избежал суда. И чего только ты ни вытворял с этими бедными стариками! И вложил кусочек мыла в придачу к мешочку купленного сахара, говоря, что у тебя нет обёрточной бумаги; и в придачу к купленной трёхтенговой тарелке добавлял чуть ли не насильно неходовой старый черенок вил; положил незаметно для всех под чашку весов магнит, тем самым утяжеляя вес товара; за всю жизнь никак ни мог насытиться и нажраться ни деньгами, ни вещами, — и в конце концов тебя постигло проклятие людей.
В это время на глаза черепахи — Онгарбая — навернулись горючие слёзы, и она, плача, стала высказывать горечь души:
— Агатай, подумай сам, как я могу на тысячу тенге рабкоопа кормить и воспитывать одиннадцать детей! Одежда дорогая, овощи привозим из районного центра; я потратил на покупку семи пар кроссовок деньги, накопленные за шесть месяцев работы . Чтобы женить старшего сына, у нас не хватило скота, и для того чтобы одеть сватов в дорогие одежды по закону сватовства, пришлось взять кое-что из вверенного мне магазина; не знаю, что делать, так как жена с утра до ночи назойливо жужжала как оса, говоря: «Надо справить и отвезти хорошую, заграничную мебель старшей дочери в приданое, которая вышла замуж и надеется только на нас, родителей». А тут ещё недавно мой младший сынок, хорошо учившийся по математике, заявил, что хочет учиться в университете в Астане, для чего попросил денег на дорогу. Старший сын, что проходит армейскую службу, прислал письмо, просит отправить ему посылкой мясо, казы-карта и сушёных яблок. Дескать, очень соскучился по аульной еде. Что же теперь, умереть, что ли?
— Так мог же ты своих детей кормить и воспитывать честным трудом, трудясь в поте лица. Все так и говорят, что ты — рвач, хапуга, мошенник, и эти пересуды не кончаются и не прекращаются. Отчего бы?
— Эх, если бы ты знал брат, как мне было тяжело кормить одиннадцать детей, я ведь вначале энергично работал, думая: выкормлю, поставлю на ноги, будут у меня хорошими детьми, и что я получил в конце концов — усталость и горечь! Мы с женой вдвоём думали в своё время: вот старшие дети станут взрослыми, будут помогать нам, и мы, наконец, избавимся от надоевшего хныканья — найдите, помогите, покажите, оденьте. Где там?! Оказывается, чем старше становятся дети, тем больше от них проблем. Если раньше меня допекала жена своим назойливым приставанием говоря, ни разу не побывала в столице, что ни разу не была в театре, то в эти дни у неё нет ни сил, ни времени посмотреть даже кинофильмы, которые изредка показывают в ауле. С утра до ночи варит и жарит еду для маленьких детей, стирает и штопает их одежду, лечит заболевших, и настолько устаёт, что однажды даже не узнала меня, когда я поздно пришёл домой.
— Э, дорогой мой, а как же тогда понять, что ты частенько бывал пьяный, разве так поступает расчётливый, хитрый, деловой джигит, который знает даже то, когда змея насыщается и когда линяет?
— Да разве я пью от достатка? Ты подумай, как мне не злиться, как не горевать и как не пить, если всю жизнь живёшь не в достатке? Стоит только одно сделать, как тут же рвется другое. Это как короткое одеяло — натянешь на голову — видны ноги, натянешь на ноги — видна голова. И так всю мою несчастную жизнь. Аульчане думают, что я все деньги, нажитые нечестным путём, складываю в большой сундук и богатею, богатею. А тут председатель рабкоопа грозится уволить, заявляя: «Когда я ухожу в отпуск, то ты не делишься со мной своими доходами от магазина, нет у тебя намерения помочь мне, если и дальше так пойдёт, уволю к чёртовой матери и возьму на твоё место другого человека»; жена надоела до смерти своим хныканьем, что не одеваю её как все мужья, не даю возможности ездить куда она хочет; родственники обижаются, что не зову на той, что не знакомлю с чужими людьми, не поднимаю их имя на щит известности; сверстники недовольны и грозятся отправить воров, чтобы они обокрали мой магазин и склад, так как, якобы, я недостаточно их угощаю водкой и вином, проявляя жадность, как будто этот магазин — моя частная собственность.
А теперь подумайте и скажите, куда мне идти, чтобы выжить в этом проклятом мире? Куда?!
Абориген опустил голову, услышав этот горестный вопль черепахи-Онгарбая, идущий из глубин души… Бедняга, он не думал, что так тяжела и ужасна его жизнь. Да, ужасна. Черепаха-Онгарбай, увидев его поникшую голову, сказал ему приглушённым голосом, идущим как бы из-под земли:
— Ты думаешь, что из-за ужасного проклятия стариков Онгарбай превратился в черепаху? Нет, это совсем не так. Внимательно и терпеливо выслушай меня. Однажды, когда я пришёл домой выпивший, угнетённый и жалобами домашних, и недовольством окружающих, и что я вижу? сидит дома моя дочь с ребёнком на руках, которая вышла замуж за джигита из Жезказгана. Сидит и плачет, что, дескать, ушла от мужа, потому что у них, видишь ли, любовь прошла, друг друга перестали понимать, очаг охладел…
Я не выдержал, от злости заорал, чтобы она убиралась к своему мужу навсегда и не создавала мне проблем, что и так их хватает под завязку мешка, что нервы у меня все истрепались. Характер у моей дочери упрямый и отчаянный. Услышав эти слова, она, побелев от злости и отчаяния, бросила ребёнка, пошла в кухню и там, найдя уксус, выпила, говоря что лучше умереть, чем так жить. И после этого началась беготня на всю ночь. Вызвали Ергенбая. Разжав её рот ручкой камчи, он влил молоко в её горло, из районного центра приехала полиция и стала меня допрашивать: «Почему это случилось? Много ли я пью водки? Бью ли я детей? Мы так легко не закроем это дело!». Если бы не дочь, которая пришла в себя и не сказала, что я не виноват, то точно меня бы арестовали и отправили в следственный изолятор. Зато наложили на меня большой штраф. И пригрозили, что и меня, и мою дочь отдадут на порицание общественного мнения коллектива. И что этого мне мало не покажется.
В ту ночь я не сомкнул глаз и сказал себе: да пропади пропадом эта проклятая жизнь! Чем так жить, видеть столько зла и несправедливости от людей, воспитывать сына, дочь, убежавшую от мужа, и терпеть муки — лучше превратиться в черепаху!
И я обратился к духу Абыл-батыра … плача в душе:
О мой великий предок! Чем быть объектом недовольства окружающих и недовольства детей, чем жить такой несчастной жизнью, когда так и ждёшь какой-нибудь гадости и подлости от людей, лучше — ни о чём не думая, зная, что твоё накопленное добро не разойдётся по рукам полицейских и настырных, горделивых, жадных сватов и родственников, — превратиться в настоящую черепаху, живущую до 200 лет. Видимо, он сжалился надо мной, так как в предрассветное время из продавца Онгарбая я превратился в черепаху и пополз по песку. Ты бы видел, брат, как я обрадовался, как обрадовался! Никогда так не радовался. Вы, мои дорогие, живите как живёте, ищите воду для своих несчастных овец, подхалимничайте перед начальством, чтобы угодить, торопите свою бесцельную жизнь, а я поищу на той стороне хребта Абылуйгена что-нибудь съестное, будучи спокойной и удовлетворённой.
Сказав это, черепаха взобралась на склон холма и поползла. Сидевший на корточках Абориген по-настоящему удивился. Вытаращил глаза, говоря, что, оказывается, и такое возможно в жизни. Он то думал, что черепаха — это жадный подлый торговец, навлёкший на себя гнев Творца и в наказание превращённый Его волей в черепаху. В действительности всё наоборот! Если какое-нибудь животное, плача, просит стать двуногим человеком, не находя способа превратиться в него, то его аульный сверстник Онгарбай сам, по доброй воле выпросил тело черепахи, вконец потеряв надежду на достойную, счастливую жизнь среди людей. Сбежал от назойливой жены, от глупой, но острой на язык дочери, покинувшей, от наглых детей, знающих только одно слово «дай, дай, дай» и позабывших, что на свете есть и другие слова, от жадных и ничего не понимающих сверстников, от кичливых родственников и настойчивых сватов, требующих беспрекословного исполнения всех обрядов, хоть ты лопни на месте. «Хватит быть человеком, страдать всю жизнь», — сказал он и исчез в непроглядной дали песков. Его жизнь была похожа на жизнь Сизифа, который навлёк на себя гнев Бога и в наказание обязан был всю жизнь толкать громадный камень на вершину горы, весь в поту, страдая и мучаясь. Разве легко вытолкать камень с подножия горы на её вершину? Если легко, попробуйте! У бедняги Сизифа пот так и катится ручьём, сердце бешено колотится в груди, лёгким не хватает воздуха. «Вот я сейчас вкачу, только подтолкнуть чуть-чуть», — говорит он и так устаёт, что еле-еле движется. Его самая заветная мечта — вытолкать этот громадный камень вершине горы, а, вытолкав, посмотреть вокруг воспалёнными глазами, вытереть пот, сесть на землю, внутренне показать Богу, вынесшему такое повеление, свою независимость и ненависть, и не потерять бойцовский дух от этого тяжкого труда, не сдаться, а, гордо подняв голову, сказать про себя: — «Я не сдамся». Но, увы, этой мечте не суждено сбыться, так как стоит ему почти докатить камень до вершины, как камень вырывается из рук и катится к подножию горы. Он тут же спускается и опять начинает толкать его на гору. Опять пот ручьём течёт со лба и опять сердце колотится в груди, и лёгким не хватает воздуха. И говорят, до сих пор бедняга Сизиф толкает округлённый на гору и всё не может его поднять к вершине. И показалось Аборигену, что он, чабан, пасущий овец на этих бесплодных и безводных землях, и этот продавец Онгарбай, превратившийся в черепаху — суть сегодняшние потомки этого бедняги Сизифа. Душе Аборигена стало так плохо, так мучительно больно, что он вскочил и, несмотря на скучившихся овец, держа в руках палку, быстро побежал куда глаза глядят, лишь бы быть подальше отсюда. И такая появилась лёгкость в теле, что он, бедняга, очень удивился, так как обычно ходил и бегал с трудом, словно таскал на спине большую тяжесть. Догнав черепаху, ползущую по хребту бархана, переведя дух, он обратился к ней:
— Дружище, захвати и меня с собой, не хочу слышать жалобное блеяние овец, измученных жаждой, стоит им только выйти мне навстречу, как душа моя мучается и страдает, не могу терпеть больше!
Заслышав его гулкие шаги, испуганная черепаха втянула голову в панцирь и неподвижно застыла.
— Ей, дружище, пусть я буду совой, пусть я буду беркутом, сидящим на могилах, мне всё равно, но только прошу тебя, донеси до Всевышнего Творца мою молитву, мою просьбу — пусть Он превратит меня в сову или беркута. Или скажи, как ты превратился из человека в черепаху. Не хочу ходить одиноко в этой бесплодной и неуютной степи. Понимаешь, не хочу! Черепаха со втянутой головой в панцирь молча слушала его причитания и смотрела чёрными глазками, похожими на бусинки. Похоже, она сильно испугалась и от торопливых шагов чабана, и от громких надрывных слов, и от его вида, и от его далеко вокруг разносящего голоса. Он же тоскливо продолжал изливать душу:
— Конечно, дружище, мне жаль покидать жену и двух малолетних детей. Если я улечу беркутом, как они будут жить, как тяжело им придётся. Наверное, хозяином этих овец станет Мамырайхан. А сосед, чабан Есенбай, наевшись досыта молозива только что окотившейся овцы, сказав жене: «Я пошёл пасти овец» и погнав скотину к моей кошаре, вдруг начнёт приставать к моей жене. Он, гад, если начнёт приставать к женщине, то, скотина, не перестанет, пока не добьется желаемого. Знаю я его!
Видимо, черепахе надоели его «слезливые» слова, да и устала, наверное ждать, вот так, притаившись. Она задвигалась и поползла.
— Әй, дружище! Что с тобой? Куда ты поползла? Скажи хоть слово, дай ответ! Ау, черепаха! Онгарбайчик, Онгарбай! — закричал он хрипло на всю округу и остался стоять, недоуменно глядя вслед черепахе. Она поползла, не оборачиваясь, и вскоре скрылась из глаз. То ли зарылась в песок, то ли свалилась в какую-то яму, но внезапно исчезла. Как будто испарилась в воздухе, словно мираж. Он же, как вкопанный, стоял на вершине холма, растерянно озираясь по сторонам. Из пересохшего русла реки до него приглушённо доносилось блеяние овец, ищущих воду.
Вот это знатное марево пустыни имеет священное свойство, каким обладал в древности царь Мидас: всё, к чему он прикасался, мгновенно превращалось в золотые изделия. Если бы не было такого священного свойства, то разве стали бы отвесные берега Сырдарьи такими твёрдыми, крепкими, немного обугленными, похожими на только что выпеченный хлеб, вынутый из тандыра; разве в борьбе за жизнь не испытывает оно на прочность вон того старого беркута, севшего на могилу отца, или вот этот саксаул, растущий на вершине бархана; и разве не показывает нам далёкое близким, а близкое — далёким, переливаясь всеми цветами радуги … Ой-хой, что за мир! Только что на глазах плескалось синее озеро, а подойдёшь поближе, всмотришься пристально — и видишь только золотое марево, как будто царь Мидас стянул накидку со своих плеч. Перед глазами всё двоится и двоится.
Между тем солнце склонилось к закату, горячий воздух посвежел. Стряхнув пыль с одежды, Абориген пошёл к отаре. Измученные жаждой овцы торопливо семенили, похожие на шары перекати-поля, что быстро несутся под порывами ветра. Не отставая от них, он шёл, широко шагая.
Далеко на горизонте показалось облако. Пройдя немного, он заметил: это не облако, а столб смерча, вонзённый в небо. Протерев хорошенько глаза и внимательно вглядевшись, он определил: это не смерч, а столб пыли, поднятый быстро приближающейся машиной-водовозкой. Животные, увидев знакомую машину, кинулись ней. Сгрудились, готовые чуть ли не броситься под колёса. Бедные овечки! Абориген снял кирзовые сапоги, прижал их под мышкой и побежал босиком. «Шайт-шайт! Кайт-кайт!» — закричал он, тяжело дыша, отгоняя овец. Из кабины водовозки суетливо спустился Мамырайхан; парень-шофёр, взобравшись на цистерну, начал спускать на землю деревянный лоток для водопоя. Наш герой, засучив рукава, тут же принялся ему помогать. Схватившись за один конец лотка, он едва успел поставить его на землю, как измученные жаждой животные налетели гурьбой и чуть не сбили его с ног. Страшно было видеть их настойчивый напор. Честное слово, упади он ненароком, затоптали бы насмерть. Закричав «ой -бай, ой -бай», Абориген шатаясь от могучего напора, стал бить овец по головам. Стало ясно, что если не поить бедных животных по группам, то они перевернут лоток и драгоценная вода зря уйдёт в песок. Лихорадочно отгоняяпалкой, чабан, оставив возле лотка небольшую часть овец, отогнал остальных подальше. Налил в лоток воды из цистерны, чтобы оставшаяся часть овец напилась досыта. И как они пили! С шумом прихлёбывая, бедные овцы так жадно глотали воду, как будто пили божественный напиток, дарующий жизнь и здоровье. Ему почудилось, что они стали похожи на сказочных героев, выпивающих разом целое озеро. В мгновение ока овцы выпили всю воду и ещё облизывали мокрые бока лотка. Пока он вот так по пятнадцать, по двадцать голов, напоил овец, солнце уже низко опустилось и готовилось скрыться за дальними барханами песков. Помогая напоить овец, пока в цистерне не осталось ни капли воды, Мамырайхан так устал, что когда вся эта катавасия закончилась, он со злостью пнул ногой колесо машины. «К чёрту всё! — со злостью выпалил он. — Вот только стану депутатом, меня здесь больше никто не увидит. Что за проклятое место!».
Вынул из кармана носовой платок и вытер пот с лица и шеи. Плюнул себе под ноги и с треском сел на куст боялыча. Воровато оглянулся по сторонам, подумав про себя: —«Не услышал ли кто мои слова?». Со всей силы закричал вслед Аборигену, который погнал овец.
— Эй, Байпатшаев, вернись, подойди ко мне! У меня к тебе важный разговор! Прямо завтра я отправлю к тебе грузовую машину, и ты перекочуешь отсюда к развалинам древнего города Жента. Да подожди, не перебивай! Что за народ! Надо слушать, когда говорит начальство. Я не говорю тебе, чтобы ты оживил мёртвые стены.
Дело в том, что к стенам этого города из столицы прибыла группа учёных-археологов. У них есть машины и оборудование. Да слушай же, не перебивая, что за человек! Ты поставь свою кошару у стен этих развалин и, взяв жену, детей и погнав скотину, умоляй начальство этой экспедиции — дескать, сижу без воды. Вода нужна и скотине, и моей семье, а для этого, добрые люди, пробурите мне скважину, дайте воды, воды, воды! Ещё раз прошу, не перебивай…Они, кажется, такие же простые люди, как мы, такие же казахи. Кто знает, может, сжалятся над тобой, проявят милосердие к чабану с его несчастной скотиной и протянут руку помощи.
Услышав такие слова начальника, Абориген аж затрясся от злости. Давненько он вот так не злился, видать, злость копилась, копилась и вот нашла выход.
— Эй, басеке, а если они станут стрелять в меня солью из ружья и натравят своих собак? Что тогда делать? Что это за благодать такая, лежащая у стен древнего Жента? А?
— Не смотри с таким глупым видом, а слушай внимательно. Нам невыгодно, если мы будем к каждой из девятнадцати отар нашей бригады подвозить воду на единственной водовозке. А выкопать каждой отаре по колодцу нет средств. Жившие некогда мастера-колодцекопатели уже давно умерли. Сегодняшние водопроводчики не знают, как найти воду в песках. Если ты целую неделю будешь надоедать своими просьбами археологам, носящим соломенные шляпы и кушающим овощной суп, они или сбегут, или найдут для тебя воду… Вот увидишь!
Абориген сел на подножку кабины машины, увидел, что держит в руках только один кирзовый сапог, и растерянно поглядел по сторонам, надеясь найти второй.
— Ещё что хочу сказать: я выдвинут кандидатом в депутаты республиканского парламента. Моя платформа ясна. Вчера напечатал её и вывесил на всех улицах райцентра. В своей платформе пообещал, что наполню водой Аральское море, для чего добьюсь, чтобы Сырдарья текла к морю полноводной рекой; буду искать способы, как остановить такие болезни, как желтуха, тиф, паралич, которые заполонили эту местность. Если и не остановлю, то постараюсь увеличить число врачей, помогающих больным. Оказывается, сила и авторитет депутата велики. А что если ты будешь моим доверенным лицом среди чабанов? Авторитет среди них у тебя есть, сам ты прост, честен, не вор, больших денег не имеешь.
— Я не хочу быть свидетелем твоего обмана, — буркнул Абориген.
— Ай-ай, что ты болтаешь?!
— Как ты можешь говорить, не моргнув глазом, ничуть не постыдившись, что заполнишь Арал, добьёшься воды для реки, чтобы она так же полноводно текла, как когда-то. Если можешь вылечить желтуху, то где ты был раньше? Почему не стал знахарем?
— Ай-ай, у тебя такой острый язык! Да ты пойми, сейчас в это переходное время депутаты дают обещаний как можно больше, как можно шире, значительнее. Таков обычай, дорогой мой брат. Зато если меня изберут, то ведь есть же соответствующие инстанции, к которым можно обратиться. Попросим, поговорим, дадим совет, посмотрим, наконец. При слове «посмотрим», которое неизвестно как вылетело изо рта, ему стало неудобно и неуютно. Красный румянец смущения, который появился на его лице, слава Богу, был не заметен из-за коричневатого цвета кожи лица. Он так и не смог избавиться от слова «посмотрим».
Вспомнил, как в молодости, закончив институт и получив диплом на руки, он уверенно, спокойно вошёл в кабинет начальника областного учреждения. Увидев его, начальник сильно обрадовался, как будто ожил его покойный отец, распростёр объятия и сказал с добродушным смехом:
«Ты хорошо владеешь русским языком, не беспокойся, я оставлю тебя в области». Как хорошо работать в областном центре в молодые годы, когда ходишь в галстуке даже в июльскую жару и туфли начищены до блеска, как приятно себя чувствовать важным человеком, принимая людей в кабинете и возглавляя собрание. В его памяти осталось, как он всем и всегда говорил «посмотрим», отвечая на просьбы людей с лисьей изворотливостью и хитростью. Оказывается, вот такая изворотливость его и подвела, так как она очень не понравилась его начальнику.
«Ты, сынок, слишком часто говоришь всем «посмотрим». Это слово пристало говорить только нам, твоим начальникам, а не тебе. Тебе же следует говорить «будет сделано, постараюсь сделать», — сказал он с недовольным видом. И вскоре отправил его в дальний район. И в районе он, сидя в простеньком кабинете, много раз говорил это слово «посмотрим». Что делать? Захочешь что-то сделать самостоятельно — начальнику не понравишься, не будешь ничего делать, не понравишься простому народу; и люди дали ему прозвище «Мультфильм». Ой, что за напасть! Как тяжело вспоминать — он, скользя вниз по служебной лестнице, докатился до дальнего отделения совхоза и обосновался здесь. Иншалла, всё же он жил не зря. Работал, женился, построил большой восьмикомнатный дом, купил «Жигули», в его сарае прочно обосновались трое дойных верблюдиц. Иногда, лёжа на войлоке, разложенном на деревянной террасе возле дома, он смотрел на звёздное небо ночи и о многом мечтал. И что это за наваждение! Он хоть изредка, но чувствовал себя человеком прошлых лет. Он слышал, как его областной начальник, который отправил его вниз по служебной лестнице, во времена строгой дисциплины Андропова был изгнан из партии за аморальное поведение, выразившееся в том, что во время работы возил любовницу в баню, — об этом факте сообщила областная газета. А руководитель районного комитета партии, который в своё время присвоил ему прозвище «Мультфильм», был разоблачён в том, что незаслуженно получил золотую звезду Героя Социалистического Труда и чуть не вернул её властям, но вскоре вышел на пенсию, и на этом всё закончилось. Директор совхоза, который во времена «перестройки» так воодушевлённо болтал о том, что «наше время пришло», в конце концов докатился до должности лектора районного общества «Знание» и исчез как значимая личность. И только он один остался.
И сейчас, раздумывая, он понял: если будешь говорить слово «посмотрим» хоть сто, хоть тысячу раз, чабаны, живущие в песках, так и ничего не поймут, ты для них как пророк: что ни скажешь — во всё поверят. Что услышат сейчас — тут же и забудут. И он, живя вот так среди таких недалёких, простоватых, доверчивых, малообразованных людей, стал постепенно превращаться в простака. Создать хорошие условия для чабанов, это всё равно что создать вечный двигатель — перпетуум мобиле — никогда не работающий, это как завывающий ветер песков. Мамырайхан так задумался, что, не видя никого вокруг, стал молоть что попало. Говоря по-русски, по-казахски, смешивая слова, как смешивают сливки со сметаной, он стал говорить и про Маргарет Тэтчер, дом которой он якобы белил, и про то, что Джордж Буш - младший никогда не возьмёт у отца денег в долг… и, разгорячившись, стал твердить, что он сможет, да-да, сможет наполнить водой, Аральское море, что благодаря ему пересыхающее русло великой реки наполнится водой и она опять станет полноводной и могучей. Пробурит среди песков шесть глубоких скважин, и оттуда хлынет прекрасная пресная вода. Он и во сне стал всегда подниматься на трибуну. Стал задумываться и о создании вокального ансамбля, с тем, чтобы оказывать отсталым чабанам в песках культурные услуги. Жена— певица, сам играю на домбре, один сын танцует, младший играет на свирели; можно создать семейный ансамбль, и есть полная возможность съездить в столицу и сняться на телевидении. Чем он хуже других, ведь и он умеет играть на домбре, как играют другие. Продав яловую верблюдицу, добьётся того, чтобы его семейный ансамбль расхвалили в газете … Ой-хой! … Как хорош этот мир! Значит, и к нам в аул пришла весна, посмотрим, чей камень покатится в гору! Ой-хой!
— Ночь наступает, пока совсем не стемнело, пойду, заверну овец в сторону кошары, иначе голодные животные не пойдут обратно, — сказал Абориген, протягивая ему руку. Придя в себя, Мамырайхан оторопел и не нашёлся что сказать.
— Так и быть, перекочую к развалинам Жента. Если буду и дальше находиться возле Абылуйгена, то, скорее всего, мои овцы все погибнут от голода, и я останусь только со своей чабанской палкой.
— Если хочешь, то кочуй, — согласился Мамырайхан. — В песках будешь моим доверенным лицом. Пожалуйста, агитируй за меня, доведи до сознания своих забывчивых ровесников, чтобы они проголосовали за меня, поддержав мою позицию и мою платформу. Даю слово: если стану депутатом, дам каждому из вас по мешку сахара и по мешку муки. Ай, по правде говоря, совсем нелегко заполнить Аральское море. Что я, люди более властные, чем я, не могут решить эту проблему, да разве хватит нам всем воды из обмелевшей Сырдарьи! …Я лучше в будущем напишу письмо в высшие инстанции с объяснением нашего тяжёлого положения из-за нехватки питьевой воды.
Наступили вечерние сумерки. Мамырайхан поднялся, отряхнул пыль, нашёл под машиной свою соломенную шляпу, закурил сигарету и, взобравшись на подножку, сел в кабину машины. С треском захлопнул дверцу. Громко распорядился: «Давай, поехали!». Трёхтонная машина с большой цистерной, тяжело урча, двинулась по бездорожью и вскоре исчезла из глаз. Через некоторое время стало совсем темно. Издалека доносился голос Аборигена «шайт, шайт!», вскоре и он утих. И стало вокруг тихо и безжизненно. Да разве местность вокруг Абылуйгена была издавна нелюдимой и бесшумной? Кто же разбудит эту глухую тишину? Кто?!
На небе засияла полная луна, похожая на круглый плавленый сыр. Песчаные волны барханов, как волны тихого моря, чуть двигались. Вдруг вдалеке показалась расплывчатая, неестественная фигура какого-то духа, эта тень с каждым шагом всё увеличивалась и увеличивалась: козодой, бороздивший пески в поисках пищи, и всё вынюхивающий, осторожный и трусливый шакал, увидев эту тень — в страхе убежали и исчезли из виду. Тень же принадлежала тенью Хозяина песков.
В тот день, когда Абориген прикочевал к древним развалинам города Женкента, он то ли испугался, то ли сглаз был, неизвестно, но он тяжело заболел и свалился в постель. Было сообщено о болезни археологам, проводящим раскопки древнего города, они, в свою очередь, тут же по рации сообщили об этом в центр, прося прислать врача. Вскоре с медикаментами прибыл Ергенбай. Он, вроде, сделал всё что мог, и лекарства давал, и уколы делал, но положение больного, вместо того чтобы идти на поправку, с каждой минутой ухудшалось. Он стал сам с собой разговаривать, бредил и говорил: «Я сам буду Хозяином песков». В бреду беспокоился о животных, о расходах по кормам и травам, необходимых овцам, взяв в руки тетрадь, производил вычисления, что-то подчёркивал. И вот некоторые цифры из этой тетради: в засушливых и полузасушливых местах каждая овца в сутки выпивает 2,5 или 3 литра воды. Зимой обходится снегом. Каждая овца, если бы паслась на богатых травой пастбищах, съедала бы в день 5 килограммов травы, в песках же, где полынь и верблюжья колючка опалены солнцем, где так мало трав, овца в день еле-еле находит и съедает 3 килограмма всякой растительности. В зимние месяцы съедает в день 200 граммов комбикорма. Значит, получается — за год каждая овца выпивает одну тонну воды и съедает до 730 килограммов пастбищных трав. Тогда в среднем расходы на одну овцу повышаются с сорока тенге до пятидесяти. Если в засушливых местах исключить годовые расходы по комбикормам, по воде, по ремонту кошар, то власть получает с каждой овцы в среднем десять тенге семьдесят тиынов чистой прибыли. И ответ на вопрос, сколько же денег из этой прибыли попадает в карман чабана, составляет отдельный рассказ.
2
Массивное трёхэтажное здание в областном центре, совсем недавно отдали под областную больницу. Во времена административно-командной системы в этом здании проживал сам глава областного руководства. Позднее настали времена перестройки, и люди стали всё более открыто судачить о том, что «начальники сами себе выделяют хорошие дома, что красивая, высокомерная жена руководителя области купается каждый день в молоке, для чего ей на дом привозят аж целую флягу молока бесплатно с маслозавода, а она выливает его в ванну и купается как русалка. А после купания это молоко отдают в детский сад для потребления». Пришлось начальнику освободить дом. В одной части расположилась больница, в другой — детский сад. И вот на скамейке во дворе этой больницы сидит Абориген и, поникший, смотрит на землю, вспоминая прошедшую жизнь. Перед его глазами проходит детство, такое далёкое... Оно предстаёт перед ним в виде каких-то расплывчатых видений. Как тени двугорбых верблюдов. Он всё время пас ягнят и пригонял овец. Перед его внутренним взором проходили разнообразные картины. Вот он видит лисицу, сидящую на песчаном холме, беркута, парящего в синем небе. В семилетнем возрасте отец отвёз его в райцентр. Двор длинной школы был заполнен людьми. Он оробел, увидев столько детей, собранных в одном месте. Ему стало даже страшно. Так как, живя на вольных обширных просторах песков, ему не приходилось общаться с таким количеством детей. В кабинете, находящемся в конце длинного коридора, их принял директор школы. Отец поздоровался с ним и, пояснив «у меня в конторе дела», тут же уехал на коне. Аборигену хотелось плакать. Так одиноко он почувствовал себя. Директор, раскрыв тетрадь в клетку, расспросив обо всём, стал регистрировать его данные. Наверное, раз десять спрашивал его имя, как будто глухой. Довольный собой, весело смеялся, говоря: «Я в соответствии со временем записал Базарбая Борисом, а Есенбая — Егором». Смотря пристально на него, задумался. «С таким видом ты не подходишь к имени Александр, это имя белого царя, я напишу в журнал «Абориген». Это латинское имя, обозначающее «коренной хозяин земли», оно одно из дорогих редких слов. А Абылуйген — ну что за имя, только язык ломать, да и звучности никакой». С тех пор все дети стали звать его Аборигеном. Он привык, и на зов «эй, Абориген» стал привычно отзываться «А? Что надо?». И вправду — разве есть на карте хребет Абылуйгена, находящийся где-то на окраине песков? Потихоньку прошли годы. За это время великая Сырдарья так обмелела, что перестала течь полноводной и прекратились её наводнения, а Аральское море высохло, уменьшилось в размере, как уменьшается нагретая вода, превращаясь в пар. Об этом каждый раз говорили Мамырайхан и Ергенбай. Его учёба после десятого класса потеряла всякое значение. В те года аульные активисты подняли ужасную инициативу. Стали агитировать юношей пасти овец, отчего каждый день обращения, каждый день собрания: «учёба — не для тебя», «кто пасёт баранов и ест жирный курдюк, тот вырвется вперёд», — убеждали они с пеной у рта и наконец добились своего — сделали наследником отцовского дела, Абориген дал согласие стать чабаном и помощником отца. До этого некоторое время тому назад он потерял паспорт. То ли возле белошёрстной козы, когда она лежала больная, и ей надо было помочь, в общем, обыскал всё, но так и не смог найти. Махнул рукой, думая, когда-нибудь поеду в районный центр, вот тогда и скажу о паспорте или возьму новый, а пока некогда. У него не было времени съездить в райцентр, сфотографироваться и зайти в соответствующие учреждения. Надев кирзовые сапоги, он, бедняга, с утра до вечера бегал за овцами, не зная ни усталости, ни покоя, пока не свалился с ног. Правду говорят, дурная голова ногам покоя не даёт. Мало говори, много говори, но у нашего героя много дум, много печали, много тоски. Воспарив на крыльях мечтаний, он, похоже, витал над просторами песков Кызылкумов и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Как гласит мудрая народная поговорка: «Не спрашивай совета у того, кто три года пас баранов, и не участвуй в козлодрании на коне, на котором три года пасли баранов». Он всегда думал, что лучше жить своим умом и никогда никому не давать совета; разве даст благоденствие и покой совет чужого человека, если у каждого своя голова на плечах? Однако что это за напасть, что давит голову? Почему он не спросит у врачей, снующих туда-сюда, о причине своей болезни? Почему?! И почему не пишет письма оставшимся в ауле активистам и не спросит о положении дел в ауле? Почему, поникнув духом, подняв голову, смотрит на горизонт и ищет ответа на вопросы? Почему, почему, почему?!
За последние три месяца его, бывшего в упадке сил, еле ходившего по земле, Ергенбай, да поможет ему Всевышний, отвёз вначале в районную больницу, а потом, видя, что там ему не становится лучше, привёз в эту областную больницу. Пышногрудая врачиха, тщательно осмотрев больного, со злостью набросилась на Ергенбая.
— Вы что, да разве можно так лечить человека? — сказала она гневно, — вы что, считаете себя медиками так вот врачуя, кормите свою семью?
Друг Ергенбай, не зная что сказать, опустил голову.
— Я вижу, что у больного слишком низкое содержание гемоглобина, нервы совсем расшатаны, желудок никудышный, на голове не осталось волос, и я удивляюсь, что он ещё жив.
Ергенбай молчал, как будто подавился куском мяса, и смотрел на врачиху вытаращенными глазами.
— Для людей, живущих в регионе Арала, наше общество собрало более миллиона денег, Министерство здравоохранения выделило дополнительно лекарства, а вы что делаете? Кричите о втором Чернобыле? И это вся ваша деятельность, что ли? — распевалась она.
Откуда ей было знать, что Ергенбай привёз его издалека, чтобы узнать, может, он заболел болезнью, которую мы не знаем. Разве есть вина бедняги чабана, который искренне поверил, что и скот, и человек являются собственностью государства? Он поверил, что власть его не бросит голодать, раз ей нужны чабаны.
Лёг на носилки, когда ему сказали «ложись», полетел на маленьком самолёте, пережив все тяготы полёта, когда душа то уходила в пятки, то поднималась до носа и готова была вот-вот покинуть бренное тело, и, пережив всё это, прилетел в областной центр. Опять его положили на носилки и притащили в больницу. Своим болезненным видом он сразу же не понравился высокорослому врачу. Измерив давление крови и спросив пациента о имени и возрасте, он покачал головой.
— Вот казахи! Чёрт знает что придумают для своего ребёнка. Ну что за имя у тебя? Я встречал джигита, которого назвали Кулаком, встречал девушку, которую назвали Наслаждением, а вот Абориген — что это такое? Может, ты приехал к нам из Австралии?
Врач долго ждал от него внятных объяснений, но так и не дождался.
— Я не верю, дорогой, что тебе 37 лет. Или твой отец специально снизил твой возраст, чтобы тебя не взяли в армию, или ты забыл свой год рождения и болтаешь тут что попало. По твоему лицу видно, дорогой мой, что тебе давно перевалило за сорок.
Абориген не стал с ним спорить, так у него болела голова и он находился в заторможенном состоянии. Хотелось побыстрее лечь и, закрыв глаза, погрузиться в сон. На другой день ему ввели в пищевод тонкую резиновую трубочку с маленькой лампочкой на головке для проверки внутренних органов. Когда проверяли, ему было больно, но он молча и стойко перенёс боли. Пролежал ещё двое суток в маленькой палате трёхэтажного старинного дома. И тут по больнице разнёсся слух, что тяжелобольного, на выздоровление которого все махнули рукой, будет осматривать самый известный врач, который приедет из столицы. Абориген поднял голову, прополоскал рот тёплой водой. В чай, принесённый блондинкой, накрошил хлеба и стал есть. Больному, лежавшему в одной с ним палате, из аула привезли шубат, и он, налив в пиалу, протянул напиток Аборигену. Тот отказался: «Мне нельзя его пить. Желудок не принимает». И вот настал долгожданный день. Санитарка тщательно вымыла пол, протёрла тряпочкой окна и косяки. Не прошло и часа, как появился известный врач в сопровождении целой свиты местных докторов, оказавшийся пожилым человеком, полным, с густыми бровями, с тянутым носом. Вначале он тщательно просмотрел его медицинские документы, медленно переворачивая листы. Затем задумался, долго смотрел на его измождённое лицо. Что-то пробормотав на чужом языке, поспешно вышел из палаты. Абориген от удивления вытаращил глаза. Его сосед по палате, объяснил суть дела.
«Этот известный врач сказал: — как он ещё жив и не умер? Ведь с таким малокровием и с таким измученным видом и исхудавшим телом он должен был давно уже умереть!». И теперь Аборигену стало ясно, почему он однажды покатился по земле в сильный ветер, когда нёс охапку сена, выходя из кошары. Видать, стал очень лёгким, как перекати-поле.
Но то ли помог морковный сок, то ли каждодневная каша, то ли лекарства, однако в конце месяца Абориген почувствовал прилив сил, поднял голову и стал чётко различать окружающее. Вначале подумал: «Я, наверное, уже выздоровел, стал сильным, как прежде». До его слуха донеслось далёкое блеяние овец… Он встал на ноги, однако, оказывается, зря поторопился… В ушах зазвенело, зашумело, перед глазами разлилась муть, и он упал, ударившись головой о край кровати и смахнув с тумбочки посуду на пол, которая разбилась. Прибежавшая на шум блондинка-медсестра, поддерживая его за подмышки, помогла лечь на кровать, принесла тёплую воду и напоила. Неизвестно, сколько времени Абориген пролежал в постели, то ли два дня, то ли три, но он уже не смог есть рисовую кашу и пить чай без сахара. Его сильно тошнило, было плохо и с сердцем. На память пришло давно забытое. И сразу же, захрипев, спросил тревожно: — «Где мои сапоги? Кто забрал мои кирзовые сапоги?».
Спросил про сапоги у блондинки, принёсшей обед, но та ответила, что не знает. Поискал рукой под кроватью— не нашёл, спросил у соседа. Тот покачал головой и пожал плечами, мол не видел. Зашедший дежурный врач недовольно поинтересовался:
— Это ты объявил нам голодовку в знак протеста?
— Где мои сапоги?
— Откуда мне знать, где лежат твои грязные, замызганные кирзовые сапоги, если сам не знаешь, куда положил? — сказал дежурный врач со злостью и обидой. — Ничего, вот маленько наберись сил, мой упрямый чабан. Я тебя в один миг выгоню, дорогой мой, только пятки засверкают. А потом тебя вовек не увижу, упрямый мой. Ты посмотри на него, лежит себе в палате, предназначенной для ветеранов войны и труда без всякой регистрации и делает что хочет. Сколько тебе лет-то?
— Ляббай?
— В этой медицинской карточке написано, что тебе 37, а посмотришь на лицо, так можно дать все 50 лет. Так сколько же на самом деле?
— Где мои сапоги?
— Чёрт знает?! Если приехал в город в сапогах, то они, может, в кладовке. Старуха сказала, что на полдня положила сапоги в чан с водой и еле смыла грязь. Жаловалась, что сами сапоги легки как перекати-поле, но очень забиты песком, и для чистки обязательно нужен спирт. Итак, сколько тебе лет?
— Настоящий возраст я позабыл. В документе обозначен возраст, надо посмотреть в кармане.
Дежурный врач побагровел, как красное яблоко, молча записал что-то в историю болезни и торопливо вышел из палаты.
Наш герой, лёжа в постели, подумал: «Как бы не забыть: без кирзовых сапог в песках делать нечего, не сможешь ходить по раскалённым пескам. В суматохе жена сняла сапоги с ног, что ли, босиком, что ли, отправила в больницу? Есть ли где брезентовые ботинки? Их можно отдать как милостыню, но кирзовые сапоги никогда. Нет- нет! Он ни за что на свете не обменяет кирзовые сапоги!». Если бы не было сапог, то он в июльскую жару никак бы не смог ходить по пескам, сразу обжёг бы себе подошвы ног. Тогда в них вонзились бы веточки саксаула, верблюжьи колючки, яд зизифоры душистой проник бы в ступни и вызвал жжение и боль, как будто ступни посыпаны солью. Когда он ложился спать, то всегда клал сапоги под подушку, иначе в них заберутся медведка или клещ. Однажды рано утром он, услышав шум в кошаре от испуга овец, второпях надел сапоги на босые ноги и побежал. И почувствовал укус медведки, подошву обожгло, как будто он наступил на горячий уголёк. Ему было некогда снимать сапоги, а затем яд медведки распространился по телу, и Абориген забегал вокруг кошары, прыгая, как сумасшедший. Лицо покрылось испариной. Совершенно обессилев, он через некоторое время, широко раскинув руки, упал на песчаный холм и потерял сознание. После подоспела жена, обрызгала лицо водой, напоила молоком — и тем спасла ему жизнь. Что ни говори, но он не забудет тех мгновений, когда кирзовые сапоги не раз спасали ему жизнь; иногда он думал: а что если найти того мастера, который изобрёл эти сапоги, и послать ему в подарок целую дорбу курта и дорбу сушёных сухофруктов? А что? Вот сосед и ровесник Есенбай, живущий рядом за чредой холмов, отправил же командиру части, где служит его сын, курдючное сало и внутренний жир овец. Это для того, чтобы командир помягче относился к сыну. Командир тут же написал ему благодарственное письмо. Даже во времена сурового Сталина родилась мудрая пословица: «Взятка да блат сильнее наркома». Он же вовсе не думает о взятке, нет, он просто хочет выразить свою огромную благодарность тому мастеру из далёкой России, который создал это чудо — кирзовые сапоги, в которых так надёжно ходить по раскалённым пескам. Какие только мечты не приходят в голову человеку, лежащему на больничной койке.
«Скорее бы выздороветь и встать на ноги. И кажется, я выздоравливаю: на щеках появился хоть и слабый, но румянец, стул тоже пришёл в норму, хотя мучился от запоров, как у верблюда и живот болел , кишечник кровоточил. Думал с тревогой, если каждый день в туалете из меня будет выходить хоть капля крови, то разве не стану я в конце концов как пустое ведро?». Когда-то его сосед, чабан Амантур заболел тифом, у него не было аппетита. Долго болел и умер. Тьфу! Тьфу! Придёт же всякая чушь в голову! Что ни говори, но он однажды не выдержал мучений от боли и, оставив отару на попечение жены, сел на коня и прямиком поехал в райцентр. Там встретил разжиревшего врача Ергенбая, специализировавшегося не обрезании мальчиков, и обратился к нему за помощью: « Так и так, болею, что делать?».
«Каждый день перед сном кладите это — сказал он и выписал маслинный клубень. — Дядюшка, и это лекарство может не помочь, — продолжил он, — главное, чтобы не произошёл запор кишечника. Чтобы этого не случилось, вам необходимо побольше есть овощей и фруктов и пить разных соков»
— Ай, дорогой мой спаситель, да откуда взяться овощам и фруктам в жаркой безводной пустыне?
— Согласен-согласен, если для выздоровления нужны овощи, что ж, поищем их. В наше время солидные правительственные чиновники с пузатыми портфелями думают, что все чабаны — богатые люди с большими деньгами и многочисленными отарами овец. На самом же деле, если сказать прямо, это самые несчастные люди на свете, ставшие скотиной вместе со своим скотом, дни и ночи проводящие в тяжёлом, неблагодарном труде. Старшему чабану, помощнику чабана, сторожу отары платят три тысячи тенге в месяц, часы не считаются, отпуск не даётся; они бы выдержали всё это, если бы в Казахстане овец не загнали в песчаные, безводные места, там, где не смогут пастись ни лошади, ни коровы. Высохшие пустыни, полупустыни давно стали пристанищем для овец».
Послушав врача, наш герой сел на своего смирного, ко всему равнодушного коня, и, положив в коржуны белоголовую капусту, отправился домой в свою кошару. Дома жена сварила ему суп из капусты, он поел. В постель на ночь положил маслинный клубень. Даст Аллах, ещё выздоровею, понадеялся он. Перед рассветом овцы всполошились в кошаре, он тут же сунул на босые ноги в кирзовые сапоги, взял в руку палку и поспешилнаружу. Овцы испугались либо камышового кота, либо волка, который близко подкрался к кошаре. Напуганные, они всей отарой кинулись в пески. Крича изо всех сил, Абориген последовал за ними. И только через продолжительное время, когда солнце уже поднялось на длину аркана, выяснил, что волк задрал всего одного ягнёнка, а все остальные овцы целы и невредимы; повернув обратно, он заторопился, усердно перегоняя овец. Рассчитывал пригнать их к колодцу возле зимовки, пока не начнёт палить солнце. Впопыхах съел один кусочек курта (совсем забыл, что врач Ергенбай строго запретил его есть). Вечером, загнав овец в кошару, прилёг возле печки и не заметил как заснул. Маслинный клубень, который дал врач Ергенбай, растаял в жарком душном доме. Ночью он, измученный жаждой, вышел наружу и выпил холодной воды из колодца (опять забыл, что Ергенбай запретил и это). В общем, нарушил все запреты врача. На другой день он вернулся с пастьбы с болезненным видом и хриплым голосом сказал жене:
— Капуста не помогла — опять у меня шло кровотечение. Права пословица, что больному и ещё не умершему рабу всегда попадается мёртвая рыба.
Заломило поясницу, да так, что он внезапно перестал ходить. В передней комнате были расположены печь с казаном, во второй — спальня.
Его маленькие дети ещё не поднялись с постели, из-под одеяла так и сверкали их маленькие чёрные глазёнки. Интересно было на них глядеть— они были так похожи на маленьких лисят. Жена пришла в ярость, сорвала с детей тёплое одеяло, гневно заорала: «А ну-ка поднимайтесь, топите печку, принесите воды». И тут же выгнала детей босыми в переднюю комнату.
Положив мужа на постель и обругав нехорошими словами кого-то невидимого, она поплотнее натянула головной убор — платок жаулык и вышла, с треском захлопнув входную дверь. Наступила тишина. Слышны были только тихие удары песчинок по окну.
Старшая шестилетняя дочь, прижав к себе куст боялыча и перешагнув порог дома, уставилась на него. Пятилетний сын схватил за подол платье сестры и не собирался его отпускать.
Лёжа на боку, Абориген достал спички из кармана брюк и протянул дочери: «На, дочка, возьми. Смотри, осторожно зажигай огонь, не в коем случае не подходи к бутылке с соляркой!».
Маленькая дочь взяла спички, подошла к печке и, сев на корточки, стала разжигать огонь. Не то спички отсырели, не то сырыми были дрова, но огонь никак не разгорался. Сын захныкал, прося чего-нибудь поесть. В доме стало холодно из-за щелей в двери, откуда дул пронизывающий ветер.
Увидев бесплодные попытки дочери развести огонь и очень ееёпожалев, Абориген не выдержал. Перевернувшись лицом вниз, он стиснул зубы и, преодолевая боль, пополз к печке. Было тяжело преодолеть порог комнаты. Однако он настойчиво полз и вскоре добрался до печки. Младший сын, увидев отца, ползущего, как змея, пришёл в ужас и тут же перестал плакать и просить есть. Абориген наполнил печь кустами боялыча, плеснул на них солярки из бутылки и передал её дочери.
— Отнеси бутылку подальше! — сказал он. И тут же поджёг спичкой дрова. Огонь вспыхнул и весело затрещал, пожирая красным языком сухие ветки боялыча. Засветился нос мальца. Абориген достал с печной полки пропитанную маслом скатерть. Развернув её, увидел, что тандырный хлеб высох и стал похож на камень. Отломив кусочек, протянул сыну. Тот никак не мог разжевать твёрдый хлеб. Было жаль видеть это.
Абориген прислонился к печке, и ему стало больно и горестно видеть своих несчастных, обездоленных детей, с испугом смотревших на него. И так горько стало за себя самого, такого беспомощного, что он застонал, и жалкие слёзы тихо покатились по его бледному худому лицу.
— Уа, о бренный мир, не дай мне выть по-волчьи от безысходности и тоски в этом бесплодном песчаном мире. Дай мне силы и здоровья, чтобы я не показал детям свои скупые мужские слёзы!
Отвернувшись от детей, он торопливо смахнул слёзы рукавом фуфайки и, сняв её, лёг спиной к печке. Спине стало тепло, от рубашки пошёл пар. Неприятно запахло потом. Тепло от печки, пройдя сквозь кожу, дошло до костей. Крепко стиснув зубы, он, несмотря на жар, продолжал лежать спиной к печке, опершись двумя руками о земляной пол. Кажется, у него поднялось кровяное давление, в ушах закололо, мысли спутались. Сквозь туман издалека он еле услышал крик сына «коке, коке». Ему представилось, что он лежит в пламени красного огня. В дом вошла жена. Увидев мужа, она схватила и поволокла его прочь от печки. Оказывается, рубашка начала тлеть, ему обожгло спину. Ещё немного — и он бы начал гореть.
«Ты что, хочешь сгореть и оставить наших детей сиротами, на произвол судьбы в этих песках?» — заревела жена во весь голос. Испуганные дети заплакали.
Он помнит, как снаружи раздался шум подъехавшей машины, и, с треском открыв дверь, в дом вошёл Мамырайхан. На ногах — тёплые сапожки, на плечах — утепленный плащ, на голове — бобровая шапка, сам довольный, весёлый.
— Эй, передовой чабан, тебе что, ночи мало, чего лежишь днём возле печи, а!
Его голос донёсся до Аборигена, как будто из подземелья, глухой, еле слышный.
— Ты что болтаешь, о Боже, разве не видишь, что он решил погреться возле печи и чуть не сгорел. О горе мне! — снова заголосила жена.
Поняв в чём дело, Мамырайхан сильно растерялся. Подхватив вместе с женой Аборигена под мышки, довёл его до второй комнаты и бережно положил в постель. Сам снял верхнюю одежду, повесил на гвоздь и сел на войлочную кошму. Участливо заговорил:
— Что с тобой, дорогой мой чабан, если заболел, то вызвали бы врача?
От одного подлого слова у человека портится настроение, а вот от одного доброго — настроение улучшается. Делать добро и милосердие людям — признак высокой культуры и сознания человека.
— Что с тобой случилось, дети все в испуге? — спросил Мамырайхан. Абориген молча пожал плечами. И тут почувствовал, что боль в пояснице, начавшаяся утром, потихоньку отступает. Подняв голову и облокотившись на подушку правой рукой, он сел спиной к стене.
— Овцы начали окот ягнят, где обещанные помощники?
— Абеке, устал, но не нашёл. В наше время молодёжь никак не хочет помогать животноводам. Стоит только заикнуться, как тут же бегут в районный центр, говоря, что не хотят быть скотиной. Делать нечего, договорился со стариком Калтаем, что пасёт частный скот. Он поможет, пока не закончится окот овец. Вот увидишь, не сегодня-завтра он будет тут.
— Надеюсь, ты привёз газеты, журналы, ведь в прошлый раз я очень просил тебя их привезти.
— Не знаю почему, но, наверное, не издают книги на казахском языке. Я привез тебе толстую книгу «Домоводство». Какой бы ты ни был книгочей, а тебе этой книги хватит читать аж до самого лета, после как поешь мяса, можешь вытереть руки. Вот тебе двойная польза! Да, кстати, я привёз целый мешок муки, до лета будете сыты. Абориген опустил голову и ехидно захихикал.
— Что за время?! В наши дни и газеты и журналы, и книги и трудности, и горести бедняги-чабана все-все уместилось в одном мешке муки, надо же… Стоит только вышестоящим начальникам спросить вас, что вы делаете для улучшения положения чабана, вы отвечаете: мы дали мешок муки; стоит спросить вас о детях чабана, не болеют ли, учатся ли своевременно, вы опять без зазрения совести бойко отвечаете: мы дали мешок муки; поинтересуются, есть ли какие-то мечты у бедного чабана, а они есть, ибо он тоже человек, и как любой человек в наше прекрасное время — он тоже мечтает, вы опять отвечаете: мы дали мешок муки! Как жаль, ох как жаль, что у меня кончилась мука, иначе я бы разрезал этот проклятый, надоевший мешок, и обсыпав тебя всего белой мукой, выгнал бы из дома. «Айда, давай, шагом марш, вон, вон!».
— Терпение, терпение, Абеке, никто не говорит, что ты умираешь с голоду, каждый живёт тем, что имеет, таково наше время.
— Әй, одного мешка муки на что хватит? Разве сможет он залатать все дыры — жена у меня беременна, из-за того, что не хватает овощей и фруктов, она заболела, дети давно не видели сладкого, телевизор не помню когда в последний раз смотрели, живём как на заброшенном острове — газет не читаем, радио не слушаем. Тебя мы видим раз в месяц, и ты всё так же прикрываешься своим мешком муки, как будто осчастливил нас. У, бесовское отродье! — не сумел сдержать свой гнев Абориген. В ярости выгнал своего начальника из дома. Обругал беднягу непотребными словами и до вечера не мог успокоиться. Он то выходил, то заходил в дом, хотя это и давалось ему тяжело. В какой-то момент ему захотелось бросить всё и податься куда глаза глядят. Лишь бы уйти от этой проклятой жизни и умереть где-нибудь! Но пожалел верную, безропотную жену с глазами верблюжонка и двух маленьких детей.
В сумерках на своём ослике прибыл маленький, низенький старик Калтак… И надо же, в тот день, когда почти закончился окот овец и боль в пояснице окончательно прошла, а они стали готовиться к кочёвке, у него опять пошла кровь из прямой кишки.
—«Ай, если я вот так буду ещё ходить, то однажды наверняка умру, нет, надо обратиться к врачу Ергенбаю, полечусь у него, покажусь ему», — сказал он про себя.
В то время май закончился, и началась июньская жара. Постоянно выпивая жижу горького супа, чтобы живот не затвердел, он, как синяя лягушка, исхудал, стал жилистым, без грамма жира. Что делать? Сюда повернёшь — бык может подохнуть, туда повернёшь — арба сломается. Стоит ему в жаркий день выпить чашку чёрного чая, как тут же начинает болеть живот; прослышав, что суп из мяса худого барана полезен для желудка, он попробовал его, так два дня бегал в пески, не давая покоя ногам. Оказывается, если желудок не переваривает пищу, то силы начинают покидать человека. Глаза его впали в глазницы, морщины углубились, лицо похудело.
— Схожу к Ергенбаю, покажусь ему, надо бы до осени хорошенько полечить и живот, и поясницу. Может, поправлюсь.
Так рассуждал он и не заметил, как тяжело заболел и свалился с ног. Он не боялся, что умрёт, опасался, что с его смертью отломится ещё одна ветка от ещё одного казахского корня, что шёл от деда к сыну.
Чего только не видели казахи в своей истории. Говорят, что когда-то китайский богдыхан решил: «Во что бы то ни стало надо уничтожить казахов, населяющих такую огромную территорию. Убить всех казахов, чтобы они исчезли с лица земли как единая нация».
Дав калмыцким контайши китайские пушки, наняв из Европы шведских, английских инженеров, он исподтишка направил калмыцкие и джунгарские войска против мирных казахов, занимавшихся пастьбой скота на огромных степных просторах. Калмыцкие и джунгарские войска напали на мирные казахские аулы как голодные волки; проще говоря, эту войну можно назвать истреблением мирного народа, у которого не было такого современного оружия, как у джунгар. Истреблением, похожим на истребление овец. Это были тяжкие годы, годы бедствий, страданий и слёз. В этих кровопролитных битвах из общего количества казахов погибло две трети.
В то время в каждой ложбине можно было увидеть головы казахских мужчин, а женщины с плачем покидали родную землю, проданные на чужбину в рабство.
В начале XVIII века калмыкские контайчи под предлогом завоевания тучных бескрайных пастбищ замыслили стереть казахов с лица западныхстепей. А за следом калмыков тем предлогом, что «казахи поднялись против России», царская власть отправила против мирных казахских аулов уездов Иргиза, Тургая, Каркары свои карательные войска. У них были дальнобойные пушки, поливающие свинцовым дождём пулемёты. Тысячи солдат вооружились винтовками с нарезными стволами, а это позволяло пуле улетать далеко и точно поражать цель. Многочисленные войска окружили плотным кольцом население трёх волостей Иргизского уезда. Полковник Разик писал в своей тетради: «Мы остановили повстанцев только тогда, когда взяли их в перекрёстный огонь пулемётов, винтовок и пушек. Они вынужденно отступили, когда все окрестные холмы были завалены трупами казахов. Убитых и тяжелораненых насчитывались тысячи…». А на Каркара-джайляу, что находится в Семиречье, царские каратели привязывали казахов к стволам пушек и разрывали на части, когда же у них кончались патроны, закалывали казахов штыками винтовок. По сведениям из романа Ауэзова «Лихая година», посвящённому событиям 1916 года в Каркаре, казахов было убито до 40 тысяч человек. В голода 1931-1933 годов умерло несколько миллионов казахов. В 1936-1938 годах во времена сталинских репрессий по уничтожению «врагов народа» было убито более 66 тысяч человек. В период Великой Отечественной войны более 550 тысяч казахских солдат в далёкой стороне от Казахстана в сражениях с войсками гитлеровской Германии по освобождению территории Советского Союза от оккупантов во имя победы над нацизмом под огнём пушек и пулемётов, под бомбами и снарядами погибали юными, полными сил. После всех этих бедствий и трудностей, происходивших в течении полувека, численность казахского народа до сих пор не достигла показателей до Октябрьского переворота.
Да, наш герой, лёжа в больнице областного центра, не боится, что лечение не пойдёт пользу, и он умрёт; нет, он страшится другого, что прервёт священную нить, передающуюся от прадеда к деду, от деда к сыну. Переживал, что умрёт, не донеся до сына завет своего отца. Неизвестно, сколько он сидел на солнцепёке, как вдруг сзади раздался пронзительный голос, окликающий его по имени. Оказывается, его искала медсестра.
— Куда вы пропали? Врач в гневе и говорит: если вы будете бродить, где захочется, он отправит вас в психлечебницу, и вы станете смотреть на мир сквозь решётки окна. От злости он стучит кулаком по столу… Пойдёмте скорее!
Сказав это, медсестра, не дав и слова молвить, подхватила его под мышки и потянула к больничной двери. Из-за быстрой ходьбы заныли бока и почки, отчего ко рту подкатила жёлчь и застыла комком. Он не выдержал и по дороге сплюнул на пол. Медсестра очень была недовольна этим.
Эх, как не хотят понять люди, что для него, привыкшего вольно жить на обширных просторах песков, вот этот узкий двор больницы, вот эта маленькая палата кажутся тюрьмой. Встанешь — продолговатый, сядешь — как сугроб; не сможешь лёжа свободно протянуть ноги, не можешь от души рыгнуть, когда хочется, нельзя ни громко разговаривать, ни от души посмеяться; попробуй только сказать, что пропитанная водой рисовая каша и овсяной суп — это не еда, а чёрт знает что.
Абориген устало вошёл в небольшую комнату и лёг на одну из пяти кроватей. И тут же к нему подошёл хромоногий больной и заревел от злости:
— Ты куда лёг, скотина? Это моя частная кровать!
Только сейчас он понял, что, будучи в расстроенном состоянии, по ошибке забрёл в чужую палату. И поняв, тут же постарался поскорее уйти, чтоб не связываться с этим типом. Пришёл в свою маленькую палату. Здесь его встретил дежурный врач со злобным, недовольным лицом, похожим на ангела смерти — Азраила.
— Вы что, — выдавил он посиневшими губами, — во время обхода болтаетесь где попало, лекарства, говорят, выбрасываете в туалет, ночью будите остальных больных, выкрикивая во сне «кайт, кайт! Шайт, шайт!». Плюс ко всему говорите, что сердце у вас болит и в чай крошите кусочки хлеба! Это что за наглость, что за беспорядок! Не знаю, что и делать с вами.
Так, ругаясь, врач положил Аборигена в постель. Поднял ему рубашку, скрестил руки, пощупал живот, бока, измерил кровяное давление, открыв глаза, посмотрел на зрачки. Уже выходя из палаты, добавил:
— У вас денег, наверное, много, поехали бы в столицу и полечились бы в платной клинике, может, вам не идёт на пользу больничный хлеб и белая перина постели… — Остановившись перед дверью и заметив длинные, худые ноги чабана, высунувшиеся из-под одеяла, удивился их невзрачному виду. — И как он только ещё не умер, — удивлённо проговорил он. Когда же его глаза встретились со взглядом Аборигена, он почувствовал себя неуютно, неудобно, как будто был в чём-то виноват перед этим несчастным чабаном. Не дай Аллах чувствовать такое! Втянув голову в плечи, он торопливо, словно убегая от опасности, быстро вышел из палаты и захлопнул дверь.
Как тяжело чувствовать себя одиноким, чужим в этом огромном мире, полном жизни и движения. Абориген долго лежал, уставившись в потолок. Бедный отец говорил: «Если и не увижу ничего хорошего в этой жизни, то, Иншалла, увижу в потустороннем мире». Он всю жизнь провёл за пастьбой скота. И эта мечта, и эта вера поддерживали его в самые трудные моменты его нелёгкой, полной мучений жизни. И ни разу он так и не покинул пределы холмов Абылуйгена.
Наш герой верил, что интересное и счастливое детство заключается в том, чтобы пасти овец, отделять ягнят и тем самым помогать отцу в его тяжёлой работе. В школе он постоянно получал только тройки и, учась посредственно, звёзд с неба не хватая, получил аттестат зрелости. Вначале он думал, что чабаны неплохо живут, раз пасут многочисленные стада, и надеялся на хорошее вознаграждение за свой труд. Но в первый же месяц он понял, насколько трудна их работа.
В знойные дни он жарился под раскалённым солнцем, да так, что из-под кепки обильно текли струйки пота, а через хлопчатобумажную одежду проступали солёные пятна. Сидя верхом на худой, обессиленной кляче, он продолжал жить вдали от людей на бескрайних просторах песков. Вначале он позабыл симпатичную одноклассницу, которую провожал в столицу на учёбу, её игривый серебристый смех, так приятно звучавший для слуха, потом позабыл и гул синеватых вагонов поездов, увозивших в далёкую столицу красивых, молодых, полных огня и задора аульных красавиц.
Однажды в июле он пас овец на вершине холма Абылуйгена. Он слез с коня, выпил кислого молока и немного задремал. Вдруг до его слуха донёсся звонкий смех одноклассницы, он поднял голову. Протерев глаза, посмотрел по сторонам… ему показалось, что он заметил стройную девушку в красном платье, которая шагала в горячем желтоватом мареве. Он встал и, суетясь, быстро побежал. На откосе он поскользнулся и полетел вверх тормашками. Поднявшись и успокоив дыхание, стал пристально смотреть на горизонт. И нигде не обнаружилни девушки в красном платье, ни её больших чёрных глаз. Вытаращив глаза и беспокойно озираясь по сторонам, он не увидел ничего, кроме жёлтого марева да песчаных холмов.
Тогда он лёг ничком и, взяв в руки горячий песок, заплакал горькими слезами. О боже! — подумал он. — Оказывается, я потерял не только девушку в красном платье, но и юность, потерял свою заветную мечту, а как она была хороша! Как легко мечталось в те далёкие теперь годы юношества, когда кровь бурлила в жилах и жизнь казалась такой прекрасной! Куда, о боже, подевались грёзы и фантазии, на крыльях каких птиц исчезли из глаз… Разве об этом мечтал он! Разве думал, что когда-нибудь будет лежать вот так на песке, и вдали от людей слушать надрывное завывание ветра. Он понял, что потерял не только девушку в красном платье. Он потерял главное — надежду на лучшую долю, на лучшие дни. Говорят, у русских есть одна мудрая пословица: «Если ты потерял деньги, ты ничего не потерял, если друзей — то потерял половину, но если ты потерял надежду — то потерял всё!» И лишь сейчас его сердце пронзила горестная мысль — он потерял надежду, а значит — всё. Потерял всё! Остался ни с чем…
Тормоша за плечи, от дум его разбудил сосед, лежавший рядом на кровати. «К тебе пришли», — сказал он.
Абориген продолжал бы растерянно сидеть, ведь не так легко прийти в себя после полёта фантазии, но тут открылась дверь, и в палату вошёл старик Калтак с маленьким морщинистым личиком и небольшой козлиной бородёнкой. Абориген очень обрадовался. Да и как не обрадоваться — прошло уже больше месяца, как он лежит на этой постели, а к нему не пришёл ни один человек и не спросил: «Ау, как твоё здоровье? Поправляйся, дорогой».
Сколько раз дома к нему в гости приезжал толстый, упитанный, как жирный бык, Ергенбай на тарахтевшем трёхколесном мотоцикле.
«Ой, Абеке, мы же родственники, дорогой мой человек, в наши дни щедрый господин не тот, кто даёт, а тот, кто получает. Ради Аллаха, дай мне барана на пропитание моей бедной семьи». Продолжая говорить, он укладывал в коляску жирного барана и, довольный, уезжал восвояси.
Абориген ничего не жалел для этого человека: «Ой, как тяжело ему приходится, бедолаге, жить в райцентре, глотать пыль. Пусть берёт. Думаю, не забудет родственный долг».
А его сосед по пастьбе овец чабан Есенбай такой жадный, такой хитрый, такой расчётливый — только увидит его, как тут же торопится к нему, радостно протягивая руку:
— Ау, Абориген, мой ровесник-курдас, исстари считается, что помощь соседу гораздо дороже далеко живущих родственников. Ведь если ненароком заболит голова и прихватит сердце, рядом всегда окажется сосед.
Выручай, дорогой мой, с утра бошка трещит, у тебя случаем не осталось от вчерашних гостей чего-нибудь подлечиться?— с лисьими ухватками и ужимками, мягко стеля словами, хитрец Есенбай выпивал, жрал мясо и уходил довольный, поглаживая набитое пузо.
«Ахау, луноликая моя, где же видел я тебя, ты же моё сердце разбила, жестокая моя», — так притворно напевая, Есенбай якобы в шутку щипал за ляжку его жену… Эй, да я и позабыл про его неравнодушие к женщинам, — спахватился Абориген — он, же сытый кот, может, и сейчас обхаживает мою луноликую жену, а!? Приезжает каждый вечер и поёт свои завлекательные песенки, скотина! Ревность, как серая кошка, вонзила когти в его сердце, и ему стало плохо от этих чёрных мыслей… Да ладно, Бог с ней, с этой безосновательной ревностью. Главное в другом. Где, спрашивается, его сосед Есенбай, в обычные дни весёлый и беспечный? Почему не приедет хотя бы один раз и не поинтересуется его здоровьем? А? А где же толстый, как бочка, Ергенбай, который так часто приезжавший в гости, чтобы что-нибудь увезти с собой приговаривая: «Щедр тот господин, который не даёт, а который берёт?» Что-то быстро он забыл про родственный долг! Ведь могли же они было привезти хотя бы лепёшку тандыра и спросить о его здоровье, это же не так трудно: на денёк вырваться из в областной центр в эту больницу. Э-э, я понял вас, мои дорогие земляки, ох как хорошо я вас понял! Вы, оказывается, думаете только о себе, живёте на солнечной стороне, купаясь в лучах солнца, довольные собой, расчётливые и хитрые. Что вам моя боль и мои страдания! Вы же так ловко пользовались мною, все вместе не стоите одного бедняги чабана Калтака, который самый бедный из вас, самый одинокий из вас, живущий тем, что пасёт частных овец. Ах вы, мои голосистые соловьи, мои голубки, мои сладкоречивые родичи и соседи!
— Идите сюда, дядюшка, — Абориген тепло и радушно пригласил тщедушного старика к себе на койку. Не смог сказать тому «Калтак» — это бы звучало как унижение. Суетясь, усадил аксакала на постель, сам расположился рядом. Калтекен, несмотря на свой маленький рост, жидкую бородёнку, бедную жизнь, был человеком весьма упрямым и гщепетильным, в случае чего, если чем недоволен он бы не поздоровался и с самим акимом области. Погладив седую бородку, Калтак сунул руку в карман, достал табакерку с нюхательным табаком, открыл крышку, с удовольствием понюхал, потом закрыл и положил обратно в карман. Абориген думал — вот сейчас старик чихнёт, однако нет, не чихнул, а участливо спросил: «Как ты? Ты, я вижу, совсем похудел, вон глаза впали в глазницы. Видать, не пошла тебе на пользу рисовая каша государства. Разве это еда?»
«Как в родных местах?» — спросил Абориген, наклонившись к аксакалу, неказистым что обрубком дерева сидел рядом, а на самом деле он хотел спросить о своём доме, оставшемся одиноким в песках. Упрямый старик неторопливо огляделся по сторонам, почмокал губами и только тогда сказал:
— Я 15 дней пас твоих овец в этой бескрайней бесплодной пустыне. Что за гиблое место, собаку привяжи — сбежит. С востока нагрянула песчаная буря, если бы не твоя жена, которая днём и ночью откидывает лопатой песок, то он бы совсем засыпал твой маленький дом по самую крышу. Колодец твой высох, теперь приходится питьевую воду доставлять на вездеходе издалека. Чиновники совсем растерялись, бедные… Ты, наверное, не слыхал, что небольшую часть отары Есенбая завалило песчаной лавиной, ведь это он спорил с тобой за пастбища с солнечной стороны, так всё это оказалось напрасным, пропал тяжкий труд бедняги.
В это время в палату вошла дежурный врач. Увидев старика в верхней одежде без халата, сидевшего на койке, подняла крик и выгнала его. Следом за ним, поплёлся и Абориген. Пройдя по узким коридорам, спустившись вниз по каменной лестнице, вышел во двор. Прошёл к привычной деревянной скамейке, где уже сидел Калтак, и расположился рядом.
«Скажите, отец, кто сейчас помогает пасти овец, — с нетерпением спросил он, — как жене одной бороться с песчаными бурями и кто будет пасти овец, как ей выдержать всё это?…».
«Когда я собрался ехать сюда, чтобы навестить тебя, то Мамырайхан сказал, что придумает что-нибудь… Ау, оказывается, я забываю тебя спросить: у тебя что за болезнь, что я скажу людям? Есенбай, твой одногодок, болтает всякое, якобы Абориген заболел проказой и сидит за железной решёткой под охраной вместе с другими больными в лечебнице недалеко от областного центра. Говорит всякую чушь без всякого зазрения совести, подлец».
Аборигену стало плохо, когда он услышал такие слова, будто кто-то навалил ему на грудь огромную льдину — так холодно стало на душе; у сплетника роток кривой, в наше время на рот не накинешь платок. На всех и платков не хватит!
Проказа — опасная болезнь, которая вот уже более двух тысяч лет никак не излечивается и стала настоящим бичом для человечества. Вначале она отравляет кровь. Хорошо хоть не передаётся по наследству. В наши дни в устье Сырдарьи, где она впадает в Аральское море, находится отдельный лепрозорий для больных проказой. Их около двухсот человек. Они выращивают овощи, пасут скот и живут по-своему тихой, уединённой жизнью. Им запрещено общаться с другими жителями тех мест. Этих больных врачи лечат препаратом, изобретённым английским учёным-медиком. Он называется сульфитрон и останавливает развитие болезни, делает человека незаразным. А всё-таки заболевший этим страшным недугом человек не может от него избавиться, живёт своей жизнью, даже обзаводиться семьёй, имеет детей. Удивительно, но факт: от больных лепрой родителей рождается здоровый ребёнок. Однако родившегося младенца тут же отнимают у больных родителей — только тогда малыш может расти в безопасности. В наши дни в этом лепрозории нет ни одного молодого человека. Самое удивительное — ни один учёный мира так и не смог выяснить причину возникновения этой опасной болезни.
Отец Аборигена в своё время говорил: проказа рождается там, где великая река впадает в море, образуя обширное русло. Где встречаются солёные воды моря и пресная вода реки, там поднимаются пары воды, рождается ветер и идёт дыхание вод.
Второе: эта болезнь возникает и от постоянного потребления в пищу рыбы. И если после еды запивать её молоком, то болезнь неминуема.
Так говорил отец. И разве не удивительно то, что учёные всего мира, не найдя причину возникновения проказы, нашли действенное лекарство, останавливающее дальнейшее развитие болезни.
…Аксакал Калтак вынул из-за пазухи пачку газет, перехваченных резинкой. Раскрыл пачку и, вытащив оттуда банкноту в двести тенге, протянул Аборигену со словами: «На, возьми, купишь себе айран или молоко. Всё равно у меня деньги не задерживаются, у меня дырявый карман. Как только сяду в поезд и доеду до районного центра, предо мной появится Мамырайхан, у него почти всегда одно и то же: давай сходим в ресторан, перекусим, и плакали мои денежки; после этого стоит только сесть мне в автобус «спичечный коробок» и добраться до аула, как аульные пьяницы пристанут: «Дядюшка, дай нам гостинец». После чего я вообще останусь без единой монетки. Правильно говорят, что холостой мужчина — всё равно что мешок с рваным дном. Что ни положишь — всё проваливается в эту дыру».
Аборигену интересно было смотреть на старика, когда тот рассказывал про свои горести. Кадык смешно двигался, глаза блестели, бородёнка дрожала. Так не хотелось отпускать его. Неожиданно раздался голос медсестры, прозвучавший на весь двор. Испуганно вскочив, Абориген сказал аксакалу: — Пусть будет вами доволен Аллах.
— И попросил дрожащим голосом: — Я буду всю жизнь перед вами в долгу, отец только прошу — будьте опорой для моей семьи, пока я не выйду из больницы. Прошу, будьте осторожны с Есенбаем. Он такой изворотливый, рукам волю даёт.
Калтак, моргая глазами, ничего не понял.
— Он же, гад, не пропускает ни одной миловидной женщины, — пояснил Абориген.
Кажется, до Калтака только сейчас дошло, что тот имел в виду.
— Брось, не хватало мне на старости лет охранять честь женщин, — буркнул он недовольно.
Аборигенрастерянно замолчал, не зная, что ответить, слова не шли в голову. Да и что он мог сказать: что ревнует молодую жену и от ревности места не находит, или сказать, что в те времена, когда был здоров, сосед, чабан Есенбай, частенько приезжал к ним домой под разными пустячными предлогами, что было весьма подозрительно.
Он пробормотал что-то. Всё посматривал на старика умоляющимглазами, а тот делал вид, что ничего не понимает. Пришло время расставания. Он довёл аксакала до ворот больницы и долго стоял на пронизывающем ветру.
Ночью он не мог заснуть, переворачиваясь с боку на бок. В голову приходили всякие мысли.
Вроде дверь была закрытой. Как она прошла мимо охранника — неизвестно, но в окне показалась жена с лицом, похожим на свежеиспечённый хлеб в тандыре, с округлыми щеками. Открыла форточку окна и раз — очутилась в палате. Оказывается, и такое чудо бывает! Подошла и села на край кровати. Он хотел было встать, но жена, приложив указательный палец к губам, сделала предупреждающий знак, как бы говоря: «Тихо, молчи, лежи смирно». Делать нечего, он повиновался.
— Эй, жена, — сказал он приглушённо, — я не буду тебя спрашивать, как ты проникла через форточку, скажи лучше прямо, не увиливая от правды: с тех пор как я болею, никто не прикасался к тебе, не поднимал подол твоего платья, никто не марал мою постель, скажи…
— Откуда мне знать, — сказала жена со вспыхнувшим лицом, опустив голову вниз, — сам знаешь, в песках водится множество ящериц, козодоев, камышовых котов. И ночью от жары, когда глубоко спишь, не знаешь, какая из этих тварей может забраться в нижнее бельё. Пустыня и ночью горячая, очень горячая, не знаешь, где душе приткнуться.
— Ау, золотце моё, ты в своём уме, я ведь не спрашиваю тебя о трудностях жизни в песках, как ты? Ты не совершила грех?
— Я целый день держу лопату в руках, откидываю песок от дома, всю ночь достаю воду из колодца и утоляю жажду овец, а тут ещё малые дети постоянно просят хлеба — это ещё одна напасть. А ты лежишь себе в прохладной палате, завернувшись в белую простыню, и спишь себе вволю, я же, бедная, не знаю ни сна ни отдыха. Иногда плачу от злости на свою злосчастную судьбу, — сказала она и, хлюпая носом, заплакала. С ресницы упала горячая слеза.
В окно лился полный свет луны. Аборигену стало очень жаль свою жену, сердце защемило от жалости. А что если посадить её к себе на колени и погладить рукой по волосам? И опять не смог этого сделать, так как раньше никогда этого не делал. И не заметил, как изо рта вылетели грубые, подозрительные слова.
— На зимовку никто из мужчин не заезжал, пока я был в больнице? В наши дни хоть и не найдётся человека, который бы помог чабану, но всегда есть мужчины, охочие до чабанских жён. Читаю книгу ли, смотрю кино ли, по телевизору всё одно — шустрые, ловкие мужчины так и валят на постель чабанских жён. Я не переживаю, что у меня могут украсть скот или вещи, старый сундук, десятка два овец; я горько плачу и переживаю, чтобы эти двуполе волки не вонзили свои зубы в самое дорогое мне — честь жены. Я тут постоянно вижу нехорошие сны.
— Если бы не пришёл аксакал Калтак, то было бы очень тяжело и безвыходно. Слава Аллаху.
Услышав эти слова, Абориген от души порадовался. Взяв руку жены, обнял и поцеловал её в округлые, уже начавшие увядать, щёки. И надо же… только сейчас он понял. Он думал, что его жена спрыгнула из окна к нему в палату и села на кровать — в действительности же это оказался всего лишь портрет жены. Вчера он, будучи в городе, подошёл к художнику и попросил его нарисовать портрет жены с маленькой фотографии. Принёс в палату и положил под подушку. А теперь достав, глядя на неё, разговаривал с нею как с живой. Было очень странно, что он целовал, нарисованный портрет жены. Если бы не ночь, то днём точно бы над ним от души посмеялись. Он испуганно посмотрел по сторонам, будто ему на лицо плеснули холодной водой. Он тут же спрятал портрет жены под подушку. Заговорил сам собой, тихо, приглушённо.
«Тьфу, тьфу! Наверное, меня ударил проклятый джинн. В наши дни только тот человек угоден Аллаху, который читает намаз, в ком есть человечность, тот, кто даёт милостыню. Завтра утром, пожалуй, дам несколько тенге в качестве милостыни старухе уборщице».
В это переходное время только тот счастлив, кто делает человеку добро, а не тот, кто это добро получает. Пусть у каждого из нас в душе написанное большими буквами понятие «я» вместится во внутренний мир человека. Хорошо если наше «я» не будет стремиться ставить себя выше других, не проявлять своё высокомерие, а наоборот наш внешний вид, наши поступки, дела, убеждения будут отличаться своей своеобразностью, своей индивидуальностью, скромностью — вот это радость, вот это удовольствие. Пусть внутренний свет человечности будет сиять на наших лицах. И пусть наше внутреннее зло не выходит наружу. Если говорят, что в здоровом теле здоровый дух, то он бы сказал следующее: у кого в душе есть сильный, добрый свет, у того лицо мягкое, доброе, и он человечен и скромен. Тогда само собой получается, что молодимый и тщедуший Калтак более счастлив, чем он, потому что тот, приехав издалека, спросил о его здоровье, тем самым поднял его настроение. Он хоть и маленько, но сеет вокруг себя семена добра, милосердия, человечности. Ругаясь со всеми докторами, съёживаясь, как каракурт, на которого брызнули водой, глядя на всех с подозрением, видя только подвох ото всех, поистине несчастлив наш герой. Он, бедолага, ревнует свою жену ко всем мужчинам, бьёт себя по лбу в тишине ночи, не зная, как она там в песках. Как ведет себя, не влез ли проклятый шайтан в её душу, не попутал ли бес, и не совершила ли она грех. Оказывается, самое страшное в этой жизни — неизвестность, когда ты доверяешь близкому человеку и не доверяешь, а всё от того, что нет никакой информации. Ай, Абориген, если будешь так мучаться, то истомишься душой, упадёшь духом.
Пришла медсестра, зажгла свет и сделала ему укол. Спросила:
— Вы чего сидите как напуганный, видели плохой сон?
Абориген что-то пробормотал под нос. Руками провёл по выбритой бритвой продолговатой голове. Холодно улыбаясь, засмеялся. На дежурную сестру эта беспричинная холодная улыбка, этот идиотический смех подействовали ужасающе, она с испугом выбежала из палаты и, войдя в ординаторскую, тут же схватила телефонную трубку и стала звонить дежурному врачу.
«Да-да, опять тот самый Абориген… имя-то какое несерьёзное… ночью, открыв форточку окна, хотел вылезти наружу… не даёт покоя больным… говоря откровенно, он не похож на человека здравого, в своём уме. Вытирает руки об мой халат, подмигивает и смеётся идиотским смехом».
Услышав такое, высокорослый врач потерял терпение, схватил фонендоскоп и поспешил в палату. Уложив строптивого больного приступил к осмотру. Спросил:
— У вас в семье ни у кого не было отравлений от еды или боязни покойников?
Наш герой пробормотал:
— Откуда мне знать?
— Снятся ли вам сны, слышите ли во сне громкое блеяние овец?
— Откуда знать?
— Может, присоединитесь к нервнобольным: у них жизнь по сравнению с нашей гораздо лучше— и еда вкуснее, и обслуживание и лечение — всё лучше. После того, как в той больнице вылечился сын народного депутата, там совсем стало хорошо.
Пристально глядя на Аборигена, дежурный врач, склонив голову к плечу, глубоко задумался. Глава города плачется, что не хватает койкомест в психиатрической больнице. С каждым годом увеличивается количество психбольных в три-четыре раза, а класть их некуда. Положение катастрофическое.
— Хорошо, если этой власти не нужен больной чабан, то я готов лежать в вашей психушке, — покорно согласился Абориген.
— Тогда напишите заявление на имя главного врача, только ни в коем случае не упоминайте, что это я предложил.
Дежурный врач вышел из палаты с довольным видом. Тем временем поднялись другие больные, покашливая, стали умываться. Аборигена одолели тяжкие думы: тогда что получается? Неужели и вправду его поволокут в психбольницу? Надо было, дурно, не слушать этого врача, кивая головой в знак согласия, а выразить протест. Казахов губит смирение, стоит только ему войти в характер, как червь впивается в спинной мозг, тогда всё будет высасывать дух, как пиявка кровь и пока не высосет, не перестанет. Разве дух его не иссяк, когда он прошёл перед множеством врачей, а теперь лежит в этой больнице и не знает что делать. Лежит, как главный гость, вот что ужасно.
Ау, дорогие, как протекает моя болезнь? …Что же это такое, что свалило меня с ног? — ведь мог бы спросить, а то он сейчас, что живой, что живой труп — одно и то же. А теперь как будто мало было им пичкать меня горьким микстурами делать болючие уколы, заставлять есть безвкусную овсяную кашу, так хотят ещё потихоньку спровадить подальше от себя, чтобы духу моего здесь не было. И такое насилие бывает, оказывается! Вот это проклятое смирение и довело до такого положения, когда на голову хоть солярку выльют, а слова не скажешь. Говорят, если человек попадёт в ту больницу, где суровая охрана, железные засовы, железные решётки, то всё — пиши пропало, кончен его дух; всю жизнь будут говорить про него, что лечился в психбольнице, и всякий здоровый человек будет относиться к нему с подозрением: «А в своём ли ты уме, дорогой мой?».
Абориген сел на кровати и стал кулаком бить себя по лбу, в отчаянии бормоча: «Ой, Боже, что со мной, что за напасть?! Хватит с меня вашей овсяной каши, хватит меня обмывать тёплой водой и спереди и сзади, как моютпосуду. Уйду в пески, освободите!».
Услышав это, остальные больные застыли в недоумении.
«Земляки меня посчитали конченым человеком, сравнили с мёртвым, скот мой пересчитали и забрали. Моя жена и дети, плача, остались одни в далёких песках. Освободите меня, рядом живущие!».
«Ау, Абориген, ведь только вчера приходил чабан Калтак, спрашивая о твоём здоровье. Он же сказал, что овцы на месте, что всё спокойно и всё в порядке, если не считать засыпанную песком кошару».
«Я никому не верю, и нашим «многоуважаемым» активистам, они только рождаются, их как тут же окунают в казан лжи, отчего они всю жизнь лгут. У Калтака же лишь слова утешения, он как разведчик, посланный выяснить моё состояние, только и всего».
«Ты маленько потерпи, вот придёт главврач, он и скажет что делать», — участливо посоветовал один из пожилых больных, призывая к спокойствию.
«Перед рассветом я видел плохой сон: моя жена, про которую я думал, что она отгребает песок от дома, вдруг явилась мне, соскользнув с месяца и стуча по окну, с плачем звала к себе. В песках камышовый кот, чёрные клещи не дают покоя, мешок муки, который мы брали в начале лета, кончается… Хватит мне здесь лежать, развалившись поглощая пищу здоровых и принимая уколы больных… Если обращусь к Ергенбаю, нашему врачу, то выздоровею».
«Әй, вы что здесь галдите, как стая галок, осенью собравшихся на вершине дерева?» — сказав это, главный врач в действительности вошёл в палату. Лицо у него было хмурое, голос властный. Позади высокорослый дежурный врач, лечащий врач, медсестры, в общем, целая группа, все внимательно слушают главврача.
— Квартира маленькая, всю ночь плакал внук, не давая выспаться, мне сейчас самому нехорошо, — признался главврач, садясь на край кровати. Положив Аборигена навзничь на постель, надавил на живот, на рёбра, измерил кровяное давление, пощупал пульс, перелистал историю болезни, толщиной в приличную книгу.
— Удивляюсь, — сказал он по-русски и покачал головой, — гемоглобин низкий, билерубин выше нормы, резус фактор отрицательный, с такими анализами другой давно бы умер, а этот каким-то чудом держится.
Высокорослый врач заикнулся было про психбольницу, но главврач изменился в лице и с гневом остановил его.
— Как вам не стыдно, — поморщился он. — Уж не забыли ли вы клятву Гиппократа?
На этом всё и закончилось, весь врачебный синклит вышел из палаты.
Однако чудо продолжалось — Абориген постепенно пошёл на поправку, на его лице заиграл румянец. Появился неплохой аппетит. Двести тенге, которые ему дал Калтак, он вручил старухе уборщице, чтобы она купила на базаре верблюжьего шубата. Открыв крышку посуды, в которую был налит шубат, долго нюхал ароматный запах. На лице появилось удовлетворение. «Здесь чувствуется запах песчаной колючки — зизифор душистой, верблюдица паслась в песках», — сказал он себе и затосковал по родным местам. В столовой взял пиалы, ковшик, немного взболтнув содержимое, нолил больным по пиале пенистого шубата. Оставшийся на посуде шубат вытер указательным пальцем и облизал. Пустую деревянную чашу взял в руки перед собой и, закрыв глаза, долго нюхал воздух, идущий из чаши. И заплакал — так ему было тоскливо. Долго смотрел в окно на далёкий горизонт. Как будто хотел что-то узнать у этого мира… как будто кого-то искал, сильно истосковавшись, искал что-то дорогое.
С тех пор он резко изменился. Больше не говорил ни об овцах, ни о своей жизни в песках, ни о жене. В воскресенье утром он встал, оделся, подошёл к дежурному врачу и попросил разрешения сходить в находящийся поблизости гастроном — купить чего-нибудь молочного; положив деревянную чашу в сумку, спустился вниз и, держась прямо, вышел за ворота на улицу.
3
«Я услышу слова благодарности и получу благословение от тяжелобольных, не поднимающихся с постели, если к чаю принесу молока и творога, чтобы больные могли вволю поесть», — с такой надеждой Абориген и отправился в магазин.
В руках у него была жестяная банка, которую он выпросил у старухи уборщицы, на ногах — старенькие ботинки одного больного, на плечах — невзрачный чужой пиджак, брюки же были собственными. Дул пронизывающий ветер. Аборигену стало холодно, так как ветер обдал его с головы до ног. На тротуаре валялся карагач, видимо, машина свалила, врезавшись в него, или специально повалили дорожные службы. Обойдя его, Абориген хотел было продолжить путь, но, подумав, вернулся назад. Поставив банку на асфальт, поплевав на ладони, он начал толкать дерево, намереваясь убрать его с дороги. Толкал, толкал, весь взмок, но не смог сдвинуть дерево. Устав, он прекратил это бесполезное занятие.
Внутри магазина продовольственных товаров было просторно, но людей было много и все жадно стремились к продавцу, как овцы рвутся напиться воды в жаркий день из лотка. Очередь стояла плотной массой, попробуй только пройти вперёд — вытолкнут враз как щенка.
«Дай посмотрю, что там продают», — подумал Абориген и вытянул было шею, чуть подавшись вперёд. Тут же толстая, рыхлая женщина, похожая на бурдюк кумыса, заорала громким голосом, пуще, чем если бы ей наступили на ногу.
— Әй, ты, морщинистый, неразумный! Где твоя совесть? Где твоя очередь? Куда прёшь, скотина? — заорала она на весь магазин. Абориген вначале сильно растерялся, не зная что сказать.
— У тебя нет стыда! — вопила женщина с неистовой злобой.
— Ай, терпение, терпение. Стыд у меня есть, я хочу узнать вначале, что продают, а в очередь встану потом, — объяснил он миролюбиво, по-русски, призывая к разуму, прося вникнуть в его положение. Женщина же не переставала ругаться.
— Вот такие, как ты, вместо того чтобы пасти скот, болтаются в городе, не давая проходу, не знают что делать, скоты, ишь как загорел, весь лоб в морщинах, бездельник!
— Ау, я ,кажется, не трогал вас.
— Эй, ты, что ты за человек, забыл, что ли, совесть и стыд дома?
— Ау, наверное, нет ничего плохого в том, чтобы спросить, что там продают?
От злости у него поднялось давление, кровь прилила к голове, сам он затрясся от гнева и как всегда, когда его душил сильный гнев, он не нашёлся, что вразумительно ответить, что сказать. Он не захотел руганью отвечать на истеричные крики злой, недовольной женщины… что-то пробормотал… что-то сказал невнятное, непонятное… Это кто-то услышал, кто-то нет, но никто не понял, о чём он бормотал. В конце концов, весь красный, похожий на общипанного петуха, вышел из очереди. Такого унижения, такого оскорбления он ещё ни разу до сих пор не слышал ни от кого. Ему было так плохо, что он готов был провалиться в какую-нибудь дыру в земле, если бы она была.
Ой, и эта называется жизнью, когда за какую-то мелочь, которая ничего не стоит, он услышал столько обидных слов, до костей аж пробрали её злобные слова: скотина, морщинистый, неразумный, загорелый бездельник. Только сейчас он понял, почему люди не радуются, не смеются; почему не доживают до семидесяти-восьмидесяти лет не болея и шагая по земле с гордо поднятой головой, здоровые и сильные — потому что не пускают друг друга, мешая дожить до преклонных лет, обижая друг друга, ненавидя друг друга, доводя друг друга до стрессового состояния. Готовы вцепиться друг в друга зубами, как цепные собаки. Он понял, что для человека враг не приходит откуда-то. Он рядом с тобой, возможно, живёт в одном доме, под одной крышей.
С такими неприятными мыслями он отошёл подальше и вытер испарину со лба. Посмотрел на банку, перевернув вверх дном. Вроде не видно ни одной дырки, кажется, эта злобная женщина говорила, что пробьёт жестяную банку. Поправив воротник, еле шагая, он пошёл дальше. Возле входа в другой магазин стояла ещё одна толпа. Помня печальный опыт, Абориген молча встал в очередь. Подошёл усатый здоровенный парень: «А, оказывается, здесь продают творог, мне это и нужно», — сказал он, поглаживая усы и встав за Аборигеном. Посмотрев на него исподлобья, Абориген окинул его взглядом, пытаясь определить, какой он национальности и где он мог его видеть. Усы были пышные у него , да и одежда хорошая.
— Я вышел с тренировки весь потный, — пояснил он, - теперь, наверное простыну.
Абориген заинтересованно спросил:
— Кем работаешь?
— Я мастер спорта! Сейчас готовлюсь к большим соревнованиям. Я мастер спорта по штанге! Если еда не будет калорийной, то не стоит и принимать участие в соревнованиях. Ай, это правительство всё пустило на самотёк: сам знаешь, что делать, по какому чабану нужна демократия — это всё равно, что собаке железо. Вместо того чтобы пасти овец и увеличивать производство мяса, масла,и других молочных продуктов, они разбрелись кто куда, увиливая от своего предназначения. Ай, у начальства нет глаз!
— Ау, братишка, не говори так. Ты думаешь, легко пасти овец в мороз и в жару? Что за слова? Ночью у чабана нет спокойного сна, днем нет покоя ушам от блеянья овец. Он вытеснен в безводные, безтравные места на край песков. Если не веришь, пойдём со мной в Кызылкум, и попаси баранов, тогда поймёшь, как я прав.
— Ты посмотри на него, я сам не раз видел чабанов, которые, отогнав овец на пастбище, спали дома до обеда. Собственных баранов больше двухсот. Едят свежее мясо, пьют густой айран.
— Ты что, с Луны свалился? Как чабан будет кормить своих овец, если не может найти травы для отары большого хозяйства? Как будет поить водой овец в пустыне? …Вот я чабан. Я еле кормлю десяток своих барашков, давая им засохший хлеб и отруби. В песках очень мало травы, где бы скот мог пастись, в колодцах нет воды, корова умирает от клеща, мы не живём, мы выживаем.
— Не верю, не верю! Чабаны вначале едят свежее жирное мясо, а посиневший тощак отправляют в город.
Стоявшие в очереди люди зашумели, загалдели: в наши дни у чабанов нет совести, в молоко добавляют воду, айран сгущают порошком, скотину, предназначенную на убой, пасут на верблюжьих колючках, чтобы повысить вес сдаваемой туши, а мясоот этого имеет неприятный привкус.
Дождавшись своей очереди, Абориген купил пять кусков сыра, завёрнутых в бумагу. Увидев мелко искрошенный творог, спортсмен громко закричал, как будто его ужалил каракурт.
— Ай, дорогие мои! Как я буду поднимать 300 килограмм железа после такого синеватого, сухого творога? Скажите, что это за еда для спортсмена, мастера спорта? Ай, я бы ничего не сказал, если бы всех работников сельского хозяйства взяли по списку и заперли в тёмную камеру. Чабаны и пастухи — все бродят перед университетами, говоря, что хотят выучить детей, а у самих карманы полны денег. Может, и ты приехал сюда, чтобы устроить сына или дочь на учёбу, а? — выпалил штангист, напирая на Аборигена. Абориген разозлился. Гнев обуял его:
— Таких, как ты, бездельников, зря поедающих хлеб, надо заключать в тюрьму! Ты поднимаешь штангу только для себя, чтобы увеличить свою физическую силу. Если ты не будешь поднимать железо, мир, что ли, изменится от этого, бездельник?
— Эй, что ты болтаешь, а! Скотина! Я поднимаю штангу для авторитета своей страны, народа, через штангу поднимаю её престиж, славу. А вот ты пасёшь овец для своей выгоды, только и всего!
— На тебе выгоду! На тебе железяку, что ты поднимаешь! — выкрикнул Абориген и накинулся на здоровяка. Ударил руками, банка полетела на пол.
Могучий верзила-штангист двумя ударами огромного кулака свалил с ног маленького, жилистого, худого Аборигена. Отступил в сторону, полагая, что с этим наглецом всё кончено. И надо же, этот хиляк и дохляк вытер окровавленное лицо и поднялся с пола. Тогда штангист опять свалил его мощным ударом кулака в челюсть. Творог, только что купленный штангистом, рассыпался по полу. Он наклонился, чтобы собрать творог, как вдруг под ухом зашумело от удара, обернувшись, спортсмен не поверил своим глазам: этот хиляк сумел опять подняться и ударить его по уху! И пытается ударить ещё раз. О, Боже, что за чудо! И хотя с разбитых губ капает кровь, он яростно кричит: «Умру на твоих руках! Умру на твоих руках!.. Проклятая городская паразитная шпана!». Схватив обеими руками его за воротник, штангист соединил руки и со всей силы нанёс удар.
«Ай, — подумал он, — будь у тебя хоть семь душ, но на этот раз ты точно конченый человек», — и отступил назад. Но опять не поверил своим глазам, когда увидел Аборигена, поднимающегося с пола.
— Хватайте его, хватайте его! — закричал он в ужасе. Абориген же, не зная, что с ним, живой он или мёртвый в этом мире, ничего не помнил. В памяти остался только, как рёв быка, панический голос штангиста: «Да хватайте же его! Хватайте!». И ещё он помнит, как, шатаясь, поднялся с пола, как будто его вытолкнула вверх скрытая пружина внутри тела. Дальше всё было как в тумане. Ему казалось, что солнце вроде уже не светит так тепло, как прежде, что оно вроде склонилось к вечеру, вроде какие-то люди, подняв, посадили его в машину.
Абориген пришёл в себя только в милицейской машине с зарешеченными окнами. Увидел, что лежит на полу машины во весь рост: кто-то в хромовых сапогах, в красном воротнике сидит у его изголовья и не обращает на него никакого внимания. Кости ломило от боли, словно их поместили в ступу и долго били пестиком. То ли месяц, то ли год назад он болел и искал хорошего лекаря по всему Казахстану.
Кто-то поднял его за подмышки и помог выбраться из машины с красной полосой, вот тогда его сердце забилось от радости, он подумал, что это тёплые, ласковые руки народного целителя. Рослый мужчина в сером мундире провёл его через длинный коридор и ввёл в большую комнату. И, ни слова не говоря, снял с Аборигена кожаный ремень, отчего брюки свалились до колен, пришлось подтянуть их и держать руками:
«Ай-ай, это что за насилие? Пришло время принимать лекарства, у вас нет прав заключать невинного человека в тёмную камеру!» — возмутился Абориген, но его некому было слушать. Милиционер, который привёл его сюда, не сказал ни слова и вышел, захлопнув дверь.
Абориген же вскочил и, придерживая брюки одной рукой, заходил по комнате. Голова болела.
«Куда подевался этот подлец с пудовыми кулаками, поднимающий тяжёлую штангу?» — говорил он себе, — негодяй знает не больше тупого быка, хоть и человек. Живя в уютной благоустроенной городской квартире, питаясь жирным мясом, с утра до вечера поднимая в своё удовольствие тяжелую штангу он, конечно же, доволен своей жизнью. Еще и упрекает кого-то, будто делает какое-то полезное обществу дело. Будто если не будет поднимать тяжести, то мир развалится на части! Оказывается, по его словам, наша обязанность состоит в том, чтобы мы, сами не ев и не живя впроголодь, отправляли спортсменам жирное мясо, густой айран, масло и творог. Это мы-то, переносящие все тяготы жизни в раскалённых песках, с таким тяжким трудом пасущие овец на безводных землях. Ой, до чего же доходит тупость людская!
И вот стоная в душе, упав духом, он заметил в окно, что солнце значительно опустилось и свет его начал меркнуть. Через некоторое время открылась дверь, вошёл тот самый милиционер, подняв его, привёл в следующую комнату. Видимо, это был кабинет следователя. Хозяин кабинета — с горбинкой на носу, с пожелтевшим лицом, сидевший за длинным столом, заваленным бумагами, бегло улыбнулся. В полутёмном углу сидел, опустив голову, штангист. Абориген посмотрел на него с подозрением, сердце замерло в нехорошем предчувствии. Горбоносый, взяв ручку и подвинув к себе листок бумаги, начал допрос.
Следователь: Кто из вас начал драку в магазине?
Абориген: Я не помню отчего и как началась драка. Однако потерпевший — я, это могут подтвердить свидетели. У меня выбит зуб, разлито молоко, раздавлена банка. Да Бог с ними, раны заживут, меня потрясло другое: он обозвал чабанов хитрецами, бездельниками, дармоедами.
Следователь: Говоришь, что лечишься в больнице, тогда зачем ходил в гастроном?
Абориген: Мне разрешил врач. Было, невмоготу есть больничную кашу, и я решил что-нибудь купить съестное, для чая молоко, и пришёл в магазин. И надо же, очередь начала орать и отзываться плохо о чабанах, ставших похожими на шакалов, втиснувшихся в середину отары, отчего бедные овцы с испугом разбегаются в разные стороны. Вот эти слова для меня ещё хуже, чем просто ругань. Да какое право они имеют, не зная чабанской жизни, так плохо говорить о нас? А ведь ещё требуют — давай мясо, давай молоко, давай шерсть. Вот это и взбесило меня.
Следователь: Я позвонил и узнал, что ты действительно болен. Но за нарушение общественного порядка ты должен заплатить штраф.
Абориген: Пусть штраф платит штангист!
Штангист: Вот этот дохляк, подбежав ко мне, пнул ногой в живот.
Абориген: Он сказал, что чабаны хуже скота.
Следователь: А ну-ка прекратите!
Абориген гневно подумал: «То, что говорит этот следователь — игра. Вот я сижу весь избитый, потеряв зуб, наверняка получив сотрясение мозга, а вот у штангиста, избившего меня, всё в порядке, права всё-таки пословица, гласящая, что кинутая палка обязательно попадёт в беднягу. Пойдёшь в степь — изобьют, пойдёшь в город — тоже изобьют! Давно, говорят, мой предок, не выдержав притеснений бая Байтугеля, ушёл в Коканд. Выбрал жену из узбечек и стал дехканином, взяв в руки кетмень. Дед же после того как у него отобрали единственного коня и единственную корову, обозвав кулаком, обиделся и сказал: «Что же это такое? Мы же слышали, что власть на стороне бедняков, что она хочет процветания беднякам, а тут наоборот забирают всю живность».
Крича во весь голос, что справных хозяев середняков сравняли с бедняками, он уехал из тех мест. Отец сорок лет пас колхозных овец, получил единственную медаль, перед смертью только раз его похвалили в районной газете. Отец сегодняшнего Мамырайхана, заявив моему отцу: «Обмывай хвалебную статью в газете, притащил с собой из районного центра целую ораву активистов, и они целую неделю пировали в песках, охотясь на фазанов и съев шашлык из мяса двух нежных, полугодовалых ягнят. Сам же я только два года назад стал, досыта питаться, и у меня появился честно нажитые десяток овец. Как говорят, куда ни ступишь — везде беда, как тяжело переносить эту проклятую болезнь, что как жадная пиявка присосалась к телу. Как будто этого мало, ещё и схватился с этим безумцем штангистом, потерял зуб, это как ещё один удар кулака упавшему человеку. Ай, и чего это я переживаю! Где бы я ни был, хоть в тюрьме, государство везде даст жидкую бесплатную похлёбку, буду лежать на железной кровати. Тогда пусть идёт всё прахом, буду лежать как хан!».
Штангист размышлял: «я опоздаю на вечернюю тренировку. Ай, собака, и зачем я только сцепился с этим дохляком, похожим на дворняжку? Эти чабаны используют общественный скот как частную собственность, сосут молоко коз как козодои, живут в отдалённых местах, кормясь скотом, и становятся такими же дикими, как их скот. У них душа находится не в теле, а в оставшемся скоте. Обычно, когда я бью два раза своими железными кулаками, то любая, даже самая крепкая шпана валится замертво, если и не замертво, то только на другой день еле приходит в себя, благодаря Аллаха, что осталась в живых. Этому же всё равно, только наглеет. Если хочешь их победить, надо отобрать у них скот, если лишатся скота — лишатся боевого запала — будут говорить смиренно, тихо, с опаской, и в конце концов у них кончится боевой дух. И они сдадутся на милость победителя. Лишь бы был жив и здоров мой отец-начальник, уж он-то вытащит меня из любой беды, а всё же тяжело сознавать, что не исполнится обещание, данное вертлявой девушке, похожей на обезьяну, что встретится вечером с ней. И на тренировку опоздаю, и денег в кармане останется мало. Как же буду танцевать с той вертихвосткой? Сильно разбил пальцы ног, ударив по чему-то твёрдому, и в драке этот дохляк вцепился зубами в указательный палец. Придётся, шайтан его побери, перевязывать рану».
Следователь, помрачнев, кашлянул в кулак: Надо что-то предпринять. Но что? Повернёшь сюда — бык сдохнет, повернешь туда — арба сломается. Я же знаю, что у дохляка чабана в кармане нет ни одной монеты. Его запри хоть на семь дней в тёмном карцере, не найдешь пользы и на семь тиынов, только один убыток государству. А вот отец штангиста — глава городской администрации. И если он узнает, что я задержал его избалованного сынка, допрашивал и требовал уплаты штрафа, то мне явно не поздоровится, жди беды. Кто я и кто он? Я же хотел пойти к нему на приём и попросить квартиру, а тут буду виноватый и вполне могу лишится работы. Что я? Даже такие известные, знаменитые депутаты Гдлян и Иванов страстно искали правды и справедливости, и что в конце концов нашли? Да ничего, только ушли в забвение и не отыскали дорогу домой. Где правда?… Где правда? — кричали аульные дети, и им мудро отвечал старик Калтак: «Правда находится в кармане богатого человека, в шляпе нашего важного управляющего». И вот важный, гордо ступающий управляющий, когда его сняли с поста, горько заплакал, теребя и разрывая свою бархатную кепку и горестно крича: «Я не нашёл правды. Где она, где она?». И какую же правду он ищет? Нет, пока всё хорошо, поступлю-ка я умно: не буду болтать лишнее, а возьму да и, поругав этих глупцов, выгоню их из кабинета».
Абориген: Слышь, ты случаем не младший брат Мамырайхану? Я это вижу по твоему лицу. Я слышал, что ты женился на корейской девушке и живёшь в городе. Короче говоря: мы же родственники, если ты мужчина, то разберись, пожалуйста, в этом деле, кто прав, кто виноват, и приложи все силы, чтобы виновный оплатил сполна и выбитый зуб, и поруганную честь. Так и сделай, дорогой мой!
— Остановись! — заорал следователь и ударил по столу кулаком, — сгною в тюрьме! …Ты, несчастный чабан, дерёшься на улице с кем попало, нарушаешь общественный порядок, отнимаешь у меня драгоценное время, за всё это ответишь перед судом, скотина! …Эй, братишка, ты подпиши этот протокол, да и иди себе, свободен, до каких пор будешь учить культуре вот таких дураков, приехавших из аула! Культура им не нужна и во сне не снится. Слышишь, что говорит глупец: хочет сделать меня своим родственником, спрашивая о моих предках до седьмого колена. Подальше, подальше от меня!
Услушав такие речи, наш чабан страшно удивился и пал духом. Подумал растерянно: я, наверное, сошёл с ума, понадеявшись на этого следователя, думая, что в его лице ним я найду правду и справедливость, что с лихвой верну и выбитый зуб, и избиение этим хулиганом-штангистом. Я если и не дурак, то наверняка глупец. Давно наш великий предок аль-Фараби написал: «Бывает город с добрыми, вежливыми людьми. Они всегда говорят, вначале посмотрев на настроение собеседника, никогда не перебивают без надобности, если кто-то обидел кого-то без вины, то, найдя виновного, перед всеми людьми доказывают его вину и только после этого наказывают. Отдают плату слабым. У этих людей, созданных из добра и милосердия, видны сердца через рубашку, места, где они ходят, похожи на райский благоухающий сад». Наш герой думал, что областной центр — это один из городов добра и милосердия. Что здесь не смотрят на национальность, живут по правде и справедливости, кто прав делами и словами, тот всегда в почёте и уважении, здесь давно уничтожены и насилие, и воровство, и проституция. В действительности, оказывается, человека труда могут за высказанную правду и кулаком избить, и обругать всякими словами, и кровь пустить из носа.
Один больной, лежащий с ним в одной палате, при поездке в город был обворован, ему разрезали карман и утащили кошелёк с деньгами; во дворе областной больницы был один киоск, продавец киоска — толстая женщина, если с ней поговорить тонко и осторожно, то она за деньги на одну ночь найдёт вам молодую девушку — об этом он не раз слыхал от больных. Ой, что за мир! Эта власть не хочет, чтобы люди жили правильно, наказывая за неправедные дела и исправляя оступившихся. Или не хватило сил, и уставшее правительство махнуло на все рукой, так и не добившись правды, не достигнув её дна? А что если написать про всё насилие, учинённое надо мной в этом городе, и пойти к большим начальникам за правдой; однако где у меня и бумага, и перо? …Я лежу в больнице, и если главный врач узнает, что я брожу вне пределов больницы, да ещё дерусь в магазине, то он точно придет в ярость и отправит меня в психбольницу. Нет, лучше я побыстрее уйду домой. Пусть моя душа станет милостыней совести, вижу, что я хоть и десять лет буду жаловаться, но так и не смогу добиться возмещения за выбитый зуб.
С такими мыслями Абориген поднялся со стула, стряхнув пыль с брюк и сжав руках кепку. Только сейчас заметил, что штангиста и след простыл, когда исчез — неизвестно. Переминаясь с ноги на ногу, вяло и нерешительно сказал:
— Младший брат Мамырайхана, у меня нет денег, чтобы заплатить штраф. Я устал, и перед тобой стоит только тень слабого человека. Если выйду на улицу, то не найду больницы, если есть место, то я хотел бы поспать. У меня болят виски, голова кружится.
— Уйди, уйди! — крикнул тот с яростью. «Наверное, я попал в идиотское положение, — подумал следователь, — как теперь выбраться из этого тупика? Если сейчас возбудить дело, составив протокол и отправив этого чабана в тёмную камеру, то не поздоровится от лечащего врача. Он же сразу скажет: «Ты что делаешь? Огромного, сильного, с железными кулаками штангиста отпускаешь на свободу, а тихого, слабого, чуть не умирающего чабана задерживаешь. Это что за насилие, что за беззаконие!»
Зазвонил телефон. Подняв трубку, следователь приложил её к уху. Раздался холодный, повелительный голос, будто обдавший ушатом холодной воды. Следователь тут же внутренне подтянулся. «Да-да, некий спортсмен опоздал на тренировку, да, у него оторвана пуговица… Да, я понимаю!.. да, боремся с хулиганами!.. Да, стало больше наркоманов, больше пьяниц на улицах города! …конечно, удалим из города, чтоб духу их не было», — заверил он, извиваясь, как змея, перед собеседником, рабски поддакивая и утверждая, что всячески борется с антиобщественными элементами. Достав из кармана платок, вытер пот со лба, посмотрел на Аборигена злыми глазами. И, положив трубку, всё не мог успокоиться. Быстро поднялся и, оставив на месте свою тень, отошёл в угол кабинета и сел на стул. Внимательно посмотрел на свою тень. Взглянув на себя глазами постороннего, возненавидел самого себя.
«И разве это жизнь? — сказал он про себя. — До каких пор я буду унижаться перед каждым начальником? Почему не ищу справедливости? Ведь можно же было обвинить вот этого спортсмена-штангиста в избиении простого человека труда, возбудить уголовное дело, составив протокол. Однако стоило узнать, что он сын главы города — и всё, весь дух вышел. Стал мягким, дряблым, как шар, из которого выпустили воздух. Сразу стал подхалимом. Виновного признал невиновным и отпустил на волю, а вот простого беднягу-чабана обвинил.
И тут опять зазвонил телефон.
— Дорогой мой, — услышал следователь властный голос, — ты что это безобразничаешь? Посадил, понимаешь, мастера спорта в зарешеченную машину, как какого-то преступника. А он отстаивает честь народа! А?!
Следователь растерялся.
— Второй раз не делай так. А не то можешь распрощаться со звёздочкой на погонах!
Следователь разозлился. «Попробуй после этого построить демократическое, правовое государство! Виновного нельзя признать виновным, преступника — преступником, а оступишься — лишишься звёздочки на погонах». Слово «звёздочка» ударило по нервам — как камень по гире. Ведь все его думы были как раз про звёздочки. Непростой ценой они ему достались. Ради них он оставил родные места и приехал сюда, скитался по квартирам: кто поймёт его мучения, кто примет их во внимание? В гневе он ударил по столу кулаком.
Сидевший за столом его двойник, его тень, спутник по жизни испугался и, поднявшись, мгновенно исчез. Сам же он заходил по кабинету крупными шагами, как медведь в клетке. Бросил взгляд на бедолагу чабана, сидевшего возле двери. И тут вся ярость обрушилась на этого простака, на этого дохляка, как будто все беды пришли от него.
— А ну-ка исчезни, быстро!
Вначале Абориген не понял, в чём дело.
— Что, не будете брать штраф?
— И штраф тебе, и заявление тебе! Исчезни отсюда, ичтоб духу твоего не было!
Абориген тут же выскользнул за дверь При выходе на лестнице он зашатался и, чтобы не упасть, схватился за перила. Только сейчас почувствовал спазмы желудке. Вспомнил, что с утра ещё ничего не ел. В голове шумело, перед глазами всё плыло как в тумане. Лёгким не хватало воздуха. Через некоторое время он почувствовал себя лучше, перешёл улицу и очутился в маленький скверике. Гул машин начал потихоньку стихать в ушах. Медленно добрёл до деревянной скамьи и сел.
Сквозь листья деревьев просвечивали красные блики заходящего солнца. И что у него за привычка: стоит только увидеть закат солнца, как в голову приходят всякие мысли. Что я сделал? Кому сделал добро, кого обогрел теплом души? Стоит только задать один вопрос, как тут же возникает с десяток вопросов и каждый из них требует ответа, теребя душу, как расчёска, продирающая сквозь густые волосы. Ему захотелось спрятать лицо в ладонях и горько заплакать.
Через некоторое время поднялся с места. У одного из прохожих спросил, где находится областная больница, и, сев в автобус, долго ехал. В сумерках добрался, наконец, до знакомого здания. На воротах дворник-старик сообщил ему плохие новости, мол, тебя ищут по всем моргам, по всем больницам, звонят по телефону с утра до вечера.
Осторожно, боязливо он прокрался на второй этаж и вошёл в свою палату. «Кажется, никто не заметил, как я пришёл», — с облегчением подумал он, ложась в постель, и тут на тебе — его обступили больные, как будто увидели дикаря.
— Куда ты пропал?
— Говорят, ты перед магазином обругал представителя власти и порвал ему воротник.
— Если узнает главный врач, то тебе не поздоровится.
— А что ему ещё делать?
— Он скажет, нам не нужны боксёры, а нужны больные, и, дав пинка под зад, выгонит из больницы.
— Разве и не вылечившегося больного можно выгонять из больницы?
У Аборигена поднялось давление, затошнило, вскочив с места, он побежал к умывальнику. Открылась дверь, вошла уборщица, попросила отдать её посуду, которую она дала ему утром. Абориген, не зная что сказать, растерялся. Когда он выходил из больницы, то правда, у него в руках была не то жестяная банка, не то эмалированная кастрюля, не то деревянная чаша. Он же стоял в очереди в продовольственном магазине, голову припекло солнцем, схватился со спортсменом-штангистом, ругался, потом, не выдержав, в гневе порвал ему воротник. И он не знает, где сейчас её посуда.
— Тётушка, я потерял вашу посуду, взамен куплю вам другую, — виноватым тоном произнёс он.
Посмотрев на горящие красным огнём глаза, на бледное, измождённое лицо больного, испугавшись его лихорадочного вида, напоминавшего психически больного, старуха, ни слова не говоря, повернулась и выскочила из палаты.
Абориген подошёл к постели и, почувствовав, как опять заболел желудок, скорчился и лёг на кровать. Как сквозь туман ему послышалось, что рядом стоявший больной что-то ему сказал, назвав по имени, но он ничего не понял; вроде, подошла медсестра, но он и её не видел. Слышал только возле уха громкое блеяние овец и порывы свистящего ветра.
Абориген, лёжа на белой простыне, глубоко задумался. Глаза закрыты, а мечты витают и витают: будто он пасёт каракулевых овец, они морозоустойчивы, терпеливы к жажде. На севере мелкий скот находится в кошарах целых шесть месяцев, расходов на них очень много. Все деньги: и вода, и корм. На юге же овцы находятся все 12 месяцев на пастбищах. На берегах великой реки нет уже тех пышных, сочных лугов, что были раньше. С тех пор как исчезла вода, всё пришло в упадок, и овцы, и лошади ушли в пески. В тёплых помещениях остались только коровы. В тех местах, где раньше не ступала нога человека, на барханах меньше стало саксаула. Люди в поисках дров не оставили ничего, даже ни одной тонкой былинки, будто срезали волосы острой бритвой. В те годы, когда в песках выпадает мало дождей, не растёт трава рогач, заячья кость, в русле реки мало воды — это настоящая катастрофа.
В наши дни овечий надел давно стал похож на оставшееся имущество у раскулаченного бая. Овцы отогнаны от хороших пастбищ и загнаны в пески. Благодатные почвы присвоили земледельцы, а что осталось от них, там другие виды животных. Только и видишь в голой степи, как бедные овцы бегают, лишь частично утолив жажду привозной водой, и ищут чего-нибудь поесть — хоть рогач, хоть колючку. И всё блеют, блеют. И слыша их блеяние, хочется заткнуть уши пальцами и бежать куда глаза глядят.
Подняв голову, Абориген сунул руку под подушку. Достал блокнот. Тот немного потрепался, пропах маслом. Поплевав на указательный палец, он стал листать блокнот. Здесь было всё хорошо записано: в 1984 году по республике было 36,5 миллионов овец; это означает, что с них стригут каждый год 107,9 тысяч тонн немытой шерсти, 58,8 тысяч тонн очищенной шерсти, живой вес составляет 360,8 тысяч тонн мяса. С южных хозяйств каждый год берётся 2,5 миллиона каракулевых шкурок, однако мы очень снизили качество каракулевых овцематок, давая им лекарства, произведённые из крови кобылы, отчего шкурки с этих овцематок стали неприглядными и утратили высокое качество. В последнее время, спохватившись, перестали применять это лекарство. В 1990 году количество овец снизилось до 29 миллионов голов. Если внимательно присмотреться к цифрам, то получается, что каждый год количество овец по республике уменьшалось на 1 миллион голов. Почему так? Это не такая проблема, чтобы ломать сильно голову. Она очевидна и лежит прямо на поверхности. Это нехватка хороших пастбищ для овец, которые с каждым годом все уменьшаются и уменьшаются. Это распахивание плодородных земель, где раньше было много воды и богатых пастбищ. На оставшихся землях пасутся стада коров.
На земли, где много водится каракуртов и клещей и нет зелёной травы, отогнаны каракулевые овцы. И вот за этими неугомонными животными, как тень, ходит около одного миллиона казахов, терпя нужду и трудности, ища питьевую воду и корм, страдая и мучаясь, плача и терпеливо перенося все беды кочевой жизни.
В горле у Аборигена стало сухо, перед глазами поплыл туман. Он выпил стакан виноградного сока, принесённого медсестрой, на лбу выступил пот, и чем дальше он перелистывал блокнот, тем сильнее он чувствовал тяжесть на душе. Ещё в прежние времена, когда он ездил в столицу на съезд животноводов, то зашёл в Министерство сельского хозяйства, разговаривал со специалистами. И вот что они поведали: по республике на каждую овцу в среднем расходуется 50 рублей — это плата за один год по расходам на корм, воду, расходы по кочёвке и по ремонту кошар. В конце года при подсчёте дохода от мяса и шерсти каждая овца приносит 61 рубль. Если от этой суммы отнять 50 рублей, то останется 11. Чистая прибыль от овцы составляет 11 рублей!
Эта же великолепное достижение, сродни подъёму на вершину высокой горы! Посудите сами. Пасти скот на невероятных условиях, в безводных и пустынных землях, куда завозится сено, на жаре и ветру, не дать уменьшиться количеству овец, наоборот, дать от каждой овцы по 11 рублей чистой прибыли — это поистине прекрасный результат. Абориген тогда испытал от этой цифры большое чувство радости, словно альпинист, вскарабкавшийся на самый пик высоченной горы, это мощная позитивная энергия, идущая прямо в сердце. Но потом с каждым годом стала повышаться себестоимость каракулевых овец, и нет силы, которая уменьшила бы ее в соответствии с возможностями хозяйства. Затем всех аульчан стали убеждать в необходимости перейти на аренду. «Что ж, посмотрим, станем как все, чем я хуже других», — сказал тогда себе Абориген и, взяв в руки блокнот, подсчитал все годичные расходы по кормам, по сену, по воде, машине, расходы по перевозке, и получился у него очень небольшой доход, который и доходом-то нельзя назвать. Не то что шиковать, даже поесть-то вволю не удастся.
«О, оказывается, то, что я заработаю непосильным трудом, весь в поту, мучаясь и страдая, не хватит, чтобы прокормить жену и детей, как же я буду арендатором, как выживу?» — изумился он и мрачно уставился на землю. О Боже, что за жизнь, что за времена!
Опять перелистал блокнот, не слушая слов рядом находившихся людей, будто читая Коран, стал говорить шёпотом:
«Зачем обозревать далёкое, достаточно переместиться в свою кошару: вот где цифры, вот где живые головы! В его отаре было тогда семьсот овец, каждый год в среднем с одной овцы настригалось три килограмма шерсти. На отару это выходило 200 килограммов чистой шерсти, каждый килограмм шерсти продавался заводу по 15 рублей. С одного килограмма шерсти получалось ткань на два костюма. От семисот овцематок в год в среднем рождалось тысяча ягнят; каждый ягнёнок в четырёхмесячном возрасте весит 20 килограммов. Так, килограмм мяса по цене 2 рубля — тогда с одного ягнёнка берётся 40 рублей. Эти 40 умножить на тысячу ягнят — получается сумма в 40 тысяч рублей чистой прибыли. От мяса и шерсти овец выходитсемьдесят одна тысяча пятьсот рублей. А каковы были заработки?
Теперь старший чабан его помощник и сакманщик получали платят в месяц по 100 рублей, — с каждой овцы приходилось около пятидесяти копеек. Троим за год начислялось по три тысячи шестьсот рублей зарплаты. В конце года, если положить на одну чашу весов все расходы по отаре, а чистую прибыль на другую чашу, то выходило дополнительно ещё семь тысяч рублей. Бедняга-чабан, который весь год пас овец в невыносимых условиях, получил на руки свою долю, иногда — больше, иногда меньше. В среднем пределах семи тысяч рублей.
Не лучшее положение и сейчас. Годовой доход чабана за год составляет 10 тысяч тенге. А в казну государства поступает чистой прибыли 60-70 тысяч тенге. Соотношение 10— 70! Разве это справедливо? Бедолага-чабан остается обманутым.
Закон рынка гласит: надо меньше расходовать и больше получать дохода. Веление нового времени: работай много и думай, ищи пути как разбогатеть. Разбогатеешь тут, как же. Из-за низкой зарплаты никто не хочет идти к чабану в помощники, приходится ему одному тянуть свою лямку. Приводит он вечером отару с пастьбы, падает от усталости на войлочную кошму и чуть подремав, идёт сторожить овец на всю ночь; жена в это время смотрит за домом. Когда человек рано встает и поздно ложится, плетясь целый день за баранами как тень, он становится манкуртом, ни о чём до конца не думающим, ничем не интересующимся, не радующимся и не горюющим.
Оказывается, он много лет не видел на скатерти ни овощей, ни фруктов. Ел испечённый хлеб, набивал живот сурпой с мелко нарезанным тестом, да ещё и благодарил судьбу за эту пищу, удовлетворяясь такой жизнью. Помнится, ещё в конце неудавшейся перестройки, когда он впервые сильно заболел, то велел жене указание жене — открыть старинный сундук. В поисках денег он перевернул все и всё еле нашёл двести рублей. Тупо смотря на купюры и осматривая её со всех сторон, вдруг завопил:
— Где мои сотенные бумажки, которые я получил в конце года в качестве доплаты?
— Ты что, с ума сошёл, дорогой мой? — обиделась жена. Ведь ты же сам сказал мне, что сотенные и полусотенные бумажки будут менять на мелкие деньги и, положив все деньги в торбу, сел на коня и увёз их в райцентр. Через три дня вернулся, повесив голову, крупные деньги обменял на мелкие, часть истратил, на часть похмелился и привёз совсем немного.
Услышав это, Абориген замолчал, как будто ему в рот затолкали песок. Хотя сделал грозный вид, но про себя вспомнил свою вину и, вспомнив, сразу же сбавил тон и притих. Да, его поздка для обмена денег была явно неудачной. Оказывается, была создана комиссия по приёму крупных купюр от людей. Председателем комиссии стал Мамырайхан. Он, как только увидел Аборигена, стал его ехидно задевать, обзывая «бай-еке», увидев шесть тысяч рублей, вытащенных из торбы, счёл, что этого слишком много, стал выспрашивать: «Где взял? Сколько времени собирал? Мы не сможем такие деньги обменять на мелкие в течение двух дней. На это у нас нет возможности, — в конце концов заявил он, отбиваясь от Аборигена. В общем, только половину всех денег удалось обменять на мелкие в указанный срок. Остальные купюры временно остались у комиссии, мол, посмотрим, проверим, напишем наверх. Словом, положили дело в долгий ящик. Мамырайхан выпросил немало рублей, сказав: «Мне не везёт в карты, оставь немного для игры». Ещё взяли с него значительную сумму помощи для проведения сороковин Амантура. Устав от хождений, Абориген купил три бутылки водки курдасу-одногодку Есенбаю, крепко вынул сам, председателя комиссии, и приехал домой похожим на чучело, набитое соломой и сидящее на коне. Жена еле признала мужа. Да, всё прошло, и это была жизнь, и это было в прошлом.
— Ергенбаю, который сделал обрезание сыну, ты дал триста рублей, сказав, что это то, что руки у него умелые; обмыва целую неделю хвалебную статью о тебе в газете. На это ушло семьсот рублей, сколько я говорила тебе, мол, хватит, перестань, ты наоборот, расщедрившись, всё требовал нести водку. Хомут бедности так и не свалился с моей шеи, кому пойду и расскажу про своё горе, про свою бедную, бесприютную жизнь?— с горечью сказала жена и стала протяжно голосить.
— Хватит, не заводись, плохая примета! После этой поездки, дай Аллах вернуться здоровым, даю слово, буду собирать деньги и хранить их с большим искусством.
Он не забыл, как в тот момент зарыдала жена, дав волю слезам. Звук её голоса раздирал душу, как стук молотка, бьющего по жести.
— Ай, я смотрела за твоим еле тлевшим очагом, ухаживала за твоими детьми и очень долго не ездила к своей родне. Давно уже не была в городе. Перед женитьбой мы только один раз были в кино, и то на середине сеанса ты захрапел, уронив голову на грудь. От стыда я была готова провалиться сквозь землю.
— Ай, не кричи истошнымголосом и не зови беду. Вот увидишь — поправлюсь — начну жизнь по-новому. Одену тебя как султаншу в шелка и бархат, будешь искриться как лисица, вывалявшаяся на снегу.
— Не верю и не хочу верить! Наверное, вместе с тобой и я исчезну, не выдержав этой безрадостной жизни.
— Ай-ай, сколько тебе говорить — не поднимай голос на мужчину!
В последнее время у него истрепались нервы, от всякой мелочи разгорался гнев. От незначительного слова закипала злость, и глаза смотрели враждебно. Вот и тогда — ударил бы её чем попало, спасибо, что Бог сохранил, снаружи вбежал чернявый сынишка и на душе полегчало. Отчего — он и сам не знает, но очень любит этого смугловатого малыша. Так любит, что позволяет ему взбираться на голову, таскать за волосы, кричать в ухо, не проявляя при этом ни малейшего недовольства; сидеть как верблюд, смирно и тихо. Может, он подспудно тосковал по своему детству, которое осталось давно позади, а может, хотел подарить тёплое, ласковое детство вот этому неугомонному карапузу, в возмещение за своё — безрадостное, незавидно. Как бы то ни было, стоит только ему увидеть непоседливого мальчугана, как тут же утихает гнев и на суровом лице появляется добрая, ласковая улыбка.
Мужчине на голову счастье садится только три раза. Первый раз: когда он заканчивает школу и вступает на жизненный путь самостоятельно, полный энергии, молодой и здоровый. Второй раз: когда в твоём доме за дастарханом собираются твои друзья и вы, весело переговариваясь, делитесь своими впечатлениями. В третий раз: когда в соответствии со своими способностями получаешь соответствующую должность или работу. И если из этих трёх хоть одно счастье сядет тебе на голову — никогда ты не будешь зависеть от других людей и никогда не будешь испытывать стеснения в средствах. Нашему герою не село на голову первое счастье, кода он был полон сил и энергии, да и как оно сядет, если он с утра до вечера ходил за овцами то под палящими лучами солнца, то в пронизывающий мороз. Счастье — оно тоже знает, кому сесть на голову в молодые годы, за кем пойти, как верная собака; он не искал должности или работы в соответствии со своими способностями, не заходил ни к кому, никого не просил, чего скрывать, он и сам толком не знал, к чему его тянет и к чему у него есть склонности. Не было у него и друзей, которые сидели бы у него дома за скатертью. После получения аттестата зрелости его ровесники и одноклассники разбежались в разные стороны. Одни уехали в города, другие устроились на разных работах. Он же, став похожим на воробья, ищущего корм на солончаковым такыре, пошёл пасти овец в пески и исчез там как мираж. Когда-то мудрые старцы говорили, что счастье похоже на караван — вечно ищет своего хозяина и никак не может его найти. Но если найдёт, то богат и счастлив будет тот человек!
В Кызылкумах он пас овец, в больнице же, лёжа на белой простыне, он от нечего делать продолжал вспоминать горести и тяготы прошлых лет, снова и снова подсчитывать расходы за год по съеденным кормам, сену и привозной воде. Каждый привоз цистерны воды стоил аж двадцать рублей, скважина давала воды всё меньше; каждая тонна кормов стоила 155 рублей, тонна доставленного сена, которое вначале привозят из Сары-Арки, а затем грузят на машины, обходилось в 75 рублей, два раза полученное сено и корма больно ударили по карману и он так обеднел, что, нечего скрывать, чуть не стал нищим.
«О Боже, да что это такое? — невольно возмущался Абориген. — Неужели у властей нет глаз, нет желания? Неужели оттого что, раздевая бедного чабана догола, еле сводящего в песках концы с концами, власть останется в выигрыше? Или, может, у него остались какие-то долги, перешедшие от его прадедов и дедов, что когда-то они не выплатили?». За 12 месяцев упорной тяжёлой работы, без выходных и отпусков, он получал чуть больше десяти тысяч рублей. Грех скрывать, он выделял деньги и потерпевшим от Семипалатинского ядерного полигона, и в фонд помощи детям-сиротам, и пострадавшим от землетрясения в Армении, и другим фондам, и другим людям. И вот когда он раздевал всё, а причитающаяся ему сумма выплаты значительно уменьшалась, с него сдирали и другие расходы: по погребению родственников, на молитвы джаназа, на выплату долгов, которые должны государству всякие сынки всяких мошенников, на окончание одного трудного дела, в фонд районного общества ветеранов и инвалидов, в общем, откусывая кусочками, как откусывают пирог, главбух в конце года выдавал ему на руки жалкие остатки в виде двух-трёх тысяч рублей, говоря оправдание: «Я перечислил в такой-то фонд, помог такому-то, выручил такого-то». Абориген же приходил сюда с надеждой, вот получу большую сумму денег, вот обрадуются мои дети и жена, как мне будет хорошо, как им будет хорошо. Когда же он выходил от главбуха, как общипанная курица, смятенный, с растерянным лицом, то видевшие его люди сочувствовали. «Ай, хитрый, бессовестный бухгалтер, — досадовали они, — вместо того чтобы грабить так чабана и возмещать все расходы с бедолаги, который трудится в поте лица в хозяйстве, надрываясь как кляча, — лучше бы прекратил эти поборы. Какую дыру Чернобыльской катастрофы закроют эти несчастные 60-70 рублей, взятые из его зарплаты, как заполнят пересыхающее Аральское море?» Но что делать? Как ворона, голодающая на дереве, так и он, покричав, поговорив, отведя душу, поехал домой не солоно хлебавши.
Что может сделать Абориген? С поникшими плечами, тяжело перебирая ногами, похожий на мокрого суслика, выгнанного из норы водой, он тогда подошёл к коню, привязанному к столбу. Отвязал поводья. Взнуздал удила. Сел на коня, достал из голенища сапога сыромятную камчу и давай хлестать тощую клячу, которую, бей не бей, не заставишь скакать галопом. Всё же поскакал с ветерком, обжигающим рот, который так и звенит, словно рожок! И крича: «Ограбили! Ограбили!» — помчался по улице. Его раскатистый голос, как гул грома, слышен был далеко вокруг, повсюду залаяли собаки.
Очнувшись и оглядевшись вокруг, понял — больница, белые стены вокруг. Переворачиваясь с боку на бок в постели и так и не заснув, он резко встал, похожий на проснувшегося ребёнка, увидевшего плохой сон. Не подумав, что врачи могут удивиться, и даже возмутиться. От резкого движения на пол упали и тетрадь в клетку со всеми записями, и обгрызенный карандаш. Сам он стал походить на человека, потерявшего разум. Громкий голос эхом прокатился по комнате.
— Ограбили! …Ограбили!
Больные с удивлением смотрят на него. Наш герой не знает боязни, не обращает ни на кого внимания.
— Ограбили! Ограбили! Ограбили!
4
— Вылечился! — это слово так обрадовало Аборигена, что он почувствовал себя окрылённым.
Весело мурлыча мелодию про себя, прохаживаясь по палате, вышел в просторный коридор и, поговорив с дежурной медсестрой врачами, помог больному по палате. Не находя себе места от радости, вышел во двор и посидел на скамейке. Затем, не вытерпев, отправился к врачу, по пути проходя мимо старухи-уборщицы, остановился: «Тётушка, я обязательно куплю вам взамен новую посуду, которую я брал у вас и потерял, когда ходил в магазин. Я не хочу, чтобы вы на меня обиделись». — «Пусть Аллах будет доволен тобой, — ответила та, — для меня хватит того, что ты здоров. Зачем мне требовать от тебя помятую жестяную банку; хорошо что ты выздоровел, быстрее добирайся домой, дорогой».
«Да, кажется, это правильно, — сказал себе Абориген и, убыстрив ход, подумал: Пойду-ка я к врачам, пока они не разошлись, возьму необходимые документы и постараюсь поспеть на вечерний поезд, чтобы побыстрее попасть домой, в аул, к жене и детям». Ау, как говорят, дурная голова ногам покоя не даёт, он вместо того чтобы побыстрее оформить документы, стал заглядывать в палаты, разговаривая то с тем, то с другим больным.
Наконец, пришёл в свою палату на втором этаже, лёг на кровать и стал ждать лечащего врача. Только недавно тот приходил к нему с довольным видом обрадовал его: «У вас кровь в норме, вы вылечились!». С тех пор не заходил в палату.
Абориген посмотрел в окно. Только теперь он обратил пристальное внимание на природу. Когда поступил в больницу, была середина марта, и трава только начинала зеленеть, а теперь уже середина июля, и зелень буйно разрослась вокруг. Смысл слов только что поступивших больных из его родных мест был нехорошим, даже пугающим. Они наперебой рассказывали потрясающие новости.
— В Кызылкумах страшная жара, такая, что у черепахи надвое раскололся панцирь, все дикие животные исчезли.
— Древний колодец, глубиной в 40 метров, что находится возле Абылуйгена, пересох и остался без воды.
— Два чабана, подравшись из-за воды, стреляли друг в друга.
— У шакала облезла вся шерсть, и его вид, когда он сидит на вершине холма, такой неприглядный, что не хочется и смотреть, и сам он так осмелел, что не боится человека и убегает только тогда, когда слишком близко к нему подойдёшь.
Одним словом, июль в этом году выдался особенный: или это в отметку за сильнейшие зимние морозы, или это последствия сильного испарения воды с поверхности многострадального Аральского моря, или это небо опустилось так низко, и на землю надвигается какое-то страшное бедствие, — но как бы то ни было, говорят, чабаны в этой зноем пышущей местности совсем упали духом, мучаясь и страдая душой. Абориген вскочил с места и вышел в коридор. Навстречу попалась дежурная медсестра. «Дяденька, врачи недавно сели в вертолёт и улетели в пески, у них не было времени даже дать вам советы и наставления. Ваши документы вот, возьмите их и можете, спустившись вниз в кладовую, забрать свои вещи и уйти из больницы».
Ой, что за дело, когда он прибыл в больницу, врачи взяли его в круг и стали совещаться, советуясь друг с другом, а сейчас, когда выздоровел, то не нашли времени по-человечески попрощаться. Он в душе попечалился, сам про себя обиделся, тепло попрощался с медсестрой. Оставил по дороге старухе-уборщице 50 тенге за потерянную когда-то жестяную банку. Зашёл к главному врачу, чтобы сказать «Прощайте, спасибо» и наконец после полудня добрался до кладовой, чтобы взять свою одежду, оставленную на сохранение. Пополнел, что ли, но бархатный костюм затрещал по швам и Абориген еле в него влез, шёлковая шляпа, прогнувшись и запылившись, валялась в углу. Взяв её в руки, он тщательно стряхнул с неё пыль и надел. От всей одежды шёл резкий запах нафталина.
Открыв двери, он вышел наружу. С неба падали белые снежинки. Вначале Абориген подумал, что действительно идёт снег, потом, присмотревшись, попал, что это крупицы соли, пригнанные ветром. Это и есть та самая соль, которая поднималась со дна высохшего Аральского моря. Запершило в горле, стеснило грудь, вследствие чего укоротился шаг. Абориген неторопливо пошёл, глядя под ноги. По пути заглянул на базар, купил детям фиников, гранатов, изюма и полоски сушёной дыни. «И зачем я только взял дорогой гранат?» — подумал он с досадой на себя. Неся на спине дорожную сумку и идя потихоньку, к вечеру добрался до железнодорожного вокзала. Очень удивился, увидев, что вокзал полон людей, так что негде даже было сесть. «И чего это люди не сидят дома, а вечно куда-то спешат?».
На разъезде Коркыт останавливался только один-единственный поезд. Абориген искал свободное место, чтобы сесть. Вдруг, откуда и возьмись, появился смуглый джигит. «Идите сюда, — сказал он, — если заплатите, то можете поспать и отдохнуть». И вправду, в узкой комнате в ряд были поставлены длинные скамьи. Ушлый кооператор, не довольствуясь этим, поставил перед входом в туалет кассира, который брал плату с людей за пользование туалетом. Ишь ты — за всё надо платить. Кооператоры стали похожи на налоговиков Кокандского ханства, которые грабили народ до последней нитки. О времена, до чего же дошли люди!
Он проснулся от грохота, подкатившего к вокзалу поезда. В высоком небе весело светились яркие звёздочки. Ветер уже стих. Только недавно кассир утверждала, что мест нет, и Абориген еле взял последний билет, а только зашёл и сразу увидел, что в огромном вагоне почти никого нет. Только кто-то в тени сильно кашлял. В своё время газеты писали, что железная дорога и обслуживание поездов в период перестройки были капитально обновлены, вся система обслуживания пассажиров приведена в порядок, и для пассажиров созданы все условия для комфортабельной поездки. Сейчас, видя этот беспорядок, он понял, что газеты, мягко говоря, ошибались. Тем временем поезд, резко тронувшись, стал набирать ход, потащив за собой пустой вагон, в котором, по словам кассирши, «не было мест».
Чуть не потеряв дорожную сумку, которую, ловко прихватив, хотел утащить кашляющий пассажир, Абориген сумел догнать его и, дав хорошего тумака, отобрал своё добро. Он отбился и от проводника, который без стыда и совести стал просить дать ему немного денег, чтобы он смог что-нибудь поесть. После всех этих передряг ранним утром, когда весело запели жаворонки, Абориген вышел на разъезде. Вокруг расстилалась необъятная степь. Тихий, неприметный разъезд, под стать названию Коркыт («пугающий»), являл собой неприглядный вид. Абориген подошёл к мужчине, который стоял, прижав палку к подмышке, вежливо поздоровался и спросил:
— Как мне пройти к городу Женту?
Мужчина сделал удивлённое лицо, не понимая вопроса:
— Я в этих местах не слыхал про город Жент.
— Я говорю про развалины древнего города.
— А, вы имеете в виду развалины, которые находятся возле Сырдарьи, протянувшись на длину лошадиных скачек. С весны там работает археологическая экспедиция, приехавшая из столицы. Никто не может сказать, что они там ищут, то ли золото, то ли сокровища, закопанные прадедами. Возле этих развалин находятся кошара и дом. Это к югу отсюда.
— Это и есть моё жильё, — пояснил Абориген и, повесив дорожную сумку через плечо, отправился в путь. Понадеялся, а вдруг случайно по дороге его погонит машина, тогда он поднимет руку и доедет до дома. Воздух степи благодатно вливался в его лёгкие. Если бы не частые чёрные тучи солёных бурь с севера, да не ползущий сизый туман со стороны Байконура, эта степь так бы и лежала без изменения, как лежала она сотни и тысячи лет назад во всей своей первозданной красе. Как будто временная жизнь, проходя по этой великой степи, остановилась и замерла неподвижно и навеки.
Когда Абориген видит эти неоглядные присторы, перед ним сразу же возникают далёкие картины босоногого детства. Что он видел, что узнал, что пережил? …Зачем всё это перечислять, считая пальцами, как перебирают чётки? Он понял, что самое прекрасное райское время человека — это его детство, когда дитя ни о чём ещё не думает, ни о чём не переживает, — ведь рядом есть отец и мать. Он помнит те сладостные мгновения, когда, устав от беготни за ягнятами, садился на вершину холма и часами смотрел в голубую даль. И мечтал, мечтал, уносясь на крыльях фантазий. То он грезил плавать на волнах времени, то мечтал о крыльях, чтобы птицей взмыть в поднебесную высь и окинуть взором всю землю, то мечтал стать большим-большим, как великан, и шагать семимильными шагами по земле. Если в этой бескрайней степи чабаны были заняты пастьбой овец, верблюдоводы — уходом за верблюдами, а начальники ездили на машинах, беспокоясь о скоте… он же, сытый, всем довольный, мог целый день сидеть на холме и бесконечно мечтать и думать. И так ему тогда было хорошо, что это невозможно передать словами. Правильно говорят, что самое счастливое время человека — это его безмятежное детство. Со временем, достигнув совершеннолетия, он увидел, что как ни догоняй, не догонишь проклятую, хитрую жизнь, которая идёт совсем не так, как бы хотелось, что он как ни пытался уехать, как ни пытался учиться, как ни пытался всех обогнать, но потом ясно понял — никого он не перегнал, ничего не добился. Какой там перегнал, наоборот, остался в хвосте, глотая пыль. Он стал похожим на воробья, который в сильнейшую жару опалив крылья, старается подняться вверх, но как ни пытается, не может подняться и, обессиленный, падает в аульную белёсую пыль.
Вначале он, поступив на работу, стал копить деньги, никому не давая в долг. Если люди работали по восемь часов в сутки, он работал все двадцать, отдыхая только четыре часа и то беспокойно ворочаясь во сне. Остальные двадцать часов бегал за овцами и караулил их как сторож. Ел тандырный хлеб, макая в горячий чёрный чай, чтобы он размягчился. Но как ни работал, как ни копил, проклятые деньги так и не достигли трёх нулей и не собрались в значительную сумму в тысячи и тысячи рублей.
Когда умер отец, на его похороны пришло много мулл, и пришлось им заплатить за молитву джаназа большую сумму; во время женитьбы ушло ещё больше денег и мяса, что значительно его обеднило. «Ай, дай только мне самому зарабатывать деньги, поднять свой шанырак, создать семью — не отстану от людей, имя моё загремит и деньги соберутся, будут и почёт и уважение», — так само уверенно рассуждал он, веря что так и произойдёт. Где там! Все мечты, все надежды обратились прахом, сгинули как мираж, как будто их и не было. А сам он жил простой, незавидной, безрадостной, тяжёлой жизнью в песках. Однажды, когда он пришёл вечером домой, загнав овец в кошару, и, усталый, снял кирзовые сапоги с ног, сел на почётное место — тор — то, натянув клетчатую кепку на глаза и собирая с войлочной кошмы кусочки хлеба, вдруг засмеялся тонким смехом, как будто всхлипнул. Жена испугалась, подумала — уж не сошёл он с ума в песках от того, что в его вселился злой дух. Через некоторое время этот бедняга поднял голову, задумчиво глядя перед собой, сказал с иронией:
— И это всё?
— Что ты там болтаешь?
— Мне что в этой жизни — только и даны вот это отара овец, бегающих целый день в поисках воды, круглогодичные трудности и мучения и не отстающая ни на шаг проклятая бедность?! И это называется жизнь! Да пропади она пропадом!!!
— Эй, дорогой мой, ведь есть ещё и я?
Да и вправду, пристально посмотрев на неё, он увидел сидевшую возле самовара зрелую, во всей красе, с блестящими глазами, с ямочками на пупсовых щеках жену, сладкую, как хорошо поспевшая дыня. Под платьем выпукло обрисовывались полные ляжки, как двери секретной базы, которые так и манят, так и притягивают взор, так и зовут к себе, обещая блаженство тому, кто откроет ее. Он никогда не думал, что у жены такие налитые икры ног. Аборигена охватило вожделение, кровь забурлила в жилах, и он в исступлении ринулся к ней, широко раскрыв объятия, как раскрывают их навстречу дорогому и любимому человеку. Во время этих игр не заметил, как ногой случайно опрокинул жёлтый самовар. Он сильно устал, как путник, заблудившийся меж двух гор, не найдя дороги назад. …Эти воспоминания невольно прервал резкий гудок подъехавшей сзади грузовой машины. Голый до пояса, в белой кепке, с белыми волосами, шофёр высунул голову из окна и затормозил. Густая пыль обволокла всё вокруг. Абориген, отряхнув пыль с себя, спросил у шофера, куда он едет, употребив весь скудный запас русских слов. Водитель ответил, что везёт продукты археологам, ведущим раскопки древнего города. Абориген обрадованно заулыбался. Сказав, что и он идёт к древнему городу Женту, попросил подвезти, встал на подножку кабины и сел рядом с шофёром.
«В этих краях нет мест, где я бы не ходил, я их знаю, как свои пять пальцев, каждую полынь, каждый кустик. Когда я появился на свет, этот холм называли Абылуйгеном, потом узнали, что это место древнего города Жента, а то все считали, что это высокая насыпь над могилой давно погибшего батыра. Много раз, поднимаясь на вершину холма, я находил там обломки стрел, сабель, осколки кувшинов и приносил их домой».
Шофер в белой кепке слушал его вполуха, занятый в основном дорогой. А дорога была вся в ухабах и рытвинах. Машина переваливалась с боку на бок, отчего Аборигену стало плохо — ещё в больнице съеденный жидкий пшеничный суп, булькая в животе, вызвал изжогу. Постепенно стало жарко, промокшая рубашка прилипла к спине и вызвала сильный зуд. Брюки от пота прилипли к сиденью. В больнице он привык к чистоте, три раза в день умываясь прозрачной водой, надевая чистое бельё, и ходил чистеньким; этот горячий воздух кабины, которым тяжело дышать, и это густая пыль, и запах машинного масла и бензина — всё это в мгновение ока превратило его в годовалого верблюжонка, вывалявшегося в золе. «Если я в таком страшном виде покажусь детям, то они, наверное, сбегут от меня, приняв за призрак, а жена совсем не узнает», — подумал Абориген. Не зная как избавиться от этой напасти, вскоре он увидел вдали белый холм, ставший похожим на пестик, выпачканный белой солью. Немного спустя машина подъехала к холму. На его солнечной стороне стояли белые палатки, поблизости сновали люди, державшие в руках кетмени, лопаты, лоскуты материи обёрнуты вокруг голов, все в пыли, сверкают только глаза. Как дикие люди, ничего не видавшие, они гурьбой окружили остановившуюся машину. Абориген подождал, пока уляжется пыль, поднятая машиной, открыл дверцу и спустился вниз. «Здравствуйте, как поживаете?», — говорил он, протягивая каждому обе руки. Они молчали, ничего не говоря.
— Ну как, смогли найти золото, спрятанное в недрах Абылуйгена? — спросил он, глядя на каждого, — лёжа в больнице, я слыхал одну занимательную историю: тело секретаря Рашидова, который 15 лет управлял узбеками, решили достать из склепа, находящегося в центре города, и похоронить на его родине. Была образована комиссия по перезахоронению, и ночью люди вскрыли гробницу, перевернув мраморную плиту. Открыв гробницу, посмотрели — а костей-то нет, тела Рашидова нет; одни говорили: здесь был похоронен не Рашидов, а кто похожий на него, другие высказывали предположение, что труп достали в одну из ночей родственники Рашидова и унесли с собой. В общем, члены комиссии, не найдя трупа, находясь в растерянном состоянии, пришли к единогласному решению — никому об этом не говорить.
—А что если под верхним слоем холма вы не найдётся прах Абылуйген-батыра, его просто там не окажется? Тогда что будете делать, а? В мире чего только не случается, молодые люди.
Наш герой хотел по-свойски и от души рассказать молодым археологам о превратностях судьбы, а, оказывается, их влекло совсем другое — брезент на машине, а под брезентом ящики с продуктами. «Ой, какой же я дурак, говорю им обо всём, что знаю, а им, оказывается, ни я сам, ни мои слова не нужны», — сообразил Абориген и от досады плюнул себе под ноги. Эти парни протягивали руки к ящикам и стали напоминать худых баранчиков, жаждущих воды: «И мне! И мне!» — кричали шофёру, стоявшему в кузове. И так напирали, так стремились к нему, что со стороны казалось: вот-вот разорвут на части бедного шофёра в белой кепке. «Ай, у этих сорванцов и вправду намерения нехорошие, ненароком и бока намнут, пойду-ка я лучше побыстрее к себе домой», — сказал себе Абориген и начал спускаться к подножию холма. Пошёл, ускоряя шаг. Археологи, разрыли всю территорию на месте древнего города, везде валялись осколки глиняных кувшинов, пиал, старинные строительные инструменты, ювелирные принадлежности древнего мастера-зергера и многое другое. Кое-что из осколков Абориген положил в сумку в память о городе. Вдали показалось облако пыли. Оказалось, это была отара овец, на спинах которых толстым слоем лежала пыль. Овцы паслись и шли ему навстречу, позади них женщина в белом платке-жаулыке, приблизившись, он узнал в ней свою жену с потрескавшимися губами. Сердце так и взыграло от радости, подбежав, Абориген сгрёб её в свои широкие объятия. От радости голос задрожал и вышел приглушённым, будто доносился из подземелья.
— Ау, жена, жива-здорова?
Жена, как будто стыдясь чего-то, смущённо улыбнулась и оттолкнула его от груди.
— От людей стыдно, не надо.
— Ай, что это за непонятная выходка? Я понимаешь, четыре месяца скучал, тосковал по тебе, а ты вон что вытворяешь, а?! Мы сейчас одни в степи, вокруг кроме овец нет никого, если я сейчас схвачу тебя, свалю под куст боялыча и начнут ерзать, разве найдётся хоть кто-нибудь, кто скажет — ай, что ты делаешь?
И всё же он только с удовольствием поцеловал её раскрасневшиеся красные щёки и дальше не пошёл. Сел под засохший куст боялыча и успокоился.
— Как ты? — спросила жена, — я не смогла к тебе съездить из-за пастьбы овец и ухода за детьми, ты вроде похудел, побледнел, выздоровел ли?
Аборигену стало больно, глядя по сторонам, смахнул рукавом несколько слезинок, так некстати выкатившихся из глаз, стал пристально рассматривать окрестность. Пустыня, с тех пор как он оказался в больнице, ничуть не изменилась, только кое-где на почве появились трещины, что вызывало нехорошее предчувствие. Как будто показывает суровый вид, от которого ушли люди. В это время сидевшая рядом жена вскочила и с криком «шайт, шайт!». Кинулась на передний край отары, чтобы завернуть овец. Но что удивительно, отара не ушла так далеко, чтобы её надо было заворачивать. Наоборот, овцы смотрели на него, будто узнавая, и, скучиваясь, поворачивали головы в его сторону.
«Что это с моей женой? Почему она так прохладно встретила меня, — недоумевал Абориген, — ведь не прошло и четырёх месяцев, и что за это время разве можно так измениться? Или в этой пышной груди есть какая-та тайна, которую не знает мужчина?» Ведь именно эти гладкие, упругие груди сразу же привлекли его внимание, ещё, когда она была девушкой, сейчас вроде стали еще более объёмные, что ли. Он пожалел, что когда она сидела рядом, то не пощупал её хорошенько. Встал, как тень во время намаза, подошёл к жене, улыбаясь, взял за локоть. «Пойдём?». Жена молча кивнула.
Одинокая, маленькая, невзрачного тёмно-коричневого цвета войлочная юрта, к боку прилепился небольшой навес для дров, окружённая проволокой открытая кошара для овец, лёжка для собак — это и есть стоянка чабана. На поверхности степи, похожей на высохшую шкуру овцы, высится неподалёку белый холм древнего города Жента. Если раньше здесь было безлюдно и тихо, то теперь снуют люди с лопатами в руках, копают землю и просеивают белую глину через сито.
Собраввсех овец в одно место, Абориген повёл их за собой по тропинке, животные одно за другим послушно потянулись к дому. Если животных мучила жажда, то они, как правило, начинали тащиться к дому, стоило им ступить на узкую тропинку, как они, опустив головы к земле, побежали гуськом. Поднялась негустая пыль. В пути ни он, ни она ничего не говорили. Абориген, повесив сумку на плечо, держался немного в сторонке от жены. Он думал, вот сейчас из юрты выскочат его смуглые дети и, крича, подбегут к нему и повиснут на шее, радостные и счастливые. На душе от этих мыслей стало хорошо, как будто кто-то ладонью ласково провёл по сердцу.
Пока дошёл до порога, сердце так возбудилось, что больно было идти. Однако никто не выбежал ему навстречу, дверь была полуоткрыта, пригнувшись, он вошёл в юрту. В полутьме возле стены кто-то метался и стонал. Абориген сжал зубы, быстро снял с плеча сумку, встал на колени, всмотрелся в лицо лежавшего, повернулся к вошедшей жене.
— Где дети?
— Я отвезла их к матери, мне стало очень трудно одной присматривать и за скотом, и за детьми. Вовремя не можешь их покормить, вовремя постирать бельё.
— А это кто так важно разлёгся?
— Бедняга, ты что, не узнал? Это же аксакал Калтак, который помогает мне. Что это он так неудобно лежит, уж не укусил ли егокто?
«И вправду, что ли?» — Абориген пристально всмотрелся в стонавшего. Лицо его было всё в морщинах, изо рта вырывалось горячее хриплое дыхание, дрожали только веки. «Уа, Калтеке! Дядюшка, что с вами?» — спросил Абориген, став на колени, приподнял голову повыше, приблизил своё лицо.
«Его укусил каракурт», — догадался он с ужасом. Тут же вскочил, снял пиджак плеч костюм, посмотрел по сторонам. Не зная что делать, заходил по юрте. И эта тревога, охватившая душу, заставила забыть и обиду на жену, и тоску по детям. Для того чтобы доставить старика в центр, нужна машина, если везти на коне, то по дороге он может умереть, не выдержав долгого пути, чтобы вызвать врача — нет рации, батарейки давно разрядились. Велев жене напоить Калтака молоком, выскочил из юрты и направился к развалинам Жента. Он и не посмотрел на худую клячу, мирно дремавшую в тени юрты, зная, что от неё толку, в общем-то, мало. Её бей не бей — всё равно бежать быстро не будет. Решил: быстрее дойду пешком, это же недалеко. Так думал он, но ошибся. То, что казалось близким, на самом деле оказалось далёким. Это марево показывало холм близким. Абориген запыхался, стало трудно дышать. Смахнув ладонью со лба льющийся пот, с отчаянием посмотрел по сторонам.
«Неужели это называется жизнью? — горестно рассуждал Абориген, —ау, ведь вышел из больницы здоровым; в наши дни трудно найти человека без переживаний, без горя. Ведь мог же Мамырайхан приехать и сказать, прости, дорогой, я не смог раньше, знаешь, дела, в одном месте поправишь хозяйственные дела — рвётся в другом месте. Сразу бежишь туда. Как белка в колесе. Ай, не знаю, он рвётся не к хозяйственным делам, а к депутатским, отдавая этому всё время, и навряд ли вспомнил обо мне. А где же ровесник Есенбай? Его что, земля проглотила? А где простоватый, выкладывающий всё, что у него на душе, чабан Жумаш? А почему чабан Батнияз, не появился и не помог в пастьбе овец моей жене, ведь он такой расчётливый, такой хозяйственный?». И оттого, что таких вопросов — почему и где — накопилось слишком много, он почувствовал лёгкое головокружение. И тут вспомнил, Абориген что с утра, после того как сошёл с поезда, ещё ничего не ел и не отдыхал. Шагая по дороге, осмотрелся. Надо сказать правду: на земле было больше навоза от животных, чем травы, и сама пустыня выглядела безрадостной, сумрачной. Может, это оттого, что воздух поменялся, или от нехватки дождей, воды? Но степь уже не манила так, как в детские годы. И что за напасти преследуют его? Надо же тому случиться, что старика Калтака укусил каракурт, и аксакал свалился как мёртвый. А я хотелось спросить его обо всех, кто приходил домой в моё отсутствие. А если скажешь ему что-либо поперёк, так горя не оберёшься. Хоть старик и малорослый, тщедушный но такой гордый, такой обидчивый — просто ужас. Однажды приключилась целая история с Мамырайханом, который шутя обозвал его «карликом». Так тот ходил за ним несколько дней.
Дело было весной, во время сакмана, озабоченный Мамырайхан сидел в кабинете и ломал голову над тем, где найти людей на сакман. И в это время зашёл Калтак. То ли хотел выпросить машину, то ли получить разрешение на один мешок муки, — неизвестно. При его появлени Мамырайхан с ходу, без задней мысли, грубовато пошутил: «Эй, карлик, вместо того чтобы вертеться возле конторы, шёл бы ты в помощники к чабану». Только и всего. Старик аж затрясся, глаза вспыхнули молнией, вид его стал ужасен. Вытянув указательный палец правой руки, с чувством оскорблённого достоинства вопросил: «Ты почему меня унижаешь? Не твоя мать родила меня таким маленьким, сейчас же становись на колени и проси прощения». Сказав так, аксакал вперил в него пронзительный взгляд горевших холодным огнём кроваво-красных глаз.
— Ойпырмай, я почувствовал, как по моей спине проползла холодная змея, так мне стало страшно от его пронизывающего взгляда, —позднее признавался Мамырайхан.
«Ай, не морочь мне голову, если не хочешь быть помощником чабана, так и не надо! Обойдёмся и без тебя», — опять грубо отмахнулся он, чтобы скрыть свою боязнь и, поднявшись во весь почти двухметровый рост, заполнив телом кабинет, вышел. «Что он мне сделает, такой малюсенький, силёнок как у кузнечика, ну поругает за спиной от души — и на этом всё закончится», — подумал Мамырайхан. В тот день он с утра до вечера был среди животноводов, и так сильно устал, что не стал пить чай, приготовленный женой, а сразу лёг спать и захрапел. Неизвестно, какой час ночи, но ему почудилось, как кто-то вроде бы царапает дверь. Он и так переворачивался в постели, и эдак. Но не мог заснуть: кто-то царапает дверь — и всё тут. Подумал: это, наверное, кошка домой просится. Встал, открыл дверь — и кто вы думаете там был — Калтак собственной персоной стоит как надутый пузырь.
«Не ты породил меня маленьким, а Бог создал!» — отчеканил он, вперив в него указательный палец. Мамырайхан от неожиданности и страха попятился назад, споткнулся и чуть не упал. Сердце бешено заколотилось в груди. Во рту пересохло. Глаза блуждали. Он громко закричал: «Жена, жена, принеси нож, принеси нож!». Он и сам забыл, зачем просил нож, жена спросонья подошла к нему и спросила: «Что с тобой случилось? Ты чего орёшь среди ночи?». Взяла его под мышки и уложили в постель. А призрак маленького Калтака, стоявшего на пороге, куда-то исчез. Утром Мамырайхан обвязал голову смочённым в уксусе полотенцем и, беспокоясь о делах кооператива, пришёл в контору. И только сел на стул, как увидел Калтака, стоявшего как тень. От растерянности Мамырайхан не нашёлся что сказать.
«Не твоя мать породила меня маленьким, а Бог создал!» — опять заявил аксакал, вонзая в него горящие глаза, — я соберу аульных стариков перед тобой».
И тут у Мамырайхана случился психологический срыв. Он затрясся, задрожал, схватил счёты, по еле-еле сдержал себя. «Если сможешь, обрушь на мою голову небо», — задываясь от ярости, выпалил он, взял папку под мышки и, толкнув стоявшего Калтака как какую-то каракатицу, вышел из кабинета и, сев в водовозку, уехал по отарам. Обед он провёл в базе по сортировке каракулевых шкурок, снятых с ягнят. Убедился, что качество шкурок не очень высокое. Сел за стол и только поднёс ко рту чашку с жирной сурпой, как увидел перед собой маленького Калтака: его горящие гневом пронзительные глаза были как у убийцы, наводили ужас, кровь стыла в жилах — этот карлик, наверное, не отстанет от него и через год, и через десять лет, даже сто лет спустя будет преследовать этот призрак; Мамырайхану почудилось, что этот карлик совсем не похож на человека, что это спутник шайтана, который в этой жизни и в огне не горит, и в воде не тонет.
«Уйди, уйди!» — закричал Мамырайхан, размахивая руками, поднявшись, стал кого-то ругать, что-то искать. Устав смертельно, вернулся домой. Вечером, выпив чаю, решил от души отдохнуть, положил голову на подушку… и надо же, не мог заснуть, не идёт сон — и всё тут. Аж мягкая постель показалась твёрдой. Посреди ночи ему померещилось, что кто-то опять скребёт дверь, за окном мелькает какая-то маленькая тень, — всё это его сильно встревожило. Поднявшись с кровати, открыл дверь, вышел во двор. На небе светила полная луна, вокруг вроде никого не было. Мамырайхан постоял возле карагача, потом повернулся, пошёл в дом… И тут почувствовал спиной какую-то опасность. Резко обернул. Около карагача стояла сломанная скамейка. Он не помнит, как не заметил раньше, но на скамейке, съёжившись, сидел Калтак. Тело Мамырайхана мгновенно окатило ледяным потом, как больной малярией, сотрясаемый дрожью, стуча зубами, одним прыжком покрыл расстояние до крыльца и, войдя в дом, закрыл дверь на крючок. Прислонился к косяку и стал прислушиваться, а перед глазами моячилпроклятый карлик, сидевший на скамейке.
Рано утром, Мамырайхан зарезал барана, послал ко всем аксакалам аула сынишку, собрал стариков, усадил чабана Калтака на почётное место, передал ему осмолённую баранью голову и, сложив руки, при всех стариках попросил прощения. Тем и избавился от него. Одно только слово «карлик» обошлось ему в одного барана, один костюм и в двести тенге, на которые были куплены изюм и урюк. Лишь после этого душа Мамырайхан успокоилась, но ещё долго помнился тот ужас, испытанный им от маленького, невзрачного чабана Калтака. Поистине, не всегда физическая сила может совладать с сильным духом физически слабого человека! И тщедушный Калтак доказал это…
Продолжая идти, Абориген сокрушался, что все надежды на Калтака , чтобы выяснить, как вела себя жена в его отсутствие, понять, почему так холодно его приняла, рушатся, проклятый каракурт всё испортил. Надо же, второпях забыл сказать жене, чтобы не давала старику воды, ибо если человек, отравленный ядом, выпьет воды, то от этого станет только хуже. Только сейчас он вспомнил, как Жумаш лечил людей, отравленных укусом змеи или каракурта. Он свистел, чтобы нейтрализовать отраву и вселить надежду в душу пострадавшего. Может, правильно было бы отправиться к Жумашу, привезти его, чтобы тот прочёл молитву — дуга, и тогда, глядишь, старику станет лучше. А то получилось, что голова стала ногами, а ноги головой — не подумав, как следует, кинулся, будто угорелый к археологам. Но уже поздно. Абориген уже добрался до стоянки.
Археологи — в тёмных очках и жёлтых соломенных шляпах — увидев встревоженное лицо чабана, насторожились. Внезапно из большой палатки, пригнувшись, вышел их начальник — седовласый, с морщинистым лбом, в среднего возраста человек, подошёл к нему. Никто не смог понять чабана, говорившего не то по-русски, не то по-казахски, по какой-то непонятной смеси. Убедившись, что начальник археологов — казах, Абориген обрадовался, показывая рукой в сторону своего становища сказал, что там умирает человек. Начальник тут же заторопился к машине вездеходу, позвал девушку-врача. В мгновение были собраны и взяты необходимые лекарства, вездеход помчался по степи, поднимая клубы пыли. Вскоре показался и одинокий домик чабана. Абориген тут же выскочил из остановившейся машины, открыл дверцу юрты, поднял с купола кошму. В юрте стало светлее, и все увидели человеческую фигуру, лежавшую недалеко от двери. И в нормальное-то время этот человек выглядел весьма неприглядной, а сейчас его крохотное личико, испещрённое морщинами, вовсе съёжилось, как съёживается высохшая баранья шкура. Просто было жаль смотреть на него. Подбородок слегка заострился, глаза потускнели, признаки жизни едва ощущались.
— Какой может быть каракурт там, где ходят овцы? Насколько я знаю, его укусил клещ.
— Утром вот так упал, съёжившись. Только вчера был здоровый, всю ночь сторожил овец, — пояснила жена Аборигена.
— У него есть семья, дети?
— Какой там! В основном работает по найму у разных людей. Одинокий, никого у него нет. С тех пор нет блага в его опустевшем доме.
Археолог, тут же засучив правый рукав, разорвал рубашку чабана на груди и стал усиленно массировать. Яд, проникнув в тело, переходит на грудь и там сдавливает сердце. Девушка-врач сделала укол. У больного участилось дыхание, он не открывал глаза.
— Нет, так не пойдёт, — покачал головой археолог, — так мы ненароком убьём чабана. Если есть знахарь, надо его поискать. Если он почитает молитву-дуга, то, может быть, яд, давящий на грудь, малость отойдёт.
Сказав это, он усадил Аборигена в вездеход и отправил в центр за муллой, умеющим читать нужную молитву, чтобы вывести из крови яд.
У привезённых лекаря муллы, когда он увидел укушенного, глаза впали в глазницы. И тут же загорелись кровавым огнём. Немедленно он послал людей за сухими овечьими катышками. Снял верхнею одежду, сел на войлочную кошму калачиком, скрестив ноги. Потом закрыл глаза, пробормотав суру из Корана, изменяя голос на разные лады, достав из тряпицы один катышек, проводил им по телу больного, начиная с головы до ног, чуть прикасаясь. И когда катышком доходил до ног, то резко отбрасывал его, как бы избавляясь от него как от использованного и ненужного. И когда он повторил эту процедуру семь раз, выкинув семь катышков, то стало заметно, как яд начал покидать тело. Калтак стал глубже дышать. Напротив, эти заклинания, кажется, отняли все силы у знахаря. Его голос истончился, блеск глаз потух. Потом он попросил принести верёвку, сплетённую из волос верблюда, обмотал ею ноги старика ниже колен, и прочно завязал. «Если я сейчас приложу все силы и выгоню яд из тела, то он разорвёт стопы ног», — сказал он. Ног чабана стали чёрными-чёрными, словно их обуглили на костре.
Абориген думал: «Если бы мы, понадеявшись на укол врача, сидели спокойно, то наверняка Калтак бы умер. Иншалла, нам поможет опытный лекарь, его заклинания, они дали силу телу противостоять яду. Веками сложившееся искусство лекарей помогало людям успешно бороться со всевозможными болезнями. И это истина. Иначе кто поможет человеку в бескрайней степи, когда он кочует с одного места на другое, и нет никаких больниц, никаких врачей. Дорогой ты мой знахарь, как я рад, что ты живёшь рядом с нами, помогаешь нам, я доволен тобою, я благодарю, я уважаю тебя».
Сунув руку за пазуху, достал несколько купюр и положил ихперед лекарем.
— Не думайте, что этого мало, это всё, что у меня есть, спасибо, ещё раз спасибо.
— Это что, я не буду брать деньги с чабана, продавая свои знания, — сказал знахарь, притворяясь благородным, даже отступил на шаг. Однако вскоре сдался, и сдался подозрительно скоро, положив деньги в карман.
Поверхность степи раскраснелась, как горячий хлеб в тандыре, овцы, вернувшиеся с пастбища, измученные жаждой, в поисках воды перевернули поилку, устремились к цементному лотку. Археолог подошёл к своему вездеходу, попрощался и, усадив машину девушку-врача и лекаря, уехал. Скученные овцы, напуганные шумом отъезжающей машины, разбежались в разные стороны. Абориген в кирзовых сапогах и с палкой в руке погнался за ними, чтобы повернуть обратно.
С наступлением сумерек в степи наступила тишина.
Овцы в мгновение ока выпили всю тепловатую воду, оставшуюся ещё с вечера в цементном лотке. Слабые овцы, которые не смогли вволю напиться, вылизали языком мокрые стенки лотка и, подняв головы, тяжело дыша боками, громко блеяли. Бедные животные с надеждой смотрят вдаль, на далёкий горизонт, надеясь увидеть горящие фары приближающейся машины. Они знают, это желанная машина — водовозка. И поэтому они так чутко реагируют на всякий шум вдали. Бедные овцы!
Несколько овцематок, вышедших из зимы и весны ослабевшими, худыми, ещё не набрали жира и веса. Шерсть у них затвердела комками и прилипла к бокам. Если так и дальше будут ходить, задевая голень о голень, то ясно, что они не выдержат июльской жары и наверняка подохнут. Абориген подумал, что надо обязательно отделить худых овец от остальной отары и подержать дома на усиленном корме. С этой целью, взяв в руки палку, стал отделять ослабевших овец. Второпях спотыкнулся о куст горькой полыни, поднялся, вытер руки. Вдруг скучившееся в круг овцы резво побежали, чуть не задавив его. Он ударился о проволоку, протянутую вокруг лёжки овец, испугался, что в темноте может что-нибудь сломать. Посмотрев вдаль, увидел свет фар приближающейся машины. Оказывается, овцы побежали именно потому, что привыкли к свету фар. Для них это был сигнал — везут воду. Увидев, как бедные, измученные жаждой овцы чуть не попали под колёса водовозки, он чуть не заплакал от жалости к ним. Водовозка, сбросив скорость, подъехала к цементному лотку. Из кабины вылез молоденький шофёр в кепке со сломанным козырьком и ещё один широкоплечий, в белой шляпе на голове. Они не заметили Абориген, находившегося среди овец; шофёр тотчас опустил шланг и стал наливать воду в лоток, другой же отправился к дому. Подошёл к жене Аборигена, которая, вымыв котёл, разжигала огонь в самоваре. И не стыдясь, что кто-нибудь увидит, ни слова не говоря, взял да и ущипнул женщину за бок, она аж подпрыгнула от неожиданности и от боли.
— Иди отсюда и рукам воли не давай!
— Э, да ты так необъезженная кобыла, не подпускаешь никого, наверное, стосковалась по мужскому запаху с тех пор, как муж уехал в больницу? — сказал он игриво. Абориген сразу узнал голос ветврача Мамырайхана. У Аборигена закипела злость — он всё видел и слышал. Дальше терпеть не смог. Да что это такое в конце-то концов! Ах ты сволочь, обнаглел совсем, обнимаешь мою жену, чуть ли не при муже. Он сжал правую руку в кулак и ринулся навстречу обидчику, по пути сбил нечаянно собачью миску, пнул тазик, а когда подбежал, то увидел: в сумерках Мамырайхан и его жена тихо-мирно разговаривают, забыв обо всём на свете. У Аборигена зазвенело в ушах. Ни слова не говоря, он кулаком ударил жену, вроде слабо ткнул её по уху, она же вскрикнула «ой, Аллах, ой» и, закрыв лицо руками, села на землю. Мамырайхан закачался как дерево в бурю, в обычное время его и железным пестом нельзя было свалить — такой он был крепкий и сильный, а тут испугался страшного, разъярённого вида чабана, аж покачнулся от страха.
— Ау, батыр, ты что, уже приехал?
— Ты что думаешь, раз отправил чабана в больницу как в тюрьму, значит, у него кончился дух и с ним покончено? Значит, можно побаловаться с его женой, так что, ли, негодяй? Видел я твоё прелюбодеяние, узнал твоё намерение, — яростно выкрикнул Абориген и устремился к нему.
— Ау, батыр, постой! Я же пошутил с твоей женой, потому что она мне родственница. Я не смог приехать в больницу, чтобы узнать о твоём здоровье, а вот тебе надо бы спросить про мои дела. Можешь меня поздравить, я — депутат! — сказал он, на всякий случай отступая назад.
«Какая к чёрту родственница, какое здоровье», — подумал Абориген себе и хотел было схватить Мамырайхана за воротник, но слово «депутат» мгновенно смирило гнев, как ведро воды, вылитой на огонь. Это магическое слово заковало его руки в надёжные оковы. И как тут не растеряться, сейчас кто наверху, кто пользуется авторитетом и властью? — депутаты. Кто в наши дни, сидя на позолоченных стульях, даёт простому народу указания, кто заседает в парламенте — депутаты. Что ни говори, когда он лежал в больнице, то познакомился со множеством бедняг, которым депутаты помогли добиться справедливости. И тогда он подумал: неужели и вправду в наше столь тяжёлое переходное время появились люди, которые готовы выслушать и помочь всем людям достичь справедливости, скажу-ка я им: выкопайте, пожалуйста, мне колодец, проведите трубы и дайте мне воды для моих измученных жаждой овец, помогите, пожалуйста, устроить моих детей в школу-интернат, где бы они были сыты, обуты и учились как все дети. В песках много каракуртов и клещей, пожалуйста, доставьте мне лекарства против них. В течение года мы всей семьёй не видим ни овощей, ни фруктов, пожалуйста, за наши деньги пусть в знойный июль привезут нам арбузы и дыни… У него было ещё много заявлений и просьб к избранникам народа.
Увидев Мамырайхана, он растерялся. Глупо смеясь, будто нашёл на земле то, что искал на небе, он почесал затылок, протянул с почтением руку, как бы говоря: ты уж прости, начальник, повинную голову и меч не сечёт. Глупость джигита может проявиться в одном поступке, а вот счастье джигита — от Всевышнего. Какой ещё ум остался у нас, начальник, не зря наши прадеды плакали, говоря, что не надо просить ума у того, кто пас баранов три года. «Пожалуйста, войдите в дом, начальник, дорогой мой уважаемый начальник», — пробормотал Абориген, растерянно расстилаясь ковром перед ним и думая как бы загладить свою вину, как угодить, как заставить его забыть неприятный инцидент.
— Эй, жена, иди да поскорее поставь нам чай, терпеть побои от мужа — это долг, предписанный жене, наверно, так записано в Коране. Хватит хныкать на всю округу, перестань, наконец, плакать.
Оказывается, очень легко человека сделать зависимым от кого-то: недавно только он от ревности готов был схватиться с верзилой Мамырайханом, а теперь услышав слова «избранник народа», растерялся, будто кто-то хлестнул по уху камчой, и настроение от враждебного сменилось на благожелательное. И только ведя под руки дорогого гостя в войлочную юрту, вспомнил о больном. Быстро двигаясь, зажёг лампу, расстелил одеяло и усадил верзилу депутата на почётное место. Затем опустился на корточки и пристально взглянул на больного.
— Как ваше самочувствие? — спросил громко.
Ау, дядюшка Калтеке заболел, что ли? — испуганно спросил Мамырайхан, — недавно я слышал, что машина археологов, посадив лекаря, ездила туда-сюда по холмам и барханам. Так это проделки этого муллы… что за чёрт.
Его звучный, толстый голос заполонил всю юрту. Калтак открыл глаза.
— Если бы мне сказали, я бы вызвал вертолёт из области, что это такое! Только вчера он ходил здоровый и пас овец, а сейчас свалился и лежит как мёртвый, ай, что за темнота, что за казахские выходки, ай, — повернулся к двери и громко закричал, — Шалабек!.. Шалабек!.. принеси фляшку, я дам хлебнуть спирта аксакалу.
Шалабек — шофёр водовозки — тут же принёс металлическую ёмкость. Мамырайхан отвинтил пробку, сначала, сделал несколько глотков, затем понюхал кулак, ахая и охая. И, приподняв подушку повыше, хотел было влить в рот Калтаку крепкую жидкость, однако Абориген схватил его за локоть. Иначе бы беды не миновать. Объяснил Мамырайхану, что нельзя добавлять русскую водку к казахскому народному лечению, иначе сердце не выдержит двойной нагрузки и может остановиться. Морщины на лбу — это линии судьбы, на крошечном узком лобике Калтака много морщин; смерть же приходит к человеку, когда меняется звезда, и ещё раз оборачиваясь, ударяет человека, и вот тогда, если человек не поддаваясь, будет лежать, внутренне борясь, тогда жизнь продлиться. То есть никогда не надо терять веры, надо бороться, надо любить жизнь!
Абориген долго возился с начальником, выпил вместе с ним оставшийся спирт, опьянел, у него поднялось кровяное давление. В конце концов заболтался, стал пить чай и встретил наконец рассвет. До утра он раз за разом вдалбивал в сознание Мамырайхана просьбу выкопать ему колодец, проложить трубы, пробурить скважину, словом, добыть воду отаре. Потом напугал Мамырайхана, пригрозив, что напишет вверха обо всех проделках, что он в его отсутствие приставал к его жене, отчего чуть не развалился семейный очаг, что Мамырайхан совсем обнаглел, пользуясь мандатом депутата, а с депутата тоже бывает спрос. Что он, как и все сидящие наверху, хорошо живеё, используя своё служебное положение. Хоть и был Абориген достаточно сильно пьян, но слова «пристаёшь к жене» остались в памяти, он тут же схватился за них о и стал выпытывать у важного гостя.
— Эй, а ну-ка скажи правду, не виляй хвостом, ты приезжал и приставал к моей жене в моё отсутствие? А?
— Ой-бай, ты давай не лезь ко мне, выпив моё спирт. Не только у тебя есть круглолицые, миловидные жены. Мне звонят многие симпатичные девушки. Мол, давай покажем в столице народное искусство. Рядом с ними твоя жена выглядит совсем невзрачно. И давай не говори мне больше ни про свою жену, ни про колодец. Надоело, понимаешь!
— Есть свидетели, которые видели, как ты приезжал к моей жене, напевая свою любимую песенку. В доме, где есть маленькие дети, не скроешь ничего. А ну признавайся, начальник!
— Ой-бай, не толкай меня на путь преступления, с тех пор как я стал депутатом, я больше не хожу налево, наоборот, стараюсь быть мудрым советчиком для бедняг-чабанов, живущих в песках. Стараюсь быть им опорой, надеждой, используя своё высокое общественное положение.
— Не верю, а ну скажи правду, — не отставал, как приклеенный, Абориген готовый устроить скандал. У него не выходило из головы эти проклятые слова «приставал к жене», они раздражали, вызывало горечь, злость и ревность. Мамырайхан хорошо знал характер Аборигена. Знал, что если тот напьётся водки, то жди беды — затрясётся, задрожит, ни о чём не думая, и если станет драться, то будет биться до смерти, пока не рухнет под ударами обидчика.
И Мамырайхан подумал, что не хватало ему связываться с этим дураком чабаном, в то время, когда он стал весьма уважаемым человеком, еле-еле добившись звания депутата, когда стал опорой своей семьи со всеми выгодными последствиями этой должности, когда стал своим среди важных, могущественных людей, познав их силу и мощь… И связаться с этим ничтожеством — да ну его к чёрту. Как он будет распоряжаться здесь, распоряжаться людьми, если Абориген, не дай Бог, растрезвонит на всю округу слово «приставал». Оно же, как тень, будет потом преследовать его. Разве это не позор? … Нет, нет! Пока всё хорошо — уйду-ка я потихоньку, пока цел. Пусть пропадет и колодец, и все наслаждения этого дома!
С такими мыслями Мамырайхан на рассвете попытался покинуть дом чабана. Собравшись с духом, подтянув ослабевшее тело, он попытался встать, однако не смог подняться. Ноги не держали, всё же выпил-то он изрядно. Тогда он на четвереньках пополз к двери, достиг порога и хриплым голосом позвал: «Шалабек! Ау, Шалабек!.. Если есть в твоей груди душа, то приди и помоги мне!». Однако появился пошатываясь хозяин дома. «Начальник, сейчас жена готовит тесто к варёному мясу, не торопитесь… поговорим… обсудим», — заплетающимся языком едва вымолвил Абориген.
Ой, что за беда: этот проклятый чабан, такой крепкий, ну как затвердевший саксаул в пустыне, а ведь большую часть спирта выпил он, потом достал из сундука водку и тоже почти всю выпил с лихорадочной поспешностью, как пьют воду измученные жаждой люди, что-то болтал нехорошее, приводя в свидетели больного старика Калтака, при этом скрежетал зубами, а лицо дёргалось… Ну и руки у этого дурака — длинные, жилистые, схватил его как клещами и потащил на почётное место. Тут подоспел Шалабек. Он, болван, не имел всех шариков в голове, взял да и схватил Мамырайхана за правую руку и поволокк двери. И получилась катавасия. Абориген тащит к столу, Шалабек к двери.
Вот проклятые, затеяли в кокпар, раздирая на части.
«Ау, собачьи дети!.. — заорал он с ненавистью. — Вы что, с ума сошли?.. Где вы видели, чтобы важного, солидного начальника, народного избранника, тянули как козла, выставив на позор? Люди со смеху упадут, услышь они такое. А ну отпустите меня!». По сравнению с Аборигеном Шалабек оказался сильнее, да и как ему не быть таким, если постоянно возя воду чабанам, всегда ел у них жирное мясо и пил наваристый, густой бульон. Изо всех сил схватив начальника под мышки, вынес его наружу как ягнёнка. По пути толкнул чабана в грудь, свалив на землю, дотащил Мамырайхана до кабины и, открыв дверцу, сунул как охапку сена. Включил зажигание. От злости сразу же надавил на газ, машина рванула и подпрыгнула. Бедные колёса, досталось им от разгневанного шофёра. Несчастная машина, которой не было ещё и года, как она вышла из стен завода, вся уже разбитая, готовая развалиться в любой миг, тронулась и, набирая ход, вскоре исчезла из глаз, стала похожа на утреннею звезду, упавшую на землю из космоса и сгоревшую в атмосфере. От неё остался лишь шлейф пыли.
Оу, чего только не видела эта земля! В древние времена конные орды кочевых огузов, в более близкое время — воинов-кипчаков с копьями, преследующими врага. И видела эта земля Орыс-хана, Абылгазы, Токтамыса, отдыхавших на ней, а теперь вот стала колыбелью для Мамырайхана, Аборигена, став совсем не похожей на стародавние времена. Чужой стала, обедневшей, оскудевшей, Мать-земля. Ездят по тебе, как ночные звёзды, машины, вырисовываются на твоей груди в предрассветную пору чабанские юрты, белеют отары овец, пасующиеся в песках. И когда же эта даль, этот простор увидят тишину и покой? Видать, всё ещё есть на этой земле беспокойные дети, которые не дают тебе покоя, не дают тебе впасть в вечную спячку, о, Мать-земля!
5
— Биссмилляхир рахманир Рахи-и-им, — произнёс чабан, благоговейно проведя ладонями по лицу, достал острый нож и резанул по горлу связанного барана, лежавшего калачиком на земле. Густая чёрная кровь струёй ударила из перерезанного горла и впиталась в яму. В тени древней крепости оАбориген, нагнувшись, снял шкуру барана, вывалил внутренности в большой поднос и не торопясь разделал тушу на части. Свежевать тушу барана — привычное занятие для чабана, но повариха приятно удивилась его искусству, не допустившего на мясе ни одной волосинки и так искусно разделавшего его, как разделывают только опытные мясники. Он же, встав, разогнул спину и только сейчас заметил, как тень от стены крепости значительно истончилась, вытер ладони о чистый горячий песок. Нож сунул в чехол, привязанный к поясу.
Археолог Байпак, сидевший в тени крепости и наблюдал за действиями чабана, встал и, подойдя к нему, кашлянул.
«Начальник, пока всё, — сказал Абориген, — это был дух хозяина старой крепости, которому не понравились ваши раскопки, из-за чего он не давал вам спать, шумя и наводя ужас на молодых джигитов. Я дарю вам своего жирного барана, совершив жертвоприношение Аллаху, теперь он не будет беспокоить вас. Я думаю, вы учтёте мой труд, не забудете и с благодарностью примете моё жертвоприношение». Однако кто вспоминает труд чабана? В то время голова Байпака трещала от дум: до сих пор ещё не раскопали и половины древнего города, хотя работали с весны, прошли только эпоху кипчаков и всё ещё не добрались до времён огузов. У экспедиции на исходе продукты питания, и вчера двое паркет с ружьями отправились охотиться на сайгаков. И этот чабан не зря зарезал жирного барана — вполне возможно что-то хочет попросить взамен.
— И что вы хотите?
— Ваши машины бороздят пески как жуки, вы хорошо знаете все секреты земли, моим овцам не хватает воды, они мучаются от жажды. Выкопайте мне, пожалуйста, колодец.
— Посмотрим, — задумчиво сказал Байпак.
И, оказалось, зря произнёс он слово «посмотрим». Только оно вылетело из его уст, как чабан, вскочил на ноги как сумасшедший, кинулся к привязанному коню, вскочил, как молодой джигит, в седло и весь радостный, как будто жена родила ему ещё одного сына, поскакал к своей юрте.
Старик Калтак, ещё недавно лежавший при смерти, укушенный не то каракуртом, не то синим клещом, выздоровел и суетился как ни в чём не бывало. Он выкопал много редко встречающихся лекарственных трав, таких как степной аконит, высушил их в тени и свалил в кучу возле шатра,
Что же предшествовало обряду жертвоприношения, исполненному Аборигеном? С тех пор как наступило полнолуние, ночи на стопе стали тревожными. Стоит только археологам после тяжёлого трудового дня зайти в палатки и заснуть, положив головы на подушки, как из-под земли доносился плач ребёнка. Вначале все думали, что это «плач» шакала, и поэтому не обращали на него внимания, переворачивались на другой бок и засыпали. Однако через два-три дня этот плач усилился. С наступлением сумерек тишина становилась густой, как айран, а после появления луны взрывалась. Первоначально доносился как бы издалека негромкий девичий плач. Никто не мог понять, что это за плач. И когда луна поднималась высоко в небе, этот плач, усиливаясь, отзывался как бы из-под крепости, уже похожий на жалобный стон кобыза. И это было страшно.
«Ау, этот голос не плач ли детей, оставшихся под развалинами крепости?», — подумал студент-историк и вскочил с места, как ужаленный. «Оу, город Жент был разрушен 800 лет тому, назад и это не плач давно погибших детей, а дух предков, тоскующих под землёй», — пришёл он к такому выводу. И этот голос, то затихая, то взлетая ввысь, не прекращался час за часом. Студент-историк, внимательно вслушиваясь в плач кобыза, почувствовал ужас в сердце и задрожал, как лист под порывом ветра. Ему показалось, что это и не завывание ветра, как вначале он предполагал, и не плач ребёнка, оставшегося под развалинами крепости. Он совсем иной, ещё ни кем не слышанный… А, это голос хозяина этих древних мест, его мелодия, его ритм.
Студент не заметил, как выбежал из палатки. Протерев глаза, с испугом посмотрел по сторонам. Ему почудилось, что кто-то в сторонке пристально смотрит на него. «Он! Он!» -подумал будущий историк, и от страха потеряв голос, скованный ужасом, так и застыл под светом полной луны. Это существо, которое так испугало его, медленно приблизилось к нему, сердце бешено заколотилось в груди, силы оставили его, и кто знает — ещё малость, и он бы умер от страха. И только вопрос начальника экспедиции: «Ты что здесь делаешь?» — привёл его в чувство. Оказалось, что чудовище, которого он так испугался, было Байпаком. Как он тогда обрадовался, как возликовал! И было отчего! Испугаться и думать, что пришёл конец, и вдруг внезапно увидеть живого человека, а не духа — это ли не радость?
— Ты чего стоишь?
— Что-то расхотелось спать, мне почудилось, что кто-то играет на кобызе, кто-то шумит, будто скачет на коне под землёй.
— От страха двоится в глазах, не будь таким трусливым. Подумай сам, что это за кобызист, который играет сам по себе вдали от людей в этой бескрайней степи?
Хоть Байпак и сказал это, но внутренне напрягся, что этот студент может и самого его спросить: «А что это вы сами ходите и не спите?». Повысив тон, он сказал, что завтра предстоит тяжёлая работа, и он поднимет всех рано утром. Затем загнал студента в палатку. Он знал, что этот парень в свободное время пишет стихи, по-своему мечтает, творит, и подумал, что на этого впечатлительного молодого человека с богатым воображением подействовал дух этого старинного места. Он захотел было взобраться на стену крепости, что высоким горбом высилась не вдалеке, но что-то остановило его, какое-то нехорошее предчувствие, сердце защемило как при физической боли. Прислушался малость — полная белая луна склонялась к закату: этот холодный голос, донёсшийся как бы из-под земли, затих в песках, замолчал в тишине; в это время ночная степь стала похожа на поверхность молока, покрытую тонкой корочкой сметаны. Байпак всё же поднялся на вершину стены крепости и долго вслушивался. Полная луна закатилась за далёкий синий горизонт, как жестяное ведро, опущенное в глубокий колодец.
Утром на стоянку археологов снова примчался Абориген. Как всегда, затянул свою «песню» о колодце, который надо выкопать. У чабана, живущего в песках, мысли вразброс, в десяти направлениях: когда-то в далёкие времена в этих местах буйно росли верблюжье колючки, саксаул и другие травы и кустарники, где они сейчас? Остались только песчаные барханы, голые, словно кто-то сбрил всю растительность гигантской бритвой. Нарушилось равновесие природы, ныне похожей на тяжелобольного человека, сошедшего с ума. Нарушилась гармония. У Аборигена была книга «Новый Завет» на казахском языке выпуска 1820 года. В морозные зимние дни, заперев овец в каменную кошару, жарко затопив железную печь и лёжа на одеялах, он любил почитывать эту книгу. В ней говорилось, что если джинн войдёт в тело человека, то в скором времени не выйдет оттуда, будет толкать человека на всякие безумные поступки, и в конце концов человек умирает от всего этого.
Однажды пророк Иисус двигался по дороге, и в пути ему встретились два юноши, которые размахивали руками и кричали с безумным видом: «Мы будем соревноваться с ветром, будем ловить рыбу в солёном озере». Пророк сразу же понял, что в их тела проникли джинны, отчего они стали беспокойными. Немедленно сойдя с повозки, он вытянул руки с раскрытыми ладонями, прочитал молитву, погладил их ласково по головам и выгнал джиннов из их тел. Но было одно непременное условие: изгнанных джиннов надо обязательно поместить в какое-нибудь живое тело, иначе эти джины опять войдут в человеческие тела и наделают много бед. Пророк опять прочитал молитву и успел загнать этих джиннов в тела двух свиней, пасущихся возле берега реки. И только он это сделал, как тут такое началось! Эти две спокойно пасшиеся свиньи вдруг как захрюкали, как вздыбились, как кинулись словно угорелые, и как сумасшедшие бросились с высокого обрыва в солёное озеро прямо в грязь, там и утонули. Двое бедняг, избавившись от джиннов, впряглись в повозку пророка и стали его учениками. Похоже, и в Кызылкумы проникли проклятые джины, описанные в «Новом Завете», потому что с утра до вечера дует пронизывающий, завывающий ветер, песок перемещается, засыпая караванные тропы. И откуда появились эти злые, проклятые джинны? Когда проникли в Кызылкумы? Никто не знает. Может, они вышли из Аральского моря или вылетели из дула стволов ружей охотников, которые безжалостно истребили сотни, тысячи сайгаков, табунами ходивших в этих песках?… Или вышли из тел молодых пьяниц, которые ради водки готовы забыть имена своих предков и пьяными устраивающих драки и скандалы? Или джинны вышли из тел археологов, которые с целью поскорей выкопать сокровища древних времён, разбросали повсюду кости предков, разрыв их могилы? Что ни говори, но злой джинн, бродящий по пескам, очень опасен. Не даёт, проклятый, вести хозяйство и получать доход, чтобы зажить обеспеченной жизнью. Чабаны твёрдо верят в то, что в Кызылкумах до сих пор бродит невиданный, могущественный, очень злой джинн.
Археологи, производившие раскопки древнего города Жента, сняли верхний слой земли и песка и только начали снимать второй, как наткнулись на строения самого города. Каменный дом архива, простой низкий дом и другие дома как бы раскрыли свои двери, приглашая войти внутрь. Медресе, кузницы, ханский дворец, караван-сараи как бы стонали под порывистым сильным ветром. У дома праведников высокие столбы, на которые опиралась крыша, свалились, и крыша рухнула внутрь. Повсюду валялись осколки разбитых глиняных кувшинов. Когда наступаешь на них, и они хрустят как высохшие кости, то невольно нагибаешься вниз, чтобы посмотреть, что же это такое.
В этом городе были найдены две старинные вещи, которые потрясли всех и вызвали сенсацию среди историков. Первая — это прекрасно оформленная, разрисованная, обожжённая глиняная скатерть. Посреди скатерти стоял большой глиняный кувшин, предназначенный то ли для виноградного сока, то ли для мясного бульона. Он так хорошо сохранился, что выглядел как новенький, будто только сегодня вышел из мастерской. Вторая прекрасная вещь — переносной, чудесно изукрашенный ювелирами, вызывающий восхищение, сделанный из обожжённой глины печь-камин. Такие камины сооружали мастера огузского народа в начале средних веков, позднее их переняли в свои страны французские и английские мастера. Неспроста есть такая версия, и она имеет под собой вполне обоснованные доказательства, что родиной печей-каминов можно считать именно город Жент, находившийся нижнем течении великой реки Сырдарьи. До сих пор на месте изготовления печей остались тысячи ям, как крапинки на лице больного оспой. Глина города Жента вязкая, как пластилин и тесто, растягивается хорошо, прямо как жвачка. Если её обжечь на огне саксаула, разукрасить, отделать орнаментами и высушить, то она звенит как стекло, звонко и голосисто. И эти две ценности, найденные на месте древнего города Жента, пожалуй, с лихвой окупят все расходы института и принесут научному миру большую пользу.
Пришло время для применения печей-каминов, которыми так хорошо пользовались кочевники. Археологи разожгли гулкий огонь, рядом положили глиняную скатерть в середку и устроили пиршество. Вечером к Байпаку и его бородатым помощникам — из песков прибыли Абориген, Есенбай,— все собрались вместе за одной скатертью. Был сварен в котле упитанный баран, его части раздали всем чин по чину, по старшинству. В глиняный кувшин, стоявший посередине скатерти, не налили жирного мясного бульона под предлогом его тщательной очистки. Все только с восхищением рассматривали это, поистине прекрасное чудо искусства. Все сидели за скатертью своих предков: и молодые, и старые.
Немного хлебнувшего спиртного молодёжь громко смеялась, острила.
— Неужели десять веков тому назад вот так, за одной скатертью, сидели наши предки и ели из одного котла?
— Кто знает, может, в этот огромный кувшин наши предки наливали вино и от души выпивали, а сильные и знатные поворачивали в свою сторону краник кувшина.
— Не только вино, но подавали, наверное, и пенистый, свежий, крепкий кумыс, если его хорошенько взболтать, то он не хуже вина свалит любого здоровяка.
— Если здесь кто-нибудь хорошо ест жир…
Однако Байпака прервал весёлую болтовню молодёжи.
— Эй, знатоки древности, хватит балагурить, давайте поговорим о неотложных делах.
Озабоченность начальника экспедиции была следствием одного опрометчивого слова «посмотрим», сказанного им чабану Аборигену, попросившему выкопать колодец. Эта озабоченность не дала ему ни поесть спокойно, ни попить бульона. Как человек слова, а это достоинство в наше время встречается так редко, он не мог забыть о своём обещании чабану, овцы которого так мучились без воды.
Молодёжь тут же смолкла, а у Аборигена потеплело на душе. Он с многозначительной улыбкой посмотрел на ровесника Есенбая как бы говоря: ты видишь, моя просьба не осталась без последствий и я чего-то стою в этом мире.
— Сможем ли мы на некторое время выделить экскаватор для рытья колодца? Поможем ли чабанам, сидящим в песках без воды? Что скажете? — обратился Байпак к археологам.
Заговорил один из бородачей, покрасневший от досады.
— Что получается? Этот чабан хочет купить нас за одного барана и пять бутылок водки? Как мы можем заниматься рытьём колодца, если у самих не выполнен план работ?! Не найдя сокровища древних огузов, мы ходим как потерянные, так надо ещё и колодец копать? Не много ли?
— Ты не горячись. Во-первых, никто нам не давал указания во что бы то не стало найти сокровища древних огузов, во-вторых, как мы можем спокойно есть и пить, зная, что рядом с нами живут и мучаются чабаны без воды. Мы же все здесь сидящие произошли и расселились по огромной казахской земле вот от таких животноводов-казахов.
Бородач продолжал стоять на своём:
— Мы ещё не освоили выделенные средства. И жизнь наша ещё не наладилась толком, какое тут может быть рытьё колодца.
И тут в разговор вмешался, вытянув шею, как цапля, чабан Есенбай. И слова его были грубы и невежливы:
— Эй, сейчас нет толку от молодых, у них поясница слаба, желудок не переваривает пищу, все худые, длинные, слабые; они не стоят одного старика Калтака, который хоть и пьёт плохую воду, однако всё ещё силён и крепок.
— Говоришь, что у нас поясница слаба, ты проверял, что ли, нас? — с раздражением спросил бородач.
— Хоть и не проверял, однако кто проверял, тот и говорит: почему здесь сидящие в джинсах, лохматые-бородатые, в тёмных очках, почему они, я спрашиваю, бегут в города? Что, в ауле нет работы?
— Из загнивающего рта выходят только гнилые слова, ты смотри, болтает ещё о чём-то.
— Хватит! — не выдержал Абориген. Лицо его потемнело. Он в гневе слушал бессмысленную перебранку. Особенно рассердился на Есенбая, которого хотел разнести в пух и прах, он понимал, что кроется за всем этим: у этого подленького соседа только одно на уме — как бы сделать так, чтобы у Аборигена не рыли колодец, чтобы дела у него не пошли в гору. Вот Есенбай взял да и превратил хорошее дело, которое вот-вот должно было решиться, в ссору: бородатый копатель может отказаться копать колодец чабану, то есть ему, мотивируя отказ невозможностью сделать это.
Несколько молодых, одетых в джинсы в обтяжку, в больших очках с тёмными стёклами, не поймёшь: не то парни, не то девушки, поднялись и, посмеиваясь, ушли. Наблюдая за всем этим, помрачневший Байпак вытер руки полотенцем.
— Что делать? Может, в свободное от работы время, вечером в часы отдыха всё же выкопаем колодец? — обратился он к остальным.
— Хоть будем рыть сорок метров, всё равно не сможем найти воду. Тут нужен опытный специалист, — возразил кто-то из археологов.
— Ко всему кончилось горючее у экскаватора.
— До каких пор будем копать лопатами? Вымотаемся же все!
— Нас послали сюда произвести раскопки мёртвого города, и если начальство узнает, что мы вместо того чтобы заниматься важным научным делом, копаем колодец какому-то чабану, то нас навряд ли погладят по голове.
Слыша все эти отговорки, Байпак опустил голову, настроение резко упало, он молча ковырял спичкой в зубах. До слуха донеслись: блеяние измученных жаждой овец, порывы злобно дующего ветра — всё это показалось ему плачем пустыни. Он содрогнулся, поёжился и поднял голову. Лицо Аборигена потускнело от боли, чабан напоминал волчонка, сидящего на могиле, поднявшего морду к синему небу и собирающегося завыть от тоски и безысходности. Сурпа, налитая в деревянную чашку, уже успела остыть. Меж тем наступили вечерние сумерки, и повариха принесла в большую брезентовую палатку зажжённую настольную лампу. От слабого света лампы лица сидящих пожелтели и стали похожи на покойников, восставших из могилы.
На память Байпаку пришла одна история из «Нового Завета», из раздела Евангелия «Благая весть от Матфея».
Властолюбивые иерархи тогдашней религии и властные военачальники решили оклеветать и уничтожить пророка Иисуса. А ведь пророк Иисус столько сделал добра своему народу! Один из апостолов Иисуса, Иуда, предал своего учителя за тридцать сребреников, договорился о его выдаче, тайно вступив в сношения с высшим духовенством. Что самое удивительное: честнейшего и чистейшего пророка Иисуса нельзя было отличить от простолюдинов —, так как он был прост и незаметен. Не то что в наши дни: стоит только кому-нибудь разбогатеть и получить небольшую власть над людьми, как он тут же меняется, стараясь выделиться из толпы своей одеждой, своими приподнятыми плечами, суровым, властным взглядом, невольно подумаешь — идёт пророк, да и только! Да, тут Иуда сказал церковным иерархам: моего учителя вы не отличите от простого народа, когда к храму придут воины, то тот, кого я поцелую в лицо, и есть мой учитель, мой пророк. Они согласились. И когда толпа воинов и людей стала собираться у храма, то Иуда подбежал к Иисусу и стал целовать его при всём народе. Ничего не знавший народ удивился и умилился поступком Иуды, и все говорили друг другу: «Что за преданный и любящий ученик у этого учителя!». Тем временем стража схватила Иисуса и повела. Народ, вместо того чтобы помочь ему, только расступался перед стражей. Пророку связали руки и привели к наместнику Рима, куратору Понтию Пилату. И начался допрос на большой площади перед собравшимся народом под палящими лучами солнца.
«Ты говорил, что сломаешь священный храм Бога и за три дня восстановишь его?».
«Ты раскрыл глаза народу, что в жизни есть и другие интересы, кроме пахоты и пастьбы скота».
«Выгонял джиннов из тел, в которые они вселялись, вернул зрение слепым, поднял на ноги инвалидов, вылечил одним лишь прикосновением руки, вселив веру в их сердца».
И когда всё это ставилось в вину пророку, как будто он совершал какие-то преступления, то людские толпы вместо того чтобы вмешаться и защитить его, кричали, свидетельствуя: «Да, да, это правда! И то, что выгонял джиннов из тел, и то, что слепым вернул зрение, и то, что инвалиды становились на ноги, и то, что раскрыл нам глаза на смысл жизни». Толпа кричала неистово, обвиняя, становясь на сторону обвинителя, пресмыкаясь перед властью, перед Понтием Пилатом. Видя всё это, пророк Иисус поразился. Только вчера он ходил среди них, лечил, помогал страждущим, то она, вот эта толпа, благодарила его, любила, поддерживала, а сейчас, нет, он не мог и подумать, что она вот так быстро переменится. Не думал, что она станет вот такой, чужой толпой, которая ради своих выгод готова предать и родного отца, вот такой, которая никого на жалеет, которая ничего глубоко не понимает. Да, толпа наводит много страха и глубоко давит и топит. Давно сказано мудрецами — бойтесь фанатичной толпы, бессмысленной и жестокой.
Пророк Иисус сильно испугался этой толпы, которая, забыв все его благие деяния, быстро переметнулась на сторону Понтия Пилата и с налитыми кровью глазами.
«Он повёл вас за собой?» —громко спросил Пилат. «Да, да, повёл, повёл!». — «Говорил ли вам, что за этими красными песками есть другая жизнь, более интересная, чем эта?». — «Да, да, говорил» «Соблазнял ли вас любовью к детям, говорил ли о крепости семьи, живи мирно, помогай друг другу. Соблазнял ли всем этим?». — «Да, да, соблазнял, соблазнял!» — вопила толпа. «Говорил ли вам о добре друг к другу, о том, что вместо того чтобы собирать богатство, надо любить и помогать друг другу. И это делал каждый день, так ведь?». — «Да, да, говорил и делал каждый день!». — «Тогда я не повинен в крови этого человека. Что хотите, то и делайте с ним, я умываю руки», — сказал он и, сойдя с кресла, потребовал воды, оголив локти, вымыл руки. На глазах народа долго полоскал рот. «Видите, я не виноват в крови этого человека, всё начал он, ради него вы побросали все свои дела, это он, всё он, делайте с ним всё, что хотите!». Произнеся эти слова, Понтий Пилат взял да и отдал Иисуса в руки разгневанной толпы. И тогда эта безумная, голодная, тупая, озверевшая, не знающая с кого спросить за все напасти, которые она переживает, превратившаяся в фанатичный сброд толпа стала бить и истязать своего честного, благородного пророка. Одни из них нацепили на голову Иисуса корону, сделанную из колючек (ещё и змеялись торжествующим смехом), другие положили его на доски, ещё одни, взяв в руки молоток и гвозди, прибили его крест-накрест к брёвнам. Наблюдая за этим сверху, Понтий Пилат засмеялся довольным и ироничным смехом. Толпа, завершив своё ужасное дело, закричала: «Его кровь на нас и на наших детях!». И тут же вкопала в землю столб, на котором крест-накрест был прибит пророк Иисус. И так же быстро разошлась, каждый занялся своим привычным делом, стараясь не думать о содеянном преступлении. Как будто его и не было. Тем временем зашло солнце, и наступила ночь. Затем минул ещё один день. Настал и смертный час для пророка. У него кончились силы, он ослаб, и смерть подступила вплотную. Он собрал последние усилия и во весь голос закричал:
— О, Господи! О, Господи! Не оставь меня!
И этот горестный возглас громким эхом разнёсся по всей округе. «Не оставь меня! Не оставь меня!». Сказав это, Иисус умер. В городе же стояла тишина, и вместе с лучами солнца началась привычная жизнь; и тогда этот ужасный, горький крик пророка Иисуса как ножом прорезал эту привычную тишину и привычную жизнь людей. И только тогда тупые люди — манкурты — поняли, какое дело они совершили и какого благородного, честного и справедливого пророка лишились. И поняв это всем сердцем, всей душой, горько заплакали: кто в лачуге, кто на базаре, кто в поле, плакали, рыдали, тряся плечами, закрывая лицо руками.
Представив эти картины в воображении, Байпак, словно охваченный холодным порывом ветра, зябко передёрнул плечами и порывисто встал. Напротив всё так же сидел Абориген в конце глиняной скатерти; худой, измождённый, со впалыми щеками, он был так похож на пророка Иисуса из Библии. Ему не хватило коврика, расстеленного на земле, и он сидел на песке. К его брюкам прилипли песчинки, рубашка на груди распахнулась, и чабан смотрел на него, ожидая услышать только положительный ответ.
Байпаку стало жаль его. Казалось, что если сейчас он услышит: «Нет, мы не можем рыть твой колодец», — то Абориген упадёт навзничь и, закричав от душевной боли, тотчас отдаст Богу душу. Или закричит: «О, братья мои! Люди, вы что, хотите оставить меня в этом месте, где нет воды, трава вся сгорела от жары, оставить меня одного!». И его горький возглас прорежет темноту ночи, раздирая уши. «Зачем меня оставили одного? Живя в песках, я от зноя потерял не один слой кожи».
У Байпака поднялось кровяное давление, заломило в висках.
— Значит, так, с завтрашнего дня все силы бросим на рытьё колодца. История нужна не мёртвым, но живым. Создатель — хозяин не мёртвых, он — хозяин живых!
Сказав это, Байпак, пригнувшись, вышел из палатки. Ночь в песках была не сплошь покрытая тьмой. Вдали из-за барханов поднималась полная луна. Полярная звезда тускло светила из-за того, что соляная крупа со дна пересохшего Аральского моря поднялась в воздух, закрыла полнеба, словно грязный головной убор старухи, и звёздочки еле просвечивали сквозь эту крупу, будто серебряные тенге, выпавшие из грязной торбы нищего. Издалека доносился жалобный «плач» шакала, песок под ногами двигался как змея. Кто скажет, что каких-то двести лет тому назад здесь проходили цепочкой неисчисляемые караваны верблюдов, выходя из караван-сараев, что здесь работали кузни, медресе, что здесь жили, привлекая взор, полногрудые и широкобёдрые красавицы — скажешь, не поверят. А ведь это было! Время — след каравана на песке, дрожание луны, черенки кувшина, валяющегося под ногами. Далеко в ночным мраком прочертила небо хвостатая звезда и сгорела. После того как Байпак вышел из палатки, внутри начались и недовольные пересуды оставшихся археологов. Разгорячённый водкой бородач доказывал с пеной у рта:
— Его плачущие овцы и он сам совсем свели нас с ума, нас, мирно ведущих раскопки древнего города.
— Что, разве не свели с ума? Оставив в стороне все научные работы, научные изыскания, мы теперь должны копать какой-то колодец, для какого-то чабана. Что за чушь собачья?!
— Мы теперь стали не учёные, а копатели колодцев!
— Помните тот день, когда наш Байеке был у этого чабана дома, тогда тот, видимо, дал ему ослиные семена, растворив в чае, и вот с этого времени наш академик сошёл с ума, мысли у него вразброс, не понимает, что говорит.
— Это, точно, я понял, что если войдёшь в их дом, выпьешь воды, то обязательно сойдёшь с ума и убредешь, куда глаза глядят. Это я испытал на себе. В прошлое воскресенье я взял ружьё и решил поохотиться на сайгаков. И вот, измученный жаждой, я заглянул в юрту вот этого чабана. Меня встретила круглощёкая симпатичная женщина, из рук которой я и выпил тепловатый, со вкусом железа айран. Дальнейшее помню урывками. Помню, как схватился за живот и свалился. Ночью что-то круглое, холодное, длинное обвило шею, я как сумасшедший вскочил и побежал, и всё стрелял, стрелял. Вернулся в лагерь только три дня спустя.
— Да, мы видели, как ты вместо сайгака приволок хвост облезлого шакала.
Услышав эти нелепые расказни, Абориген аж затрясся от негодования, едва сдержался, чтобы не накинуться с кулаками на болтунов, а Есенбай, лежавший возле стенки, закатился тоненьким смехом, держась за живот, согнулся вдвое и пополз к выходу.
— Хэ-хэ-хэ!.. Ехе-ехе-ехе!.. Ык-ык-ыхы!.. Ойбай, живот свело судорогой, так я сильно смеялся, ой, чуть не лопнул от смеха, ой, что и говорить — комедия! Что это за люди, каждый мнит себя начальником, каждый думает, что он прав, каждый подставляет подножку, ха, и это учёные!
Есенбай и на свежем воздухе долго не мог остановить душивший его смех. Какой же дурак, этот Абориген, нет у него ума. Разве могут городские молодые парни, не знающие всей тяжести пастушеского труда и смотрящие на чабанов как на жирный бараний курдюк, не имеющие жалости к нам, помочь ему. А он зарезал для них упитанного барана, привёз водки, дурень. Если бы у него была хоть капля ума, то разве доверил бы своих овец какому- то старику Калтаку, который как перекати-поле готов улететь под порывами ветра. В последнее время Абориген потерял пять овец, а ещё раньше — оставил дома одну миловидную, круглолицую жену — а это опасно, и несколько месяцев проявлялся в больницах. Сам же Есенбай не ждёт милости от городских казахов. Найдёт способ жить безбедно и хорошо. В начале лета от палящего зноя поверхность почвы покрылась трещинами, кошара загорелась, тряхнуло под песками в глубине земли. Он тут же перекочевал к железной дороге, остановился прямо напротив совхозного центра, поставил юрту. Заткнув камчу за голенище сапога, с угрюмым выражением лица вошёл в контору. Для кого-то — это ложь, для Есеке — правда. Мамырайхан уже стал депутатом парламента совета и два месяца был на сессии, подрёмывая в прохладном зале заседаний, поднимая руку, когда все поднимали, хлопая в ладони, когда все хлопали. Если председательствующий задавал какой-нибудь вопрос, бойко отвечал: — мы выбираем ваш путь; вернулся сытый, довольный. Мамырайхан встретил Есенбая с распростёртыми объятиями, налил из белого чайника чаю и предложил выпить. Тот с сумрачным видом отказался. Мамырайхан начал было рассказывать, как он в столице был на сессии, говоря восхищенно: «Ай, каких я умных и острых на язык джигитов слышал, просто умницы!».
Есенбай и глазом не моргнул, и ни один мускул не дрогнул на лице. Выхватив из-за голенища камчу, бросил на стол. И без всяких предисловий выпалил:
— В песках от жары творится ад, воды нет! На сакмане помощников нет. Иди и сосчитай овец, а я ухожу.
Взяв камчу в руки, заявил:
— Я написал на тебя заявление на 53 страницах, там указал, что ты забыл про обещания, данные чабанам перед выборами, они живут в ужасающих условиях, им никто не помогает.
Мамырайхан побледнел, упал духом и, заискивая, сказал: — Ау, ты бы свои проблемы …высказал устно, по-родственному, помягче, ну разве так можно?…
— Вон твои овцы бегают возле железной дороги, если проедет поезд, то раздавит всех на шашлык.
Мамырайхан вскочил как ужаленный, собрал женщин и с их помощью отогнал овец от железной дороги. Есенбай, пришёл домой и лёг отдохнуть. Тут появилась одна девушка и сказала : «Дяденька, депутат зовёт вас к себе домой».
«Что ж, если зовёт, то посмотрим, хочет поговорить — поговорим, нальёт — выпьем, даст еду — покушаем», — сказал себе Есеке и, важно пройдя по аулу, вошёл в дом Мамырайхана. В доме была тишина, никого не видно, одни пустые комнаты, будто вымерли все или куда-то откочевали. Еле нашёл хозяина в самой дальней комнате. Тот лежал на продавленном диване. Увидев чабана, он заговорил, тяжело и прерывисто дыша:
— Жена на курорте Сарыагаш, лечится. Сын в школе, дочь сбежала замуж, в этом доме нет никого, кто бы поставил казан на огонь и приготовил поесть. И замолчал.
Потом поднял голову, поправил подушку. — «А теперь, дорогой, слушай меня внимательно: гони свою отару на зимовку возле Куандарьи, это место, конечно, не рай, но ты потерпи малость, вот поправлюсь от болезни, то новенькую водовозку кооператива выделю тебе…Обещание моё твердоё, слово сдержу, верь мне, а теперь, если не хочешь меня заживо похоронить, то порви своё заявление на 53 листах и сожги на моих глазах».
Есенбай внутренне возликовал, услышав слова «новенькая машина». Ему стало жаль заболевшего депутата. Он хоть и действительно написал заявление, и говорил всем про это, но всё же не послал её в область. Чабан нагнулся и вытащил из-за голенища сапога это заявление. Глаза у хозяина дома вытаращились от изумления.
— И что, здесь написаны все факты против меня?
— Все про тебя.
— О ужас, столь много страниц!
— Если поискать, оказывается, можно найти.
— Порви, дорогой, и немедленно сожги!
Есенбай пожалел своё, долгими ночами с такой охотой написанное произведение, ведь он вложил в него столько труда. И он покачал головой.
— Хорошо, я пока никуда не пошлю, не буду поднимать шум, в тот день, когда перед моим домом остановится новенькая водовозка, вот только тогда я при всех сожгу это заявление —сказал он, подумав.
Затем взял свои бумаги и засунул за голенище, встал и холодно, не простившись, вышел из комнаты. А теперь он понял, что поступил тогда правильно, прижав Мамырайхана, а если бы не прижал, то не видать бы ему ни отремонтированной кошары, ни свежей воды, ни дополнительного заработка. Может, как Абориген протягивал бы руки с просьбой ко всем, остался бы без воды, и покусал бы его каракурт, и ходил бы он из одной больницы в другую, и болел бы всё лето, то оживая, то умирая. Ехе-ехе-ехе!.. Ха-ха-ха!.. Никто его не жалеет, так разве он, что ли, должен кого-то жалеть? Нашли дурака! Время сейчас такое — каждый гребёт под себя и до других никому нет дела. Как ему не смеяться! Кто слушает его плач, его мучения, только и осталось что зарыдать, или схватить за воротник учёного, прибывшего из столицы, да спросить, куда ты дел воду Сырдарьи, как успел погубить Аральское море?
Через два дня на северной стороне Абылуйгена появились двое археологов - белых кепках, тёмных очках, с лопатами в руках и начали, как суслики, копать белую глину. Вскоре за ними прибыл бульдозер. Колодцекопатели, не переставая работать, вначале погрузились в землю до пояса, через день видны были только верхушки голов. Какие, однако, у этих дивных парней были крепкие души и твёрдая воля! Работали они, как заводные. Ведро быстро наполнялось глиной. Привязав верёвку к ведру, они кричали помощнику, стоявшему наверху: «Давай, поднимай!».
Они не просили воды, не говорили, что устали, не отдыхали, работали от души. На пятый день приехал Байпак, чтобы проверить работу, и остался очень доволен.
— Копайте глубже, когда дойдёте до пятого метра, пришлю ещё помощников.
— Это что за помощники?
— Историки, девушки из университета, сегодня присланные к нам. Сами они с тонкими талиями, а икры их ног полные, как столбики дворца, лица белые, нежные, просто красавицы.
— Ппришлите двоих, пусть они откидывают выброшенную землю подальше от колодца.
—Боюсь, что тогда засмотритесь на этих красавиц и вывихните шеи, —пошутил Байпак. Однако действительно утром, к краю колодца подошли две девушки в ярких платьях. Увидев их, юноша, жевавший хлеб, чуть было им не подавился. Глаза у него заблестели, на лице заиграл румянец. Оказывается, снизу видны не только полные икры ног, но и другие части тела, особенно скрытые места. Молодой копатель стал размашисто и энергично бить кетменём землю, вонзаясь как можно глубже. Солёный пот залил лицо. Наверху раздавались звонкие голоса девушек, а его спина горела и пылала жаром, как будто кто-то провёл по ней ярко-красным огнём. Через некоторое время сильно устав, прерывисто дыша, он сел на дно колодца. Сказал напарнику: «Кровь что-то ударила в голову, маленько отдохну». Пощупал карманы, ища сигареты и спички, и вспомнил, что они остались наверху.
«Эй, подайте верёвку», — хотел крикнуть он, подняв голову, но опять увидел полные икры, белые, как снег, бёдра, и опять не смог отвести глаз. Вскочил на ноги и, забыв обо всём на свете, лихорадочно схватил лопату и стал неистово копать.
Приехал Абориген. Он лёг на край колодца и прокричал: «Как вы там, живы?». И делал он это не раз. Внутри колодца становилось всё прохладнее. В полдень из копателей по верёвке выбрался наружу. От холода у него стучали зубы, лицо побледнело. Байпак растерялся и, вытащив из кармана фляжку, открыл крышку и дал юноше глотнуть немного спирта. Положил его на горячий песок. Через некоторое время парень пришёл в себя и сказал: «Байеке, если мы и дальше будем копать, всё равно вода ещё не скоро появится на дне колодца. В давнее время наши предки, копатели колодцев, чтобы не осыпались песчаные их, выкладывали стенки саксаулом — это раз; во-вторых, если не вытаскивать глину двойным блоком, то работа не будет продвигаться быстро». После этих слов настроение у Байпака упало, как будто придавленное тяжёлым камнем. Парень говорил правду: если не укреплять стенки колодца, то до следующей весны они обязательно завалятся. Их в обязательном порядке нужно укрепить досками. И чем глубже будет колодец, тем труднее это будет сделать. Следующее мучение: это не дело — вытаскивать пропитанную сыростью глину вёдрами. И тяжело, и времени уходит много. Такими темпами придётся рыть колодец до зимы.
На своём гнедом коне не спеша подъехал Абориген. Спрыгнул с коня, поздоровался со всеми и сел на песок. Помолчал. Увидев понурые лица Байпака и молодых копателей колодца, сразу понял, что они зашли в тупик. Вдали на горизонте показалась туча, и тут же загремел гром. Абориген, наклонив голову на плечо, иронично хмыкнул: « В наше время и погода, и люди сошли с ума».
И вправду, он впервые слыхал гром в это время года. Круглый мяч солнца окрасился в красный цвет, и чем ниже клонился к горизонту, тем больше превращался в пылающий огонь. Песок окрасился в багровый цвет. Глаза чабана стали похожими на красные угольки.
— Я знаю, почему вы сидите, понурив головы, — сказал Абориген, — отсюда на сотню километров в глубь песков нет саксаула, его как бритвой срезало; уничтожили люди, жившие вдоль железной дороги, они рубили саксаул на приготовление пищи. Единственный выход: я сломаю летную открытую кошару и возьму доски, лишь бы они сгодились на укрепление стенок колодца». Байпак не спросил: «А куда ты будешь запирать овец, чтобы они не стали добычей хищников?». Он видел, как измученные жаждой овцы совсем обессилены, чуть толкнёшь — падают с ног, заимели привычку скучиваться возле дома гурьбой. Людей не пугаются, шакалов не боятся. Бедные животные, высунув язык от жажды, тяжело дыша, только и знают, что ходить вокруг дома всем скопом, и так жалобно смотрят на человека, что, право, слёзы наворачиваются на глаза.
— Глину со дна колодца будем поднимать наверх не вёдрами, а большой бадьёй, и, как в старину делали наши прадеды, будем поднимать на верблюде, — заключил Абориген, без слов понявший мысли, Байпака — у соседа-чабана есть один-единственный верблюд, я много раз упрашивал его дать мне его на помощь, еле уговорил, и верблюда вскоре приведёт мой помощник, старик Калтай.
Услышав эти хорошие новости, потерявший было всякие надежды на благополучное завершение дела Байпак радостно поднялся и отряхнул пыль с одежды.
— Вырыть колодец и не зависеть от высокомерных активистов и начальников — моя давняя мечта, учёный брат. И без того они только и знают, что клеветать за моей спиной, -добавил Абориген.
— Не бойся.
— Как ты думаешь, мой учёный брат, докопаемся ли до воды, или всё это бесполезная и бессмысленная трата сил и времени?
— Я показал это место специалисту-геодезисту, он сказал надо выкопать ещё три метра, тогда обязательно покажется вода. Я верю ему.
— Да сбудутся мои мечты, брат мой!
Как было бы хорошо, если в этом равнодушном мире люди протягивали друг другу руку помощи, поднимали бы друг друга, когда кто-нибудь падал, творили бы только добро, тем самым озаряя радостью невёселую жизнь. «О как это было бы хорошо», — подумал растроганный Абориген. На его глаза навернулись слёзы. Как ему было тяжело сидеть одному на этой безлюдной земле и как сторож, служитель мечети, охраняющий святое место, оберегать этих овец и сидеть без надежды, опустив руки, не зная, что делать, как найти выход. Долгих лет ему жизни —пришёл вот этот благородный человек Байпак и, протянув руку помощи, принялся копать ему колодец. Вник в его бедственное положение, пожалел, проявил сострадание и милосердие. Иначе кого могут подкупить один его баран и несколько бутылок водки, да и что это за богатство — так, мелочь! Не стоить и говорить.
Да, кстати, всё происходит от слов «проявил сострадание и сожаление»: однажды, когда все изнывало от адской жары, с неба — нет не с неба — из металлической стрекозы-вертолёта спустился и в соломенной шляпе, в чёрных массивных очках большой и важный начальник. Он был измучен жаждой, весь в поту. Сел, скрестив ноги на войлочной кошме на почетном месте, попросил что-нибудь выпить. У Аборигена был компот из сушёных фруктов, который он берёг как зеницу ока.
Жена тут же принесла компот в пиале и протянула гостю. Отпив из пиалы, этот большой начальник сморщил лицо, сделал кислую мину и хотел было выплюнуть, но постеснялся женщины. Пришлось ему, бедняге, проглотить кислятину. Некоторое время спустя он поднял голову и начал говорить. Охрипший голос донёсся до слуха приглушённо, будто шёл из-под земли.
— Я председатель комиссии по спасению Аральского моря. Оказывается, наши статьи, которые мы давно пишем, наши собрания, где мы с болью обсуждали трагедию Арала, не дошли до верхов, до ушей президента. Другие страны не дали финансовых средств. Мы потеряли зря драгоценное время и стали лжецами перед нашим народом, — сказал он с горечью и болью.
Абориген спросил:
— Так что, теперь Аральское море не войдёт в свои прежние берега и не порадует нас своим полноводьем?
— Аралу конец, братишка!
— Как теперь жить, на что надеяться? В последние годы вода в колодцах стала солёной, пенистой, отчего мясо овец затвердело, оказывается, всё шло от этой беды, брат мой, о-о-о-ой!
— И когда умирает отец, извещают об этом, Арал на этом умер, брат мой, не знаю, встретимся ли когда-нибудь, о, переменчивый мир!
Председатель комиссии по спасению Арала и Абориген не заметили, как устремились к друг другу и, обнявшись, как родные братья, долго горевали по высохшему родному Аральскому морю. Снаружи горестно завыла собака, заблеяла больная овцематка.
— Ой, брат мой! Как теперь жить, как жить без воды? Неужели, продолжая так жить, мучаясь от жажды, когда-нибудь протянем ноги!? С тех пор как я появился на свет, у меня не было удачливого пути! Я не знаю как ты, я же избран депутатом, имею авторитет и я, бедняга, думал, что если я скажу: это белое — то оно действительно белое, если чёрное — то оно чёрное. И вот горделиво шагая по жизни с высоко поднятой головой, я только сейчас понял, брат мой, как я жестоко ошибался, каким был самонадеянным. Я ничего не сделал. Перекочуем, что ли, отсюда навсегда, бросив на произвол судьбы родную землю?
Так, поддакивая друг другу, долго не могли сдержать обильно льющихся слёз. До самого вечера оплакивали высыхающее на глазах Аральское море. И было горе этих людей не поддельным, а искренним, идущим из самых глубин души. И поймёт их только тот, кто своими глазами видел трагедию Арала, когда сам с детства видел прекрасное полноводное море, источник жизни для многих людей, и оно на глазах уменьшается с каждым годом и, испаряясь, улетает в воздух, а соль, поднятая со дна высохшего моря, несёт гибель на огромных пространствах.
Через некоторое время председатель комиссии промыл опухшие глаза тёплой водой и собрался улетать. Поднялся, прошёл к двери и, резко обернувшись, сказал: «Те, кто загубил Аральское море, будут вопить от боли в своих могилах!» И, поставив ногу на железную лестницу вертолёта, добавил: «У этих мест нет будущего, будешь кочевать или не будешь — это твоё дело, но мы больше не увидимся». Вертолёт поднялся и вскоре растаял в синем небе.
Наступили вечерние сумерки, и сразу же подул пронизывающий ветер. Тихая местность стала ещё более угрюмой, сумрачной. Завыла собака, жалобно заблеяли овцы. До слуха Аборигена всё ещё эхом доносились слова, сказанные председателем комиссии: «Нет жалости, нет жалости… будут вопить в могилах…будут вопить в могилах!». И куда бы он ни пошёл, куда бы ни поворачивал, везде ему чудится, что под ногами лежит разрытая могила, много могил, и что он ходит по костям мертвецов, с хрустом ломая их. И что там больше покоится людей, чем ходит по земле, что без могилы нет ни одного клочка земли. Куда он ни пойдет, везде увидит могилу. Он видит прах Коркыта — предка и видит трупы множества людей, которые стонут и скрежещут зубами. После того как его посетил на вертолёте тот председатель комиссии, Абориген разительно изменился, он почувствовал себя душевно опустошённым, через неделю свалился с ног и не смог подняться с постели. Дальше его история известна: приехал врач Ергенбай, осмотрел, поднял всех на ноги, крича «наш передовой чабан умирает». В конце концов отвёз его, обессилевшего, изнемогшего, в областную больницу…
Устав, Абориген заснул перед рассветом. И приснился ему человек, прилетевший тогда на из вертолёте. Неизвестно отчего, но волосы у него разрослись космами и стали белыми-белыми. Он стоял печальный, говоря: «Мои волосы побелели раньше положенного срока, братишка».
После того как досок, снятых со степ кошары, не хватило, на худом верблюде чабан стал из песков таскать кусты боялыча и пеньки джиды. Стенки колодца были надёжно укреплены, и песок перестал сыпаться. Работа пошла в ускоренном темпе. Парни стали уверенно, не заботясь ни о чём, копать землю, быстро наполняя бадью и углубляясь с каждой минутой. Почва становилась сырой. Вечером в пятницу из бадьи вылилась грязь с водой. Увидев это, Байпак закричал от радости, душа его возликовала. Услышав этот ликующий голос, прибежал Абориген. Пристально вгляделся видно бадьи, сунул руку, полизал палец. Широко улыбаясь, засмеялся от души. «Вода», —сказал он с огромным облегчением. Так Колумб, наверное, произнёс слово Земля после многодневного опасного плавания по Атлантическому океану.
6
Вскоре археологи нашли на месте древнего города множество человеческих костей, кувшин, полный золотых монет, осколки оружия и много чего другого, хватившего бы на груз для трёх верблюдов, и заявив: «Этого хватит для отчёта о проделанной работы», стали готовиться к отъезду в столицу.
Продолжать раскопки оказалось невозможным по одной веской причине: во-первых, выделенные средства для этой цели были израсходованы, во-вторых, наука оказалась теперь в условиях рыночной экономики, она должна была сама себя обеспечивать. Университет прислал официальное уведомление, что нет денег для дальнейшего финансирования работ. Байпак собрал членов экспедиции, отдал распоряжение — раскопки прекратить и собираться в дорогу. Брезентовые палатки были собраны, вещи упакованы и погружены на вмашины. «Увидимся ли когда-нибудь или нет, попрощаюсь с чабаном», — решил Байпак и в последний день сборов завернул к Аборигену, обитавшему неподалёку. Из-за угла кошары показался сам хозяин. Увидев гостя, пошёл навстречу. Поздоровался, протянув руки, — ладони были шершавые, как рашпиль.
«Идёмте в дом», — сказал он гостеприимно. Лицо его, когда-то круглое, с румянцем на щеках, постарело, было всё в морщинах. Подбородок заострился, нос опустился, глаза стали настороженными, так и пронзают насквозь. Байпак, пригнувшись, вошёл. Хотел было снять обувь, но Абориген предостерёг: «Не снимайте, пол холодный, жена уехала повестить родственников и детей в интернате, уже неделя как я один, сам себе готовлю еду». Байпак, боясь удариться головой о низкий потолок, пригибаясь, прошёл во вторую комнату. Стал искать стул, чтобы сесть. В комнате было полутемно, еле найдя маленький стульчик и тряпкой протерев поверхность, сел. Хозяин дома спустился на квадратную кошму и закашлялся.
«Вода в колодце стала солёной», — сказал он с горечью. Неприятная новость сильно поразила Байпака, на него будто обрушили тяжёлый камень. Растерявшись, он ничего не мог сказать.
В последнее время Аборигену снова занедужилась чуть походит подольше, как в глазах темнеет, тупая боль сдавливаясь затылок. Утром он просыпается при вкусом ржавчины во рту, случается, и харкает кровью.
«Мы-то уедем в столицу, доберёмся до благ цивилизации, а вот как будет жить этот бедолага, жующий твёрдый курт, пьющий горько-солёную воду и страдающий болезнью живота», — подумал Байпак с жалостью. И не знал, как озвучить свои мысли.
«Жена уехала к родичам по надобности или погостить?» — спросил Байпак из вежливости, чтобы поддержать разговор и избавиться от гнетущих мыслей. Абориген, лежавший на кошме, молчал. Не дождавшись ответа, учёный переспросил.
«Я думаю, вскоре она вернётся к своему золотому порогу»…Байпак поднял голову и с удивлением глянул на чабана, лежавшего в полутьме. не Присмотрелся внимательно и обнаружил, что чабан-то, сильно уставший за день, задремал. Байпак поднялся и с расстроенным видом хотел было выйти из комнаты. Лежавший чабан вздрогнул и очнулся. Подмял под себя ноги, рывком поднял голову.
— Ау, вы что, хотите уйти? Я всю ночь, не смыкая глаз, сторожил овец. Простите, нечаянно заснул. Вы садитесь, я сейчас поставлю на огонь казан, , разогрею мясо, попьём чайку. Ведь сказано — не уходи понапрасну из дома.
— Пусть будет тобою доволен Аллах, не беспокойся. Мы уезжаем, прощайте, некоторое время мы были добрыми соседями, кушали ваш хлеб и соль, не думайте о нас плохо. Чем смогли, тем и помогли, что было в наших силах — всё сделали.
— О чём вы говорите! Такого добра, которое вы сделали мне, я не видел и от отца. В песках мне вырыли колодец, детям помогли лекарствами, на вашей машине я привёз сено и дрова… Если говорить обо всём, то нет счёта вашим благодеянием. Вы что, и вправду собираетесь уезжать?
У Аборигена запершило в горле от тех укоряющих слов, которые он хотел сказать, но не решился: «Неужели вы оставите своего братишку в этом жарком аду? Оставите и уедете? Так что же это?» — хотел спросить он.
— Не знаю, мы должны были успеть нанести на карту все раскопанные места этого древнего города. И взять на учёт найденное при раскопках имущество. Однако столичное начальство приказывает возвращаться. Кажется, большим начальникам в столице не нравится, что мы хотим доказать — наши предки — имели свою историю, свои города, что они торговали наравне с Римом, Киевской Русью и вообще имели хорошо развитую цивилизацию. Оказывается, наше начальство ссылается на отсутствие средств для дальнейших раскопок, что нам не надо из ничего делать что-то, лучше тихо и спокойно работать в городе, получая зарплату и обеспечивая семьи. Немало критиковали меня и в конце концов объявили выговор. Пусть! Я знаю, что Бог, давший мне жизнь, сам и заберёт… в общем, мы уже полностью готовы к отъезду.
— Если я пасу овец то вы «пасёте мысли». Я думаю, что и у вас незавидная доля и тяжёлая жизнь, - почувствовал Абориген.
— Если ты пьёшь солёную воду и часто болеешь, то мы пьём холодную воду, чтобы погасить внутренний пожар в душе. Среди нас нет никого, кто был бы доволен своей судьбой. Наоборот, у всех проблемы, у всех своё горе. Ты тоже остаёшься один на краю земли в песках, наедине с измученными жаждой животными. Я не спрошу, какие у тебя надежды на завтрашний день, как ты проведёшь сегодняшний день, брат.
— Я ничего не знаю, — уныло ответил чабан, выходя вместе с ним наружу. — Говоря по правде, у скота, пасшегося на горькой полыни и пьющего солёную воду, мясо твердеет и становится непригодным к употреблению. Кажется, меня и эту отару овец оставили для эксперимента — выживем ли я и мои овцы без воды в этих жарких песках. Ведь учёные берут кролика и сажают в железную клетку, а мышь в стеклянную посуду и выращивают, наблюдая за ходом развития; вот так и меня, кажется, специально оставили здесь для опыта выживания, до каких пор я выдержу в этих адских условиях. Когда впервые построили Семипалатинский ядерный полигон в начале 50-х годов, то жители района Абралы были выселены, а на берегах реки Аксу были специально оставлены 30 человек для опыта, об этом стало известно позднее. Сейчас из этих тридцати человек живы только трое. Может, и я нужен для будущей науки, чтобы выяснить, сколько может выдержать человек, живя в трудных условиях.
Не зная что ответить на эти слова, Байпак смешался и промолчал. Граница между небом и горизонтом была желтоватой, чёткой, как будто прочерчена карандашом. Вершины барханов приподнялись, стали похожи на горбы верблюдов и загорелись кроваво-красным огнём. Это обычно бывало перед песчаной бурей. Вскоре стало тяжело дышать, невидимые для глаза мельчайшие частички соли и песка стали оседать на лице, ушах, шее, вызывая сильный зуд. Лежащие под землёй тысячи духов-предков, очнувшись ото сна, стали стонать и плакать; и земля и небо — всё заполнилось жутким воем. Почувствовав приближение ярости природы, отара овец подняла головы, прислушалась и гурьбой побежала в степь. Байпак сказал «прощай» и протянул руку чабану, ставшему ему младшим братом, улыбнулся тепло, приветливо. Постарался сказать ободряющие слова.
— Выдержи, терпи, всё будет хорошо, всё будет правильно, всё наладится к лучшему.
— Вытерплю, а что делать, как не терпеть, полечу, что ли, на небо? Кто придёт сюда, кроме меня, сюда, где когда-то ходили мои предки. Здесь я родился, здесь и помру.
— Да, кстати, причина горечи подземных вод в колодцах в том, что с Байконура для производственных нужд космодрома в песках Кызылкумов в восьми точках пробурили очень глубокие скважины, от них провели трубы и стали качать мощными насосами пресную воду. Вследствие того, что с годами уменьшилось количество пресной воды, нарушилось экологическое равновесие природы. Человек и природа — две чаши весов на нашей планете. Эгоизм, жадность, потребительское отношение к богатствам природы привели к тому, что чаша весов природы всё уменьшается, становится легче, и я боюсь, что это, может привести к экологической катастрофе.
— Эти люди стали грабить не только ту воду, что на поверхности, но и воду под землёй, что это как не грабёж родной земли моих предков. О, как это тяжело сознавать!
Абориген закачался от невыносимой душевной боли, что пылающим огнём жгла его сердце. Опустив плечи, согнувшись, он посмотрел в спину быстро удалявшемуся Байпаку. Повернулся к испуганным овцам, которые, боясь приближающейся песчаной бури, скучившись, шли как попало в степь. Он закричал «шайт-шайт» и быстро кинулся к ним с намерением повернуть обратно в сторону кошары. Он всё забывал, стоило только заняться овцами. Кирзовые сапоги на ногах были тяжелы, словно кто-то привязал к ним камни. Из-за голенищ высовывались портянки, стельки сжимались в гармошку, мешая бежать, и всё же, несмотря на это, он передвигался довольно быстро. Если бы бежал босиком, то без всякого сомнения был бы одним из лучших бегунов-спортсменов в области. Хоть тяжёлые сапоги и мягкий, рыхлый, ползучий песок мешали делать большие шаги, всё же вот этот его бег не догнать собаке, настолько Абориген был натренирован. Короче, он был чабаном-бегуном. И ещё он, пьющий горько, солёную воду из колодца, жующий твердый курт, — терпеливый духом джигит. Немногие выдержали бы, окажись в таких условиях! Не падающий духом, волевой, выносливый не сетующий: «Где находится моя жена, как я соскучился по детям, ау»,— таков наш герой, наш чабан.
Тяжело дыша, помогая себе палкой, он всё бежал и бежал к головной группе овец. Добежав, тут же повернул их в сторону кошары. И тут понял, что не напрасно торопился: барханы приподнялись под ветром как горбы верблюдов и стали похожи на волны бушующего моря. Песок заструился подобно ползучим змеям, стал бить по ногам, валя с ног. Мельчайшие частицы соли разъедали глаза, от них трудно было дышать. Некоторые овцы лежали на песке, тяжело поводя боками. Видя всё это, Абориген, подняв их всех на ноги, подгоняя палкой, направил в кошару. И успокоился только тогда, когда они все вошли туда. Закрыв дверь и для надёжности подперев её палкой, он повернул к дому. От сильно дующего ветра, от соляной крупы округу стало плохо видно.
На небе сверкнула молния, раздался какой-то шум. Закрыв руками уши, он втянул голову в плечи, согнул колени. Посмотрел и увидел, как с высоты опускается с грохотом металлическая стрекоза. Она села рядом с домом, чуть не раздавив его «Эй, эй, вы сломаете мой дом! - завопив ужасным голосом, Абориген вскочил на ноги, — что, мало вам других мест в окрестностях Арала? Подальше, подальше от меня!».
Вначале он подумал, что это прилетел тот человек с непроницаемым, лицом. Хотя и у него был суровый взгляд, но душа была тёплая, добрая. К людям у него были жалость, милосердие, понимание. А этот человек, спрыгнувший вниз, как совсем не похож на того доброго, милосердного. Свалился рядом с ним как обрубок дерева. «Ой, мой Бог, я зашиб грудь, как мне больно, ой-бай, ой-бай, как мне больно!» — застонал этот человек. Абориген протянул ему руку и помог подняться.
— Это же Мамырайхан! Его тело заплыло жиром, стало ещё объёмные, выглядело дебелым и массивным. Прижимая руками грудь, он орал, ругая лётчиков непотребными словами. И тут на землю упали два полных мешка, связанных верёвкой. Потом вертолёт, поднялся и с гулом исчез в песчаной буре. Мамырайхан, кашлянув, пробурчал:
— Эй, ты, что стоишь как помешанный!
Абориген не торопясь отряхнул пыль с одежды, снял кирзовые сапоги, перевернул их и вытряхнул песок. С удовольствием почесал босые ноги.
— Эй, ты что, сошёл с ума?
Абориген, не отвечая, посмотрел на мешки и начал тщательно стряхивать песок с сапог. Делал это не спеша, с равнодушным выражением лица.
— Бери мешки и занеси их в дом, — сказав это Мамырайхан, всё ещё держась за ушибленную грудь, пошёл вокруг кошары. Абориген натянул сапоги. Пощупал один из мешков, внутри было что-то твердое. «Камни, что ли, привёз?» — подумал он и, развязав мешок, увидел, что он набит сахаром-рафинадом. Во втором мешке оказалась мука второго сорта. Абориген иронично засмеялся. По очереди занёс мешки в дом. Отряхнул одежду от мучной пыли, поставил казан на печь, разжёг огонь. В ведре не было воды. Взяв ведро, он вышел наружу и увидел, что ветер усилился. Если песок будет двигаться до самой горы, то, вполне возможно, полностью накроет и его дом, и кошару.
Едва преодолевая шквалистые порывы Абориген добрёл до колодца, отверстие которого было плотно закрыто крышкой, сверху ещё заоблачно кошмой, чтобы внутрь не просачивался песок, и придавлено тяжёлыми камнями. Освободив и подняв крышку, он опустил в колодец на верёвке ведро, и с усилием вытащил его, наполненной водой. Когда вошёл в дом, то очень удивился — Мамырайхана не было.
«Уж не съел ли этого толстяка волк или же его засыпало песком?» —всполошился Абориген и обеспокоенно открыл двер.
И сразу же сыпучий песок ворвался через порог в дом. Эта ползучая беда проникает повсюду — и в постель, и в одежду, оседает на пище, скрипя на зубах. Ну, прямо неистребимая напасть! Чабан обогнул дом, прошёл возле кошары и вдруг услышал приглушённый ветром голос, доносившийся как будто из-под земли, и был он яростным и диким. Абориген направился в ту сторону. Ранней весной он выкопал несколько ям, чтобы они наполнились водой от тающего снега и дождей. В одной из них и увидел своего начальника. Тот упал и не мог оттуда выбраться.
— Шайтан бы тебя побрал, проклятый чабан, — завопил Мамырайхан, увидев его, — я хотел сходить по естественной надобности, как вдруг грохнулся в эту яму. Откуда мне было знать, что ты здесь вкрыл столько ям, как будто выкопал могилы. Протянув руку, Абориген еле вытащил грузное, тяжёлое тело.
— Ау, не копай ям, держи всё в чистоте, ведь я тебе ещё в прошлом году это объяснял! А? Ну что ты за человек: говоришь — в одно ухо влетает, из другого вылетает. И в голове ничего не остаётся.
Не переставая чертыхаться, ругая и проклиная Аборигена, Мамырайхан переступил порог ударился головой о притолоку, и завопив от боли:
— Я, наверное, пришёл в этот дом за своей смертью, чтобы преждевременно погибнуть. Если бы я знал, что ты выкопаешь ямы за кошарой, которые похожи на ловушки для дичи, и знал бы про твои проклятые низкие притолоки, то, клянусь душой, никогда бы сюда не приехал. Думал, заеду-ка я к нашему чабану, да посмотрю как он живёт, вот и завернул специально, иначе послал бы кого-нибудь из подчинённых.
Ахая и охая, прошёл во вторую комнату, и свалился на войлочную кошму. Абориген подал ему мягкую пуховую подушку, чтобы тот мог, подняв её повыше, удобно облокотиться. Спросив: «Будете мыть руки?» — принёс кувшин и тазик. Мамырайхан, с трудом скинув верхнюю одежду, оголил локти, хлебнул тепловатой воды, побулькал, прочищая рот, и с недовольной гримасой выплюнул в тазик. Посмотрел обалдело, расширив глаза, ох какие у него были глаза — так и жгли и пронизывали насквозь. «Ты что, добавил соли в воду, ойбай!».
«Эта вода, которую мы пьём!» — усмехнулся Абориген, впервые ответив на руганьначальника. От злости лицо чабана стало похожим на перезревший разрезанный арбуз, налилось кровью — и кто знает, может, и ударил бы по шее Мамырайхана кирзовым сапогом, да чудом сдержал нараставший гнев. Зато с яростью отодвинул к двери и кувшин, и тазик. Мамырайхан вскрикнул от страха и, отступив назад, прислонился к стене. «Чур… чур… чур…» . в ужасе подумал: «Этим чабаном, одиноко живущим в песках, действительно овладели джинны. Ибо страшно на него смотреть. В молодости был похож на дурную козу, в этой же дикой безлюдной пустыне совсем свихнулся. И, конечно, сколько у него осталось мозгов, если пьёт соленую воду и до вечера борется с голодными, измученными жаждой овцами.
Хозяин дома, усилием воли сдерживая гнев сел на стул. «Я слышал недавно, что Мамырайхан стал директором хозяйства, это оказалось правдой. Он доволен и рад до ушей, своей власти и своей наживе на этой должности. Но разве жизнь не изменится от того, что пришёл ещё один новый начальник», — горестно подумал чабан.
Снаружи вой ветра усилился, стёкла в окне затрещали, чуть не лопаясь. В печной трубе завыло, как истошно завывали громкие трубы-карнаи хромого Тимура. В комнате наступила нехорошая тишина. Двое мужчин в двух углах смотрят друг на друга как враги.
— Где женщина этого дома? Почему не ставит казан на плиту? С тех пор как хозяйство перешло на рыночную экономику, продуктов питания стало меньше. То, что было на базах и складах — всё ушло в руки лихих перекупщиков-посредников. А вот твой начальник и народный депутат не зря летает на вертолёте, проверяя положение чабанов. Да, ты занёс в дом мешок муки мешок сахара? Это мой подарок тебе как от депутата.
Сказав это, Мамырайхан расстегнул пуговицу рубашки, расслабил галстук и развалился, как барин, на пуховой подушке. За короткое время он быстро забыл и про страх, и про беспокойство. Стоило ему только вспомнить что он депутат, как тут же на глазах переменился. Неужели возможна такая резкая перемена в человеке? — удивился чабан. Недавно только сидел, проклиная всё на свете, чувствуя себя пасынком жизни, и вдруг в мгновение ока заважничал, возгордился, как надутый индюк. Мамырайхан придирчиво осмотрел комнату. В прошлом году в этом доме была неплохая мебель, одежда, утварь, когда привозил сюда девицу-обезьяну для отдыха, она ещё напилась и спела немало песен, а вот сейчас, да, мебели маловато, будто побывали тут воры. И чабан за год сильно сдал, постарел. Волосы поседели, морщины на лице углубились. А кашель-то, кашель звучит так громко, как будто взорвалась фугасная бомба, так и режет уши», - подумал Мамырайхан, а вслух спросил:
— Ты что, болеешь, что ли?
— В последнее время нет мне покоя. Утром еле поднимаюсь с постели, под рёбрами с правой стороны появился отёк, опухло всё, не даёт двигаться, во рту отдаёт ржавчиной. В висках стучит, в ушах звенит, перед глазами возникают круги. Особенно после того как жена уехала к своим родственникам, я не могу есть горячую пищу и чувствую, что силы покидают меня, я худею и худею.
— Стой, не говори ерунды, терпи, прояви мужество и стойкость. Ты же мужчина! Я говорю: твоя жена, разумная женщина и обязательно вернётся к тебе. В прошлом году, когда ты болел и лежал в областной больнице, она хорошо пасла овец, ухаживая за ними, и умело хозяйничала по дому. Все хвалили её, тепло отзываясь о ней.
Помолчав немного, Абориген встал и зажёг лампу. Прошёл к печке, открыл дверцу, уложил рядами кизяк. Взял ворох газет, обмакнул в солярку, налитую в жестяную банку, подложил под дрова и поджёг спичкой. Пламя сильно вспыхнуло и чуть не обожгло лицо. Чабан захлопнул дверцу и, повернувшись, глухо сказал:
— Если ты не хочешь, чтобы я сошёл с ума один в этой безлюдной пустыне, то пересчитай этих овец и забери к себе. Я ухожу отсюда.
— В центре тебя никто не ждёт. Каждый озабочен своими проблемами…Хорошо, согласен. Пересчитаю твой скот. А куда пойдёшь ты? У тебя же нет никакой специальности, заявление не можешь правильно написать, гвоздь — и то забиваешь криво. Ты что, хочешь надеть на шею торбу и ходить, попрошайничая, в это тяжёлое рыночное время? Я говорю это тебе потому, что ты мой ровесник, одноклассник, с которым я вместе учился, и говорю от души как есть.
— Если не найду работу, то буду сторожем. Хочу быть рядом со своими детьми.
— Места сторожей давно уже поделили уважаемые аксакалы, место почтальона тоже занято, строительная бригада распалась, как только появилось арендное хозяйство. Мы, начальники, сами моем пол по очереди в конторе.
— Неужели не найдётся работа хоть с небольшой зарплатой?
— Что я говорю, что ты говоришь! Если я, депутат, сам подметаю веником контору, то какая к чёрту работа? Кто тебе даст бесплатно хорошую работу? С тех пор как стали хозяйствовать самостоятельно, каждый считает всё до копейки. Теперь не выделяются финансовые средства из бюджета.
—Так что же делать?
— Вот-вот, только теперь можно серьёзно поговорить. Я хочу посоветоваться с тобой о том, что ты станешь делать в будущем. Скоро вернётся вертолёт и заберёт меня в областной центр. До этого мы должны с тобой решить вопрос насчёт тебя и твоей отары. В ближайшее время я не смогу приехать. Сессия парламента, работа комиссий, потом съезд, словом, очень много дел.
По правде говоря, Мамырайхан мог бы передать мешок муки и мешок сахара через своих подчинённых и подхалимов, благо в них недостатка не было. Кроется большой смысл в том, что он в столь позднее время прилетел на вертолёте. Что-то он начал издалека и неспроста. Согнув палец правой руки, Мамырайхан поманил Аборигена поближе, сел рядом, колено к колену. Заговорил тихо, внушительно и серьёзно.
— Внимательно слушай и вникай в сказанное мной. Когда мы подсчитали стоимость дома, кошары, отары овец, то сумма получилась, чего скрывать, довольно внушительная. эти деньги и становишься владельцем целой отары овец. Хозяином всего этого. Вон Есенбай и продавец Онгарбай уже сделали так. Тогда и животные, и люди — всё под твою ответственность; лишь бы в течение года выполнял план по шерсти, мясу, шкуркам и сдавал в общий котёл по оптовой цене.
Абориген вначале испугался:
— Я и так еле свожу концы с концами, где уж мне покупать отару? На какие деньги?
— Не беспокойся, дорогой. Мы посчитали твою пятилетнюю оплату и зарплату по месяцам, вышло старыми деньгами более 30 тысяч рублей, оставшуюся сумму в 18 тысяч ты погасишь в счёт кредита, который мы тебе дадим. Ты его погасишь постепенно, за счет доходов. После того как освоишься, станешь на ноги, полностью расплатишься. В тенге же потом переведём. По установленному курсу.
— Тогда что, мне сейчас ничего не надо платить?
— Не надо.
— А если будет падёж скота?
— А вот это нас не касается. зарежешь ли всех овец, пустишь ли по ветру — это твоё дело. Отара ведь твоя. Лишь бы вовремя выполнял планы по мясу, шерсти, шкуркам. Согласен? Тогда подпиши вот этот договор, что купил всю отару овец, даёшь свидетельство и гарантию.
Сказав это, Мамырайхан открыл пухлую папку и вытащил несколько листков жёлтого и синего цвета. Очень тщательно заполнил бумагу с красной полосой посередине, заставил в трёх местах поставить подпись в банковском чеке синего цвета. Так усердствовал, что взмок, пот так и лился с него.
— Надеюсь, не посадите в тюрьму в следующем году, если случится падёж скота?
— Зачем так делать? Ты же частный арендатор, убьёшь ли овец, пустишь ли по ветру, сам знаешь. Только имей в виду, теперь сено и другие корма ты будешь покупать. Не купишь — можешь обходиться только пастбищем, сам себе хозяин, сам себе судья.
— Ай, тревожно на сердце, хоть и поставил много подписей на твои договора. Семьсот овец в этой безводной пустыне без хорошей травы навряд ли будут процветать, скорее наоборот, будут всё хиреть и хиреть, и не случится ли, что я останусь ни с чем, только со своим мягким местом».
— Ай, дорогой мой, ты теперь не Абориген, ты — арендатор нового времени, говоря общепринятым языком, богач CC века. Ты лучше подумай, как бы не допустить убыли скота. Теперь не рассчитывай, что вот приедет зоотехник и посмотрит, как проходит кочёвка, что ветврач будет лечить больных животных, ты теперь полностью станешь отвечать за их болезни, будешь похожим на жадного богача прошлых времён. В первую очередь будешь всегда думать о себе и о своих интересах.
Услышав такие слова, Абориген, не зная плакать или радоваться, долго сидел молча, обдумывая сказанное Мамырайханом. В последнее время он много слышал о том, что права у депутатов сильно расширились и что их обещания твёрдо выполняются. Что такое аренда? Почему он так хвалит её, что отдаёт скот в моё пользование? Как бы там ни было, но мне надо спросить обо всем этом у него, пока он не улетел на железной стрекозе, — размышлял чабан.
— Что такое аренда, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее и понятнее.
— Ладно, только внимательно слушай. В песках вы с Есенбаем вдвоём образуете одну бригаду, будете арендаторами. Заключите с производственным коопреативом договор о поставке определённого количества шерсти, мяса, ягнят. Потом сам будешь находить и сено, и воду, будешь хозяином около двух тысяч овец, если понадобится ветврач, водовоз, то будешь их нанимать, платить из своего кармана. Все расходы и доходы будешь считать сам. Точнее говоря, из твоего годового дохода у тебя будет отчисляться 5 процентов для содержания аппарата центрального управления. Это директор, экономист, бухгалтер, инженер по строительству, если всех подсчитать, то набирается 16 человек. С прошлого года мы сократили число специалистов до этой цифры. Три процента будут потрачены на нужды арендной бригады, то есть на расходы по содержанию ветврача, водителя, бухгалтера и других нужных специалистов. 32 процента годового дохода будет использовано для арендной платы, то есть они будут израсходованы для строительства на центральной усадьбе хозяйства, для содержания школы и детского сада, для прокладки водопровода и покупки машин и тракторов. Раньше это называлось фондом социального развития, сейчас просто назвали арендной платой. В твой карман попадает жирный кусок годового дохода в размере 60 процентов, а это немалые деньги!
— Эй, что это за такой жирный кусок? Я уже сейчас предчувствую, как вы все скажете мне, что часть 60 процентов использовали для ремонта обвалившейся кошары, для рытья колодца, для других нужд — и в итоге мне достанется лишь малая часть этого жирного куска.
Мамырайхан растерялся. «Как говорят в народе, не проси совета и ума у того, кто пас баранов три года, вот этот бедняга, прозябая в песках, не стал ли тугодумом и глупцом?
— Тогда купи целиком всю отару овец в частную собственность. Она будет полностью твоя. Будешь давать государству положенное количество ягнят, мяса, шерсти и развивать собственное хозяйство.
— Сколько стоит отара овец?
— С тех пор как государство подняло закупочные цены, возросла и стоимость овец. На старые деньги это будет примерно сто, сто двадцать тысяч рублей. Фу ты, никак не привыкну к тенге.
— Ну, мне столько и за десять лет не заработать. В этих ползучих песках я не разбогатею, став арендатором.
— Почему так говоришь? Или ты купишь целиком всю отару, взяв для этого кредит в банке, или будешь хорошим, хозяйственным арендатором. И отступись от своих ненужных мыслей, думай только о своей выгоде и о своих интересах. Потом ты поймёшь, насколько я был прав, предлагая тебе всё это!
Аборигену вспомнилось, как детстве его восьмидесятилетний дед Жусуп со слезами на глазах рассказывал про свою прежнюю жизнь. В давние годы у него была одна кобылица для доения и получения кумыса, один конь для верховой езды, а в маленьком сарае с десяток овец. Он был одним из мелких хозяев смутных 20-х годов CC века. Всё это он накопил упорным трудом, работая с утра до позднего вечера, надеясь только на себя, чтобы не быть в зависимости от богатых хозяев. В 1926 году был дан старт политической кампании «Уничтожим кулаков и середняков как эксплуататорский класс». Мнимый активист аула развил бурную деятельность, грозно приказывая: «Найдите среди вас кулаков для их уничтожения как класса эксплуататоров». Простые, тихие, наивные и доверчивые скотоводы очень удивились.
— Ау, дорогой наш активист, мы же конфисковали имущество богатых баев, отобрав у них весь скот, самих отправили в ссылку в дальние края, тем самым и память о них не осталась. Теперь у нас кулаков хоть днём с огнём ищи — не найдёшь, остались одни бедняки, — отвечали они недоуменно.
— Нет! А ну-ка не сабатируйте великое дело товарища Сталина, сказано вам найдите, значит обязательно найдёте, —грозно заявил аульный активист, не слезая с коня. Люди растерялись, пришли к деду Аборигена, который тогда ещё молодому преспокойно косил траву в низине лога, доил кобылицу, в общем тихо жил, никому не мешая, занимаясь будничным трудом скотовода. Люди пришли и, чуть не падая перед ним на колени, стали жалобно умолять:
«Пусть это будет выполнением твоего долга перед людьми и родственниками, но ты, пожалуйста, выйди из нашей среды и объяви себя кулаком. Над всем аулом нависла беда, спаси нас», —сказали они расстроено. «Ау, родичи мои, слово «кулак» вроде русское слово, может, они специально говорят, чтобы поссорить нас, видит Бог, все знают, что я —бедный скотовод». Услышав эти слова, родные чуть не заплакали от ужаса. Наконец Жусуп сдался на уговоры людей, пожалел их и согласился, чтоб его считали кулаком. Наутро к нему явился грозный активист, а вместе с ним джигит с кожаными ремнями, который забрал у него весь скот. Жусуп же, плача, причитая, горестно восклицал: «О, Боже, что я сделал плохого, чтобы так наказали меня?»…
Наступила весна 1929 года. Жусуп, чтобы прокормить семью, пахал землю, сеял кукурузу. Тот самый активист опять приехал в аул и грозно приказал, от ярости разбрызгивая слюну: «Немедленно найдите мне самого бедного батрака из вашей среды. Поняли?!». И опять наивные, тихие родственники примчались к Жусупу и сказали, что вот так-то и так-то будь батраком, выручай людей и своих родных. «Ау, это, конечно, правда, что я голоштанный бедняг, но что такое батрак, я не знаю» — удивился Жусуп. И опять люди уговорили его стать «батраком», вернее, выбрали батраком. К чёрту такие выборы, самое позорное было в том, что его заставили переселиться на окраину аула, поставили ему шалаш, чтобы он жил отдельно от них. Люди вышли навстречу грозному активисту и сказали ему, показывая на Жусупа и его убогий шалаш: «Вот наш батрак, из нашего аула вышел только один несчастный батрак, еле сводящий концы с концами». С тех пор дети пугались, увидев его и говоря: «Вот идёт батрак», разбегались в страхе в разные стороны. Взрослые обиделись на него: «Пусть будет проклят этот батрак, с утра до вечера лежит в себе в шалаше и чешет живот, ничего не делая. Совсем забросил хозяйство». В общем, аульчане из подхалимства и желания угодить грозному активисту, сами того не желая и не ведая, оскорбили хорошего, трудолюбивого человека, превратив его во всеобщее посмешище. Его имя Жусуп забылось, — с тех пор его прозвали Батраком. В ту пору казах перестал быть казахом, перестал говорить по-казахски, чуть что, все стали обращаться друг к другу «Здрасти, начальник… Пожалуйста, друг», — коверкая язык, приобретая несвойственную казахам привычку. Они создавали батраков из своей среды, где никогда их не было, создавали кулака из среды бедняков, где люди само слово «кулак» не понимали и не знали. Возбуждённые, яростные, оболваненные силой непонятных лозунгов, следуя за грозными, высокомерными активистами, державшими всю власть в своих руках, несчастные жители этого прежде тихого, спокойного аула стали похожи на манкуртов, не помнящих своё имя и имела своих предков. Чуть что: «Батрак я», — говорили они и, бросив все дела, бежали домой и ложились навзничь, ничего не делая, — а зачем: он же батрак! Да, это было. Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь ту эпоху, породившую это явление. Люди, видя казаха-скотовода, у которого во дворе появилось несколько овец, корова или конь, злословили за его спиной: «Вот этот человек когда-то был байским прихвостнем, а сейчас не стал ли он кулаком, опасным для нас, для власти, и не сообщить ли нам о нём в районную милицию, чтобы арестовали его и увезли подальше от нас».
И это привело к тому, что казахи растеряли свои хорошие качества, такие как терпеливость, широта души, милосердие, справедливость. Они жили в страхе, боясь, что их назовут кулаком. Казахи с расстроенными нервами стали похожими на перекати-поле — сегодня здесь, завтра там. Они бежали, летели, куда подует ветер. «О боже, да что это такое! — говоря так, вытирая слёзы на глазах, дрожа всем телом, восьмидесятилетний дед Аборигена добавлял: — Чего только я не видывал в своей долгой жизни: видел богатого бая, который в муках голода умер на моих глазах, не сумев обменять своё золото и серебро на пшеницу или рожь; видел и сидел за одним столом с грозным, холодным, наводившим на всех ужас активистом, который любил раскладывать газеты на столе в каждом доме, где останавливался на ночлег». «Может, и Мамырайхан, толкуя об арендаторах, говорит о новых, быстро меняющихся условиях в жизни? Что ж, раз так, стану арендатором. Буду пасти скот, верну домой жену и стану тихо-мирно жить», —решил Абориген.
— Хорошо, я согласен быть арендатором. Однако у меня есть два условия.
— Это что за условия?!
— Первое: я не буду в одной паре с чабаном Есенбаем, не заключу с ним совместного договора. Я не хочу быть с ним в одной бригаде, лучше найди мне другого чабана, доброго, человечного и простого. Во-вторых, уменьши арендную плату. Если ты будешь забирать у меня половину годового дохода, то навряд ли я окрепну и прочно встану на ноги, как был рабом, так им и останусь.
«Этот чабан в один миг стал таким умным, надо же?! — удивился про себя Мамырайхан. — Ты смотри, как он чётко излагает мысли в соответствии со временем, с таким деловым подходом он, пожалуй, ни одной монетки не даст бухгалтеру положить в карман… Э, да он и подарка не даст за то, что я привезу ему муку и сахар! Чабан даже перед концом света будет песок дотошно считать по песчинке.
— Ладно, согласен. Принимаю твоё первое условие. Из Есенбая не выйдет хорошего, хозяйственного арендатора. А вот второе условие выполнить трудно. Если мы из арендной платы не создадим фонд социального развития, то ни одно строительство в хозяйстве не будет завершено до конца, не будет тепла, асфальт не будет проложен, короче, кооператив распадётся. В общем, ты должен быть арендатором, а иначе лишишься и овец, и дома с кошарой. Все мы рабы времени.
Откуда-то издалека раздался шум. Хозяин дома насторожился. Тут же надел кирзовые сапоги, только недавно снятые. Над головами что-то прогрохотало, словно гром. Мамырайхан усмехнулся, оставаясь невозмутимым, будто ничего не слышал.
— Эй, не беспокойся, — пояснил, — это прилетел вертолёт, чтобы забрать меня.
Сказав это, тяжело поднялся с места. Надел верхнюю одежду. Взял со скатерти кусочек засохшего, затвердевшего хлеба, положил в рот, проглотил, сложил две руки вместе, провёл по лицу, совершив обряд приёма пищи, чтобы не обидеть хозяина. Этот обряд был священен для каждого казаха. Дойдя до порога, резко обернулся.
— Выбери из своих овец более-менее жирную и положи в вертолёт, — сказал веско, властно.
Абориген вслед гостю вышел наружу. Свет от мощных фар вертолёта залил беловатым светом и дом, и кошару. Глаза овец так и заблестели светлячками. Абориген вбежал в кошару и стал искать самую жирную овцу. Через некоторое время вытащил овцу с хорошим курдюком. Взвалил на спину и, сгибаясь, донёс вертолёта. Сверху протянулась чья-то невидимая рука и, схватив овцу, быстро втащила вовнутрь. Мамырайхан, прерывисто дыша, повернулся к чабану. Прикрыв рот ладонью, громко закричал:
— Будь здоров, дружище! Жене твоей скажу, чтобы быстрее возвращалась, призову к благоразумию! Будь хозяином скота! …Терпи и выдержи!
От мощного ветра песок взвихрился в разные стороны. Прогрохотав, вертолёт поднялся в воздух и вскоре исчез вдали. Откуда-то донёсся плач шакала, завыла собака.
Абориген зашёл в дом и, не снимая одежды и обуви, лёг на войлочную кошму. Подушка не попалась под руки. Усталый, он почувствовал себя как бы между сном и явью. Спустя некоторое время поднял голову. Встал и медленно прошёл к старинному сундуку, рывком скинул с него уложенные рядами одеяла и подушки. Видимо, оттого что крышку давно не открывали, она не поддавалась. Тогда он взял кухонный нож с полки печи и, вставив между крышкой и стенкой, с усилием откинул крышку. Изнутри запахло табаком. Это жена положила табак, чтобы не завелась моль. Достал со дна свёрток материи и бережно развернул его. В свёртке оказался кобыз, сделанный из совола джиды желтоватого цвета. Он сел, скрестив ноги, взял в руки смычок в виде тетивы и стал неистово играть, водя смычком направо, налево и двигая плечами. Ему почудился свист змеи, донёсшийся из-под обрыва; будто его дом подхватило горячим смерчем и завертело в воздухе; почудился горестный плач верблюдицы, оставленной одной в древнем городе; будто голодная овцематка блеяла, ища своего ягнёнка; почудился приглушённый, сдавленный плач красивой женщины, много совершившей грехов; в общем, мелодия кобыза и природа снаружи как будто слились в единую гамму звуков; слух у Аборигена то появлялся, то исчезал, кости ломило от боли. И тут стена дома словно широко треснула и в комнату проник лучезарный синеватый свет, затем, мягко ступая, вошёл седобородый старец. Абориген положил кобыз рядом, и поспешно вскочив, приветливо сказал:
— Ассалямуалейкум, ата!
Как будто знал его давно. Проводив старца на почётное место, усадил его на маленькое одеяло, словом, оказал старцу уважение. Сам сел пониже, скрестил ноги. На старца смотрел почтительно, с волнением в душе, с любовью… Сидел, сидел, и только сейчас вспомнил далёкое прекрасное детство. Давно, когда он ещё был мальчиком, Сырдарья была могучей, полноводной, текла вольно, радуя глаз обилием воды, и была так широка, что лодки еле доплывали до противоположного берега. В середине реки часто появлялись водовороты, тогда вода бешено кипела, и это было страшно, не дай Аллах попасть в такой казан. Чабанская кошара стояла на высоком яру. И там, на вершине, рядом с рекой, находилась одинокая могила. Как-то он спросил у отца про могилу, тогда отец сказал: «Сынок, не показывай на могилу пальцем, это могила Коркыта, нашего великого предка, раньше она стояла подальше от реки, видишь как со временем вода, подтачивая глинистый берег, подошла к стене высокого яра, на котором стоит его могила». Могила предка Коркыта так и осталась стоять на прежнем, довольно опасном месте, так как в любой год могла рухнуть в воды великой реки. Покойный отец всё время намеревался пригласить муллу, прочитать Коран и с чистым благоговейным сердцем перенести прах великого предка в безопасное место.
В какой-то год его скот заболел инфекцией. Прошло время, пока он бегал со скотиной и лечил её. В следующем году занедужил он сам.
«А всё равно во чтобы то ни стало я перенесу могилу, — упорствовал он, — дай только поправиться. Но увы, этой мечте не суждено было сбыться. Отцу становилось всё хуже и хуже. Перед смертью он подозвал к себе Аборигена. Голоса уже не было, едва дыша, он показал пальцем в сторону священной могилы и безмолвно приподнял подбородок, как бы говоря: «Сын мой, сделай то, что не успел я, прошу тебя, перенеси могилу нашего великого предка!».
«Я перенесу могилу», — подтвердил Абориген. Он собирался ближайшей осенью исполнить завет отца, но внезапно разверзлись хляби небесные, хлынул сильнейший дождь, да такой, что всё пространство между небом и землёй оказалось сплошь заполнено водой, будь во времена потопа.
Река вспенилась и вышла из берегов. Животноводы в растерянности были заняты своими проблемами, думая о спасении скота. Ливень, хлеставший несколько суток, прекратился только глубокой ночью, когда небо очистилось и взошла полная луна. В ту ночь Абориген не мог долго уснуть, мучаясь от предчувствия страшной беды. Наутро он выскочил из дома и не увидел того, что хотел увидеть: могилы великого Коркыта не было. Тяжело дыша, тяжело утопая в грязи, он добрался до того места, где она находилась, увы, видимо, вода подточила стену яра, и он рухнул вместе с могилой в пенящуюся воду. Внизу бурлили полноводная река, цветом похожая на шкуру тигра. Далеко, докуда хватает глаз, была сплошь вода. Босоногий парень, стоявший на обрыве, вдруг громко, протяжно меняя голос, заплакал, как голодный щенок, оставшийся один, брошенный вдали от людей, и рухнул на раскисшую землю… И вот та картина, опять предстала перед его глазами… Только то, что когда он играл с такой страстью на кобызе, стена раскололась, и в комнату вошёл белобородый старец в белых одеяниях. Теперь он сидел, скрестив ноги, и его величественный вид напоминал благородного мудреца прошлых веков, которые пользовались огромным уважением среди современников.
— О, святой предок! Наш великий кобызист, наша опора и надежда многих людей! Как хорошо, что ты пришёл к моему очагу, когда мне так трудно, так плохо на душе.
Тут же раздался приглушённый голос, как будто доносившийся из-под земли, голос человека из мира легенд и сказаний.
— Я не хотел появляться, но ты, играя на кобызе, невольно позвал меня сюда!
— Мы виноваты перед вами о, великий предок, тем, что не сберегли вашу могилу, её размыло водой. Накажите нас, ругайте нас!
— У тебя, бедняги, нет вины. Как бы я ни обижался на потомков, пасущих скот, возделывающих землю, но я не мог оставить и великую реку, и Кызылкумы, и запах горькой полыни. До сих пор мой дух витает над этой землёй. Я — не сам Коркыт, перед тобой всего лишь его бесплатный дух, тень без вида, мой осиротевший потомок.
— Согласен с вами, священный мой предок, у нас не было времени, выпасая скот, мы чуть сами не стали скотом, поглупели и не смогли перенести вашу могилу. И если сейчас вы не дадите нам своего благословения, проклянёт нас и кинете в глубокую расщелину, чтобы мы исчезли с лица земли, то и тогда я согласен с вашим решением, с рабской покорностью склоняю голову, виноват… грешен и отвечу!
И он, громко плача, упал на пол, моля о прощении.
— Я недоволен вами за то, что, отдавшись всецело этому лживому переходящему миру, забыв о другом, вечном мире, вы допустили, что мою могилу смыло водой и кости разбросало повсюду. Где сейчас та великая, могучая полноводная река? Почему исчезли бесследно зелёные рощи на её берегах, парящие птицы и дикие животные?
Абориген поднял залитое слезами и испачканное в пыли лицо, стоя на коленях, горько, с болью в голосе ответил:
— Вначале обмелели великие реки Амударья и Сырдарья, вследствие чего высохло море, лежавшее в горячих песках, оттого что исчезло море, в этих местах перестали идти дожди. Все катастрофы произошли, наверное, от того, что нарушилось равновесие в природе, отсюда и все беды. Может…
— Все беды, сын, произошли от человеческого эгоизма, вы стали рабами своих непомерных желаний. Беда не пришла откуда-то, она вышла из вашей ненасытной утробы. Когда я искал вечную жизнь, я делал это не оттого что не хотел покидать этот мир, любя за его сладость, нет, я хотел, живя вечно, постараться исправить ваши недостатки, изменить ваши жестокие нравы в лучшую сторону, я очень надеялся на это. И теперь ясно вижу, что зря ломал себе голову, зря скорбел о вас, не имея на то права, ибо вы оказались неблагодарными, плохими потомками. А что я вижу: нет больше полноводной реки, земля стала бесплодной, потерян её плодородный слой, вы пьёте солёную воду, оттого болеют ваши животы и сами вы находитесь на грани вымирания.
— Коркыт-ата — произнёс Абориген тихо, еле слышно, — хоть и умирает тело, но не умирает душа. Скажите мне, о мудрый наш предок, что это за слова, которые молвят люди, что дух святых людей витает над родной землёй до самого конца света? Они якобы витают в виде невидимых теней. Как пар, как призрак, как мираж? …Верить ли мне или не верить?
— Что за пустые слова! Ведь ты же сидишь напротив духа твоего предка Коркыта, который умер две тысячи лет тому назад, покинув этот бренный мир. У тебя что, на лице глаза или пустые впадины вместо глаз? — сказал старец недовольным тоном. — Когда люди закапывают в землю умершего и уходят на сорок шагов, то душа покойного возвращается обратно к могиле. И долго летает, возвращается опять к тем местам, где жило тело хозяина. Дух входит в его дом и летает в этом прохладном, неприветливом для него мире и ищет, ищет тёплое мягкое живое тело, чтобы в неё войти и успокоиться. Ищет долго и настойчиво. Он ночной порой иногда гремит посудой в старых зимовках. Там, где когда-то жил, где мечтал, радовался и горевал, будучи живым. Именно дух умершего в этих поисках может войти в тело человека, спящего в тот момент возле могилы. И когда человек просыпается, то он становится уже другим, с иным характером. Это следствие духа умершего человека, вошедшего в его тело. Люди называют такого человека сумасшедшим и опасаются его. Дух умершего долго не может уйти из своего дома, любимых предметов, любимого скота, которые были так дороги его сердцу. Мой же дух остался в древнем старинном кобызе. И я прилетаю на печальный зов, горестную мелодию кобыза, когда кто-то с печальной душой неистово играет на нём. Не бойся, не думай ни о чём постороннем!
— Что мне делать, дух мудрого предка?
— Что за время, что за нравы! Голова стала ногой, а нога головой! Ты не играй на кобызе, а лучше примись за восстановление семейного очага. Пока не укрепишь порог дома, да за ум не возьмёшься, члены твоей семьи не вернутся. Верни свою жену, которая разожжёт твой очаг и станет его хранительницей.
— Что мне делать со скотом, мудрый старец?
— Ты что, собираешься быть обитателем огненного ада? Пока в здравом уме, иди к людям, собери боялыч и разожги большой огонь на вершине Абылуйгена. И на рассвете, куда склонится язык пламени, туда и гони скот, найди своё пристанище, своё место. Если останишься на старой зимовке, то кости твои рассыплются, а твои овцы станут добычей волков и хищных птиц. В скором времени под Кызылкумами начнётся сильное землетрясение, которое приведет в движение пески, и они, двигаясь, засыплют всё в округе.
— И древний город Жент?
— И город Жент, и могилу отца, и твой дом с кошарой — всё засыплет песчаное море песков, всё будет погребено им. Беги, спасайся!.. Поднимись и кочуй!.. Сообщи об этой катастрофе своим начальникам.
Произнеся это, святой Коркыт отступил в полутёмный угол комнаты и медленно исчез. Снаружи усилился вой ветра. Сидевший на корточках Абориген со страхом бросил кобыз, державший в руках. Его душу охватил панический ужас. Ему показалось, что кто-то снаружи играет на трубе, кто-то кричит голосом, полным страха, дескать, враг напал, бегите, бегите! И погода, стоявшая со вчерашнего дня, была совсем непохожей на это время года. Она была странной, ну прямо как злобная баба с острым безжалостным языком, грубая, неприветливая. Ветер так и воет, так и воет, прямо из души жилы вытягивает, наводит тоску и страх. Да и вчерашний закат был особенным, нехорошим, пугающим. После приезда Мамырайхана и испуг овец какой-то особенный, чужой, вот почему он всю ночь бегал в кошару, проверяя овец. И не давал себе ни минуты отдыха. Хоть болело тело и просило сна, но беспокойство было сильнее. Только недавно, когда он играл на кобызе и разговаривал с духом святого Коркыта, овцы опять сильно испугались. Он пошёл в кошару и долго проверял овец, ища козодоя, при этом тщательно смотря себе под ноги.
Сказано: если откуда-то начинается катастрофа, с поверхности земли поднимается пыль, сама она приходит в движение; с утра резко изменился мотив воя песков. Солнце вроде бы поднялось не там, где обычно вставало, песчаные барханы на горизонте пришли в движение, песок страшно завихрился, поднялся столбом. Овцы громче обычного заблеяли, как будто чувствовали надвигающуюся беду. Всё вокруг Абылуйгена замерло в ожидании песчаной бури. Абориген пошёл к могиле отца, находящейся неподалёку. Если раньше земля лежала высокой горкой, похожей на горб верблюда и была чётко видимой, то сейчас остался малый холмик, еле заметный глазу. Видно, что через несколько лет и она сровняется с землёй. Он ещё раньше воткнул в изголовье могилы ветку саксаула для знака, что здесь находится могила. Привязал к ветке белые тряпочки, и когда проходил или проезжал мимо, то обязательно говорил «Кульху Алла», соединив ладони рук и благоговейно проводя по лицу. Сейчас эта могила сиротливо лежала, вросшая в землю, будто ничего не требовала от сына, собиравшегося откочевать отсюда навсегда. На горочке вырос куст адыраспана. Он под напором сильного ветра склонялся до земли, чуть не отрываясь от корня.
— Отец, я пришёл попрощаться с тобой. Буду кочевать отсюда, — сказал Абориген, подняв соединённые ладони рук кверху и проводя ими по лицу.
— Я не знаю, возвращусь ли обратно в эти родные места. Святой Коркыт, наш великий предок, дал мне совет, побыстрее отсюда откочевать. Кто знает, может, я и продолжал бы здесь жить, если бы вода в колодце не стала солёной, и была бы трава для пастьбы скота, и песок не стал бы всё потихоньку засыпать. Как и прежде продолжал бы пасти скот. Но ты же видишь, отец, ничего этого нет. Ни воды, ни травы. Я устал, отец, силы оставляют меня, здоровье моё пошатнулось. Мои волосы стали совершенно седыми, а мне ведь нет ещё и сорока лет. Не обижайся, не ругай меня, отец. Нам досталась очень тяжёлая судьба, совсем отличающая от вашей более невыносимая, чем была у вас, отец.
Нагнувшись, он хотел было вырвать куст адыраспана, но резко отдёрнул руку, передумав. Не решился убирать единственный куст, и так на холмик ничего не было. И неизвестно, то ли заплакал, то ли засмеялся, но издал неприятные звуки, задрожал и, повернувшись, торопливо, словно убегая от какой-то напасти, пошёл. Поднималось желтоватое солнце, похожее на перебродивший айран. Он впервые видел такой рассвет без тепла, такой обманчивый, такой ненадёжный, такой необычный. Когда Абориген подошёл к кошаре, то увидел, как по земле тащится песчаная черепаха. Подойдя поближе, увидел, как черепаха, устремившись, захотела взобраться ему на сапог. Он подумал, почему эта бедняга, выбравшись из норы, ползет здесь под ногами: говорят, что если из-под земли идёт опасность, то черепахи и змеи убегают из нор. Неужели и вправду начинается конец света? Барханы передвигаются, воздух меняется, солнце не так греет, вода исчезает. Да что это такое?!
Его пробрала непонятная дрожь. Взгляд встретился со взглядом чёрненьких глаз черепахи. Он сильно вздрогнул, так поразил его этот поистине тоскливый взгляд. На сердце стало нехорошо.
Апырмау, — сказал он себе, — вот эти тоскливые глаза, как они сильно похожи на тоскливые глаза давно исчезнувшего в песках продавца Онгарбая! Тот бедняга, говорят, превратился в черепаху по проклятию стариков за то, что обманывал людей, обвешивая и мошенничая. И это вполне возможно, ибо он впервые видел столь поразительное сходство глаз человека, давно пропавшего, с глазами животного.
Абориген, весь в холодном поту, пошатываясь, прошёл к двери кошары, где были заперты овцы и с усилием, со скрипом открыл дверь.
Пікірлер (0)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Онлайн білім – жаңашылдық па, уақытша шешім бе?
- Журналистика-қоғам айнасы
- Қымбатшылық-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
- Ұшқыр ойдың жетегі Дубайдан бір-ақ шықты!
- «Құрметке лайық мамандықтың қадірі қайда жоғалды?»
- Бақыт деген немене ол, немене?
- Заман жақсылары – еріктілер
- TikTok-тағы жаңа «краш»: Шымкенттік «ұшатын Даулеттің» тарихы
- Ернар Амандық: жүректен шыққан әуеннің иесі
- ҰБТ: білім сапасының өлшемі және болашаққа бастар қадам
- 1000 теңге сынағы ;ақшаң сенің досың ба, жауың ба ?
- Қызылордадан — әлемдік ғылымға: әлемдегі жалғыз кванттық офтальмолог Мұхит Құлмағанбетов
- Нұрай Серікбай трагедиясы:қысқа өмір, үлкен қайғы, қыздардың қауіпсіздігі мәселесі қайта талқылануда.
- Онлайн оқу дәстүрлі білімді алмастыра ма?
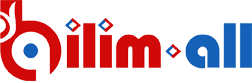


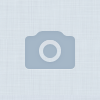
- Альберт Эйнштейн
- Альберт Эйнштейн
- Финли Питер Данн
- Бернард Шоу
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі