Дикая кошка
(Повесть)
1
...И все-таки тянуло оглянуться назад. Здесь, где ни единой живой души вокруг, эта потребность оглянуться была необъяснимой и пугающей. Самообман, наваждение, искушение — как ни назови это чувство, но ему нельзя поддаваться. Надо идти и идти вперед, не останавливаясь и не оглядываясь.
Поднимая глаза, он видел висевшее в небе раскаленное солнце. “Лучи бьют прямо в лоб, — подумалось ему, — значит, сзади нет ничего и никого, кроме тени”. Но и эта мысль не приносила успокоения.
Что же такое творится с ним? Что происходит? Самое, казалось бы, незначительное воспоминание причиняло нестерпимую боль. Оборвать бесконечную цепочку воспоминаний, постараться ни о чем не думать?.. Или же, наоборот, погрузиться в них и наперекор всему начать докапываться до истоков боли, не боясь того, что страдания могут стать невыносимыми?.. Какой путь ни выбери, все равно перед тобой — бездна.
Волны отчаяния — это ведь и есть море. Вот оно — совсем рядом. Зовет к себе, притягивает. Ты чувствуешь робость и замираешь на месте. Но через минуту какая-то властная сила подталкивает тебя к самой кромке берега. “Окунись, окунись!” — шепчет она. И, поддавшись на уговоры, ты ныряешь в глубину. Раз, другой, третий. И настает такой момент, когда ты чувствуешь, что бездна затягивает тебя. Ты ощутишь это, но будет поздно. Сейчас, пока ты еще стоишь на крутом выступе над самым морем, твои воспоминания затаились в тебе. Не касайся их, не оглядывайся! Оглянешься — упадешь.
Это море давно знакомо Кенжебаю. Волны в нем не плещутся о берег, а кружат на одном месте, образуя гигантскую воронку. Стоит войти в воду, и течение утянет тебя в водоворот. Впрочем, Кенжебай и сам хотел этого. И если поначалу желание нырнуть в пучину приходило к нему не так часто, то сейчас он ощущал его в себе постоянно. Только однажды водоворот не на шутку испугал Кенжебая. Решил нырнуть поглубже и не рассчитал запас воздуха в легких. Ценой невероятных усилий удалось ему подняться на поверхность, и до берега он добрался чуть живой. С тех пор поселился в Кенжебае страх перед морем.
И все равно оно почему-то влечет его к себе своим дыханием. Если и не нырять, так хотя бы постоять на береговом выступе...
Кенжебай прибавил шагу, чтобы побыстрее добраться до Калдыгайты. События последних дней немного встряхнули его, отодвинули мучительные воспоминания на второй план. Предстоящая рыбалка на берегу реки и вовсе должна будет принести ему успокоение.
Но как ни убыстряй шаг, нечто неведомое продолжает следовать по пятам. Снова захотелось оглянуться назад...
Что же это в самом деле за колдовство такое? Впору и в чудеса поверить. Откуда взялось это наваждение? Почему так хочется оглянуться? Ведь знает же, знает — сзади ничего нет, кроме тени. Ее-то он и боится увидеть, она-то ему и напомнит о том, что так старательно он пытается забыть.
“Никуда ты от меня не уйдешь. Всегда и везде я буду тенью следовать за тобой!...”
Вот она — разгадка: в этой давно сказанной и давно забытой фразе! Она всплыла в его памяти сразу же, как только он отошел от зимовья у Жашитала. Нурлытай, видать, не зря произнесла ее. А что, если обернуться? Вдруг ее любовь и вправду превратилась в тень? +\краешком глаза!
Нет, это просто бред какой-то! Такого не бывает. Наверное, он начинает сходить с ума. Или в голове еще не окончательно рассеялся туман после ночной пирушки у Сундета?
Что за чушь собачья — оглядываться на свою тень?! И все же... по-прежнему тянет обернуться. Почему? Положим, до сумасшествия ему далеко, да и спиртное тут ни при чем... Подобное чувство он испытывал и раньше — еще в Алма-Ате, в крошечной комнатке, которую они снимали вдвоем с Нурлытай. Потом Нурлытай уехала... насовсем, и в куче ненужных бумаг он отыскал ее фотографию.
Она лежала на столе, когда под руку ему неожиданно подвернулась лупа. Сквозь увеличительное стекло он зачем-то стал рассматривать лицо Нурлытай и ошеломленно вскочил, когда взгляд его остановился на ее глазах. Ему вдруг показалось, что зрачки Нурлытай подернуты пленкой. Что она беззвучно плачет. То, чего нельзя было разглядеть сразу, отчетливо виделось под лупой: слезы Нурлытай...
Несколько дней подряд не мог он прийти в себя от потрясения. Состояние было точь-в-точь как теперешнее, когда он борется с неодолимым желанием оглянуться. Только в ту пору Кенжебай еще ясно осознавал границы между действительностью и собственной фантазией. Спрятанная в ящике стола фотография была извлечена на свет и порвана на мелкие клочки. И вроде бы пришло успокоение. Может, и сегодня надо поступить столь же решительным образом?
Он круто развернулся. От резкого движения звякнуло ведро в руке. Разумеется, сзади была не чья-нибудь, а его собственная тень. Машинально достал из кармана сигареты и спички, прикурил, присел на обочину, рядом поставил ведро. И тень пристроилась сбоку. Стали курить вдвоем. “Ну и дурак же ты!” — сказал он, глядя на тень. Потом перевел взгляд на дорогу и стал рассматривать жуков, самозабвенно катающих вдоль обочины слепленные ими шарики.
Спустя некоторое время поднял голову, встряхнулся. В самом деле, что такое нашло на него? Отчего раскис? Какой теперь смысл вспоминать некогда оброненную Нурлытай фразу? Вот уже полгода, как они стали чужими друг другу. Живут каждый сам по себе, она на Мангышлаке, он — в Уральской области. Все кончено раз и навсегда. Для того он и приехал сюда, чтобы вычеркнуть из памяти прошлое, чтобы начать жить заново. Так в чем же дело?
Выпрямившись в полный рост, Кенжебай двинулся дальше, к Калдыгайты, которая уже виднелась впереди.
Да, его приезд в аул для многих был полной неожиданностью. Не обошлось, конечно же, и без кривотолков. Но на этот счет он был спокоен: поговорят и перестанут. Сплетни любят людей значительных, а возле таких, как он, им долго не продержаться. И эта мысль действовала на Кенжебая успокаивающе.
Причислять себя к разряду заметных личностей не было никаких оснований — ни у него самого, ни у тех, с кем сталкивался он в своей жизни. Да и какими качествами мог бы он выделиться из общей массы?
Правда, во время учебы в консерватории и потом, когда работал в музыкальной редакции на радио, ему не однажды доводилось слышать о себе лестные слова: талант, даровит... Но говорились они с единственной целью — доставить приятное молодому человеку, у которого все впереди. Тогда он любую похвалу воспринимал за чистую монету, ведь он действительно был автором таких известных песен, как “Полет орла” и “Печальная девушка”. Написанные им на первых курсах учебы, они в ту пору нравились молодежи, пелись на вечеринках, даже звучали иногда по радио и в телепередачах.
Нравился молодежи и сам автор. Свадьбы, дни рождения — Кенжебай успевал повсюду, везде находил себе друзей-приятелей. И это несмотря на то, что сам он по натуре был скромным и стеснительным парнем. В разгар вечеринки всегда находился какой-нибудь доброхот, который громогласно объявлял собравшимся: “Среди нас сидит автор замечательных песен “Полет орла” и “Печальная девушка” — талантливый молодой композитор Кенжебай Рамазанов! Прошу любить и жаловать!” Одни кричали “Ура!”, другие хлопали в ладоши, и после многочисленных просьб “Вставай, ну вставай же!..” Кенжебай поднимался и с красным от смущения лицом раскланивался направо и налево. Со временем робость прошла, и оказываемые ему застольные почести он уже воспринимал как должное. Свыкся и с титулом “талантливый композитор”, ведь в глубине души он и сам считал себя таковым.
За бесчисленными увеселениями незаметно летели годы. Застолья шли своим чередом, но публике уже заметно приелись песни Кенжебая. И она с тем же энтузиазмом переключилась на новые мотивы.
Ну а потом была работа в музыкальной редакции, подготовка передач: “Концерт классической музыки”, “Концерт-очерк”, “Репортаж с фестиваля”... Затем последовала женитьба на любимой девушке Нурлытай. Семья просуществовала три месяца и распалась. И в итоге — приезд в аул, с чемоданом и без жены. Разве после всего этого найдется человек, который осмелится назвать Кенжебая неординарной личностью? Ну а если он обыкновенный и заурядный, то спрос с него невелик и для сплетников персона его не представляет никакого интереса. Целая неделя после приезда ушла на разговоры с родителями, на встречи с родственниками и знакомыми. За это время успели потускнеть в памяти разношерстная городская толпа, нескончаемые потоки машин — короче, вся та суета, присущая столичному городу, от которой он наконец-то избавился. Теперь взгляд его с удовольствием останавливался на знакомых с детства картинах. Перед Кенжебаем лежала широкая степь, зеленый лес и песчаные холмы с выцветшими на солнце макушками. Иногда ему начинало казаться, что все его тревоги и печали остались далеко позади, в городе. И вот сегодня... Смятение снова овладело его душой.
Мучило и то, что его возвращение болью отдалось в сердце матери.
Прошлой осенью родители не смогли приехать на свадьбу — не на кого было оставить дом и скот, поэтому приезда молодых ждали с особым нетерпением. Полный недоумения взгляд матери Кенжебай заметил сразу, как только переступил порог родного дома. Сообщив о свадьбе, он ни единым словом не обмолвился о разводе и теперь был готов провалиться сквозь землю от стыда.
Подкосило родителей и известие о том, что сын вернулся в аул навсегда. Мать тут же отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глаза слезы, а отец разразился гневной тирадой: “Вот каким непутевым оказался сыночек! А я-то нарадоваться не мог: как же, сын в Алма-Ате живет, большим человеком стал... Перед людьми хвалился. Как мне теперь им в глаза глядеть?! А все из-за тебя, дура ты старая, — перекинулся он на жену, — причитала каждую неделю: пошли, мол, сынку денег, какая учеба на голодный желудок! Допричиталась! Вот он, твой ненаглядный! Тридцать лет скоро стукнет, а ума не нажил”. Выпалив это, отец сжал в бессильной ярости рукоять камчи и вышел из дома.
Такую реакцию отца Кенжебай предвидел заранее. Вспомнились его слова, сказанные накануне отъезда. “Останься лучше, — говорил он. — Будем вместе пасти овец. И жить будешь не хуже других”. Но сын не послушался и теперь сидит как в воду опущенный. Отцовские слова задели самолюбие, но разве он вправе возразить ему?
Потом пристал с расспросами младший брат Сагидулла. “Чем же ты собираешься заниматься в ауле?” — с удивлением спросил он Кенжебая. “Чем? Наверно, пойду в школу преподавать пение”. — “А может, станешь помощником отца?”
Это предложение резануло Кенжебая, но он не подал виду, лишь поинтересовался: “Чем же тогда будешь заниматься ты?” “А почему бы мне, — начал размышлять вслух Сагидулла, — не перебраться на центральную усадьбу? Думаю, директор доверит мне водить одну из совхозных машин...”
Последний раз в ауле он был года три-четыре назад. За это время Сагидулла не только вырос и женился, но и успел уже обзавестись трехмесячным сыном. Изменился и характер Сагидуллы: из прежнего добряка он стал человеком неуживчивого нрава. Спорил со всеми, даже со старшими. Не старался, как раньше, предупредить малейшее желание Кенжебая, наоборот, всячески подчеркивал свое недовольство его образом жизни. Когда Кенжебай объявил домашним о том, что хотел бы некоторое время пожить на зимовке в Жашитале и мать в ответ на это всплеснула руками: “Сыночек, да что же ты будешь там делать один-одинешенек!” — Сагидулла только ухмыльнулся: “Не бойся, маманя, волки его не съедят. Сын твой человек творческий, наверно, хочет поразмышлять в одиночестве. Пусть едет”. Но, поддержав Кенжебая, он и не думал скрывать, что отъезд старшего брата ему по душе. К тому же сегодня утром, проводив его до зимовья, Сагидулла был краток: “Вот — дом, вот — сарай, вон — колодец”. — Промолвив это, он с равнодушным видом сел в машину и тут же уехал.
Зато вечер накануне они провели вместе у Сундета в Егиндикуле. Там и заночевали. А оказались они в гостях вот каким образом. После обеда отправились в совхозный поселок накупить кое-какую провизию в магазине и случайно наткнулись на Сундета, после чего чуть ли не силой были доставлены в его дом. Представляя Кенжебая приглашенным гостям, Сундет объявил во всеуслышание: “Этот парень — друг моего детства, а теперь он столичный композитор”. Сагидулла, сидевший тут же, не дал ему договорить и сделал маленькую поправку: “Был столичный, а теперь сельский...” Кенжебай густо покраснел и пустился в объяснения: “Да, видимо, останусь здесь. Надоела городская жизнь, да и по родным местам соскучился”. И снова Сагидулла не утерпел: “Муж тут, жена — на курорте”. Сундет решил, что настала пора от разговоров перейти к делу. Сладкие тосты, которыми сопровождалось обильное возлияние, несколько сняли царившее среди гостей напряжение. А потом, ссылаясь на позднее время, хозяин упросил братьев заночевать. В Жашитал поехали уже утром.
Видя, как Сагидулла с вызывающим видом расхаживает по двору, Кенжебай едва не лопался от злости. Нельзя было недавние выходки брата оставлять безнаказанными, но что прикажете делать? Надавать ему оплеух, как когда-то в детстве, — так Сагидулла уже не ребенок. И Кенжебай решил не выяснять отношений до поры до времени в надежде на то, что Сагидулла парень неглупый, взрослый и в конце концов поймет, что старший брат — это старший брат.
Успокаивая сам себя, Кенжебай, однако, вспомнил еще одно обстоятельство, вызвавшее в нем зависть и недовольство. Новые “Жигули”, купленные недавно отцом, будто подчеркивали его особую любовь к младшему сыну. Глядя на отъезжавшую машину, Кенжебай почувствовал себя обделенным. Вернувшись во двор, отнес свои вещи в сарай, отыскал чистое ведро, достал из своего чемодана привезенные из Алма-Аты крючки и леску и решил тут же пойти на Калдыгайты — как давно он там не был!
До реки было недалеко — каких-нибудь два-три километра. Но невеселые мысли, казалось, сделали путь вдвое длиннее.
2
Дорога, берущая начало от зимовки, привела его к Песчаному броду. В прежние времена здесь действительно переправлялись на другой берег и верхом, и на телегах, запряженных волами. Дорога, однако, у реки не кончалась: подойдя к ней вплотную, она устремлялась дальше.
Берег в этом месте был покрыт белоснежными песками, окаймленными высокими зарослями тростника и рогоза. Сама поверхность реки была разбита на многочисленные заводи, каждую из которых охраняла плотная стена камышей. Но главными стражами покоя были здесь ивы с повисшими до самой воды ветвями.
Кенжебай закурил и стал не спеша оглядывать берег. В каждый из своих приездов на родину он обязательно бывал здесь, у Песчаного брода. Приход сюда был сродни возвращению в собственное детство, когда казалось, что все тайны мира прячутся за этим густым тальником. Побродив по берегу, он вновь обретал чувство покоя и умиротворенности. Потому, видать, и привык Кенжебай считать Калдыгайты частицей своей души. Рыбачить, шлепая по воде босыми пятками, собирать дикий лук, щавель, ягоды, наблюдать, прокравшись сквозь заросли тальника, за утиным семейством — все это действительно ни с чем не сравнимая, особая жизнь. Уморившись, свалиться в тени молодых берез и слушать до бесконечности птичью разноголосицу, узнавать в этом хоре то обиженные и удивленные, то испуганные и обрадованные голоса, прижиматься разгоряченным лицом к прохладному песку, вдыхать аромат свежих трав — и это тоже особенная, ни с чем не сравнимая жизнь. Потом вместе с бредущим в аул стадом вернуться домой и, слушая вполуха недовольное бурчание отца, доплестись до постели, рухнуть на нее и тут же забыться, погрузившись в загадочные сны... Когда же он впервые понял, что без всего этого не сможет жить? Что именно эта жизнь стала лучшей частью его души?..
Вслед за своей тоской пришел он сюда, на берег Калдыгайты. Стоя у реки, он неотрывно смотрел на ее прозрачные воды, на стремительно проносившиеся косяки красноперок. Этим летом они должны были приехать сюда вдвоем с Нурлытай, но мечта так и осталась мечтой...
Кенжебай поднял ведро и перешел на другой берег. По знакомой тропинке углубился в тальник и через несколько шагов увидел то, что искал: удивительной красоты заводь, со всех сторон окруженную камышами. Как и прежде, тут царили тишина и покой, будто ничего и не изменилось. Только камыш сильнее разросся.
Найдя на берегу открытое место и скинув с себя одежду, он вошел в воду. Плавал саженками до тех пор, пока не почувствовал в теле приятную усталость. Потом перевернулся на спину и раскинул ноги и руки, покачиваясь на поверхности воды. Над ним, высоко в небе, плыла цепочка облаков, похожая на длинный ряд гигантских цистерн товарного поезда. Налюбовавшись ими вволю, Кенжебай не спеша поплыл к берегу.
После долгого купания ему сделалось зябко, тело покрылось мурашками. Чтобы хоть немного разогреться, он принялся гоняться за кузнечиками. Ловил их для наживки. Потом, выбрав место поудобнее, закинул с берега удочку. Рыба клевала бойко, и через несколько минут семь увесистых окуней стали его добычей. “Для начала хватит”, — сказал он сам себе и снова вошел в воду. Когда вылез на берег, то зуб на зуб не попадал от холода. Кинулся в заросли на поиски кизяка и валежника. Разжег костер, соорудил над ним треножник из крепких прутьев и стал варить уху.
Из-под сложенных шалашиком коровьих кизяков замелькали язычки пламени, в воздухе поплыл голубоватый дым с душистым запахом, отгоняя к тальнику назойливых комаров. Кенжебай прилег у костра, выставив локти и подперев руками голову. С удовольствием вдыхал запах дыма, не отрываясь смотрел на огонь. Когда ветерок переменил направление, сменил место и Кенжебай, чтобы дым по-прежнему плыл прямо на него.
Бульканье воды заставило Кенжебая подняться. Он заглянул в ведерко и увидел, что глаза у рыб побелели: верный признак того, что уха готова. Бросил в воду прихваченные с собой соль, перец, лавровый листок и помешал суп ложкой. Можно было приступать к еде.
Отдохнув немного, снова решил окунуться. И опять выбрался на берег, стуча зубами от холода. Судя по тому, что солнце уже не стояло над головой, время перевалило за полдень. Прежде чем вернуться на зимовку, Кенжебаю захотелось еще раз попытать рыбацкого счастья. Штук десять таких же окуньков — и вечерняя уха обеспечена.
Пошел вдоль берега, отыскивая место поудобнее. Остановился у заводи, не заросшей камышами, раскрошил прихваченные с собой кизяки и устроил дымовую завесу от комаров. Вскоре крючок с трепыхавшимся на нем кузнечиком полетел в воду, но, как ни странно, Кенжебаю вдруг расхотелось рыбачить. С любопытством, но без всякого азарта смотрел он на рыбью карусель вокруг крючка, на болтавшийся из стороны в сторону поплавок и вовсе не спешил дергать удочку. Когда же увидел, что наживка съедена, прицепил другого кузнечика и так же, без всякого интереса, снова забросил удочку в воду. Возобновившаяся рыбья возня совершенно не занимала его.
Взгляд Кенжебая был устремлен не на поплавок, а на черную толщу воды. Сумрачные глубины вызывали в памяти другие сумерки. Он вспомнил и тот первый вечер своего знакомства с Нурлытай, и тот последний — когда они расстались...
Жили на частной квартире. Как пришли в нее каждый со своим чемоданчиком, так и разошлись. Да и что им было делить после столь короткого супружества!
Поссорившись с женой окончательно, Кенжебай перебрался к своему приятелю журналисту Ергоже. На седьмой день размолвки Нурлытай позвонила по телефону на работу. “Мне нужен Кенжебай”, — сказала она, и он сразу узнал ее голос. Не сумев скрыть волнения, ответил хрипло: “Кенжебай на проводе”. Он давно ждал этого звонка, метался, не находя себе места. Надеялся, что жена, как всегда, извинится перед ним, после чего их отношения вернутся в прежнее русло.
Однако голос Нурлытай звучал до странного спокойно:
— С работы я уволилась, уезжаю домой. Взяла только свои вещи. Ключ оставлю у квартирной хозяйки. Вот и все, что я хотела тебе сказать...
Кенжебай растерялся. Такого поворота событий он явно не ожидал. Тогда, перед уходом из дома, он сказал ей: “Жить больше с тобой не собираюсь. Можешь подавать на развод. А не подашь, суд и так разведет нас через шесть месяцев. В общем, счастливо оставаться!” Сказать-то сказал, но был уверен, что все получится иначе.
— Откуда звонишь?
— Из автомата рядом с домом.
— Можешь подождать? Я сейчас приеду.
— Поезд в половине седьмого, вряд ли успеешь. Да мне больше и нечего сказать тебе, — устало произнесла Нурлытай.
— Успею. Подожди немного, сейчас.
Он бросил трубку и, не обращая внимания на недоуменные взгляды сослуживцев, кинулся к двери, на ходу надевая пальто и шапку.
Поймал такси и всю дорогу торопил шофера. Нурлытай ждала его перед домом на улице. В быстро сгущающихся сумерках зимнего вечера лицо ее выглядело особенно бледным.
— Вот тебе ключ, — сказала она.
Кенжебай взял у нее чемодан и сумку. Потом встали на обочине дороги и стали молча ждать такси.
— На вокзал меня не провожай, не надо, — сказала наконец Нурлытай.
— Хорошо, — кивнул он. Снова помолчали.
— Насовсем уезжаешь? — спросил Кенжебай.
— Насовсем.
— И куда же? Домой, в Джетыбай?
— Домой.
После этого говорить стало не о чем.
Кенжебай первым заметил зеленый огонек и поднял руку. Машина остановилась рядом.
— Ну, прощай, Нурлытай! Не поминай лихом! — бодро сказал он, подавая чемодан и сумку.
— И тебе счастливо оставаться, — вымолвила Нурлытай каким-то изменившимся голосом.
Такси рвануло с места и вскоре исчезло из виду. Кенжебай остался один на пустой улице...
И вот теперь, глядя на темные, сумрачные воды реки, напомнившие ему тот прощальный вечер, Кенжебай размышлял: “Если б я не перебрался тогда к Ергоже и не прожил бы у него целую неделю, все могло бы и наладиться”. Но потом сам себе возразил: “Нет. После всего случившегося — вряд ли...”
Да и не нашлось никого, кто бы захотел помирить их. Ергожа не в счет. Хоть бы раз спросил, какие, мол, у вас там нелады с Нурлытай. А когда Кенжебай попытался начать откровенный разговор, отмахнулся: “Если ты так решил, то тебе виднее...” В тот момент ни о чем другом Ергожа не мог думать, кроме как о своем романе. Когда-то он начинал со стихов, собирался стать поэтом, даже написал несколько текстов песен для Кенжебая. Но потом порвал со стихами и взял курс на прозу. Рассказы ему показались пустой тратой времени и сил, поэтому сразу приступил к написанию романа. Словом, на приятеля Кенжебаю надеяться было нечего.
Но прежде чем винить других, не лучше ли посмотреть на себя? Мог бы и не ловить это проклятое такси, не говорить “Прощай!”. Да и Нурлытай вроде бы не проявляла особой спешки. Наоборот, приподняв воротник пальто, все оглядывалась назад, на дом, в котором они вместе жили. Что ей оставалось делать, если он сам поймал такси, усадил ее на заднее сиденье и сказал “Прощай!” И с какой легкостью он произнес это страшное слово! Его ведь говорят друг другу только однажды. А сказав, больше не встречаются. Почему он так поспешил? Почему позволил уехать ей на вокзал? В темноте трудно было заметить, но наверняка в глазах Нурлытай стояли слезы. Как же он мог!.. В тот прощальный вечер он еще не осознал до конца случившегося. Правда, неустроенность в настоящем и неопределенность в будущем настраивали его на печальный лад, но не больше. В опустевшей квартире он везде натыкался на следы пребывания Нурлытай. Постоянно ловил себя на том, что слышит ее голос, видит улыбку, чувствует запах волос. Потом взял себя в руки, решив, что все на свете поправимо. Ходил взад-вперед по комнате и насвистывал какие-то мелодии.
Так он прожил неделю, после чего окончательно сбросил с себя маску деланного веселья. Кенжебай уже не напевал и не насвистывал, а сидел и мрачно курил одну сигарету за другой, превращая свою крохотную комнатушку в настоящую душегубку. Сам того не замечая, подолгу смотрел в окно остановившимся взглядом.
Старушка хозяйка потребовала освободить комнату, и он переехал на другую квартиру. Надеялся, что на новом месте прежние воспоминания оставят его в покое. Не оставили. Особенно терзали они Кенжебая в вечерние часы, когда на город опускались сумерки...
Во время последней ссоры Нурлытай, помнится, сказала: “Никого ты не найдешь, кто бы, как я, уважал тебя и любил”. Кенжебай, не долго думая, ответил с ухмылкой: “Чего-чего, а этого добра в Алма-Ате не счесть. Найду и в десять раз лучше”. И все же Нурлытай оказалась права. Бежали дни за днями, а Кенжебаю не то чтобы шутить с девушками, но даже и смотреть в их сторону не хотелось. А если и заинтересуется, то тут же остынет, обнаружит в новой знакомой кучу недостатков. То она смеется не так, как Нурлытай, то походка у нее не та. Собирался найти в десять раз лучше, а не нашел даже похожей. Перед самим собой и то стыдно.
Впоследствии он все же пытался выполнить обещание, данное Нурлытай. И столкнулся еще с одной странностью: девушки, на которых он останавливал свое внимание, едва ли не сразу после первого свидания теряли к нему всякий интерес. Словно бы Нурлытай из далекого Джетыбая посылала им таинственные сигналы. Это было тем более странно, что никогда прежде Кенжебаю не приходилось наталкиваться на отказ. И вот теперь даже самые веселые при виде его теряли весь свой задор и становились неприступно-серьезными. Он долго искал отгадку и в конце концов решил, что и тут всему виною те самые слова, сказанные Нурлытай.
Глядя на глубокую, неподвижную заводь, Кенжебай тяжело вздохнул. Пока он предавался своим безрадостным воспоминаниям, поплавок отнесло далеко к камышам. На воткнутом в песок удилище сидела маленькая стрекоза. Дальше продолжать рыбачить не имело смысла.
По той же самой тропинке вернулся к Песчаному броду. На мелководье купались егиндикульские ребятишки, заполняя гомоном всю округу. Два загорелых дочерна мальчугана лет пяти-шести сидели на берегу — видно, до того накупались, что никак не могут согреться. Пытаясь унять дрожь, прижимались друг к другу, как цыплята.
Кенжебай закатал штанины и хотел было войти в воду, как за спиной раздался голос:
— Дядя! Дяденька!
Он обернулся. Кричал один из двух малышей, тот самый, который вскочил на ноги.
— Ну что тебе?
Малыш довольно улыбнулся, и тут Кенжебай признал в нем сынишку Сундета. Как его зовут, он забыл, но большие круглые глаза и торчащие уши говорили сами за себя. Сын был точной копией своего отца. Кенжебай помахал ему рукой.
— Дяденька! — снова закричал мальчик, едва только Кенжебай сделал несколько шагов.
Пришлось снова оглянуться.
— Мой дядя! — объяснил довольный мальчуган своему приятелю. — Видишь, оглянулся — значит, это мой дядя.
Кенжебай с улыбкой покачал головой. И тут же подумал: “Зачем тебе такой дядя, малыш? У тебя есть отец — хороший человек, не то что я... Какой тебе прок от такого дяди?..”
Он повернулся и медленно, шагом направился в Жашитал.
Приехав в Калдыгайты, Кенжебай надеялся воспрянуть духом, а вместо этого к прежним огорчениям добавляются новые.
3
В Жашитал добрался к вечеру. Жашитал — это маленькая зеленая рощица, которая некогда была редкими зарослями тальника, а теперь превратилась в непроходимые дебри. Отсюда до зимовки километра полтора. В окрестностях было немало таких домов, в которые чабаны переселялись только с наступлением холодов. И отец Кенжебая, Рамазан, тоже лет двадцать подряд приезжал сюда.
Подойдя к дому, Кенжебай первым делом зачерпнул воды из колодца. Выбросил из ведра оказавшихся там крошечных лягушек, сдунул плавающие на поверхности соринки и долго пил, утоляя жажду ледяной водой. Потом отпер дверь и вошел в дом.
Окна были завешены так плотно, что ни единый луч солнца не проникал вовнутрь. Сделав кое-где просветы, он принялся ходить по комнатам, поглядывая по сторонам равнодушным взором. Все эти вещи знакомы ему с детства — разве что вон тот здоровенный шкаф да радиола куплены недавно. Подошел к столику, посмотрел на старую гармонь, на красную домбру, на которой он когда-то играл еще будучи школьником. Домбра была сработана стариком Егинбаем из Егиндикуля. Рука Кенжебая сама потянулась к ней. Пальцем он потрогал струны, подкрутил колки, но на большее его не хватило. Вышел в прихожую. Проходя мимо чулана, заглянул в него и тут же закрыл дверь. Решил, что потом, на досуге, сюда обязательно зайдет.
Когда-то для него не было большего в жизни удовольствия, чем покопаться в чулане. Притупившийся топор, сломанные дверные петли, изъеденная ржавчиной пила, капканы на волков и зайцев, мышеловки, веретено, старые настенные часы — все эти вышедшие из употребления вещи он мог перебирать часами, будто надеясь отыскать среди них что-то ценное. Если вдуматься, они действительно были экспонатами домашнего музея, рассказывающими о прошлой жизни их семьи. С тем, правда, отличием, что в настоящих музеях все рассортировано, расставлено по полочкам и снабжено пояснительными бирками, тогда как в чулане, наоборот, царил фантастический беспорядок. Глядя на вещи, покрытые толстым слоем пыли, надо было самому догадываться, для чего они предназначены. По-видимому, последнее обстоятельство и представляло главный интерес для Кенжебая.
Вынесенной из дома старой кошмой он застелил деревянную тахту, стоящую впритык к западной стене. На кошму положил подстильку из овечьей шерсти и подушку. Потом запер дверь дома на замок и отнес ключ в сарай. Пока не наступят осенние холода, не зачастят дожди, пока не пригонят отару на зимовку, ему хватит тахты и сарая. Да и что может быть лучше, чем сон на свежем степном воздухе!
Осматривая свои владения, Кенжебай приметил в траве между домом и коровником голубей светло-сизой окраски. Прижились, оказывается, не покинули своих гнезд, где когда-то вылупились из яиц. А привил их к этим местам сам Кенжебай. Когда учился в седьмом классе, в Лубене у одного подростка купил четырех голубей по полтиннику за каждого. Соорудил что-то вроде голубятни на чердаке, поил, кормил птиц. Когда поначалу подрезанные крылья отросли, один голубь улетел, а другие остались. Птицы, которых он видел сейчас, должно быть, потомство того первого выводка. У всех сохранилась светло-сизая окраска, только у одной голубки шейка была красной. Из мешка, стоящего в углу сарая, зачерпнул несколько горстей проса и направился туда, где находились голуби. Птицы подпустили его на близкое расстояние, но потом стали разбегаться в стороны. Увидев разбросанное просо, все же повернули назад и стали выклевывать из травы мелкие зернышки, не обращая внимания на человека.
Кенжебай немного погодя заметил, что у домашних птиц гостили четыре диких степных голубя. Побаиваясь его, они сидели на ветвях карагача, растущего рядом с домом, с завистью поглядывая на своих счастливых подружек. Беспокойство их росло по мере того, как исчезало просо, и Кенжебай, неслышно ступая, вернулся к дому.
Решив, что с ужином можно повременить, растянулся на тахте, раскинув ноги и подложив руки под голову.
По синему небу продолжали плыть облака-цистерны, но два легких облачка выбились из общего ряда, словно вагоны, сошедшие с рельсов. Спешащий товарняк и не думает останавливаться ради них. Летит на всех парах вдаль.
Снова вспомнился тот вечер, когда он провожал Нурлытай, ее бледное от волнения лицо. Кенжебай долго не мог смириться с мыслью, что она уехала из города. Казалось, что Нурлытай живет где-то поблизости, в соседнем доме, на соседней улице. Стоит только повернуть за угол и можно будет увидеть ее. Кенжебай даже стал всерьез подумывать о том, чтобы сходить к ней на работу. Однако в последний момент не хватило смелости. Сотрудницы Нурлытай знали его в лицо, и, конечно же, без расспросов не обойдется. Особенно не хотелось Кенжебаю сталкиваться с бухгалтершей, пожилой русской женщиной, которая почему-то любила Нурлытай пуще собственной дочери. “Какая у тебя жена хорошенькая, какая умница!” — говорила она ему каждый раз, когда он переступал порог их учреждения. Уж не сглазила ли их?.. Боясь вопросов и пересудов, Кенжебай решил просто позвонить по телефону. “Мне бы Нурлытай Малдыбаеву”, — начал он, и какой-то женский голос поинтересовался: “А кто ее спрашивает?” Кенжебаю ничего не оставалось, как назваться родственником, приехавшим из аула. Говоря это, он густо покраснел. “Нурлытай больше у нас не работает — уволилась”. И Кенжебай повесил трубку.
Понимая, что Нурлытай в городе действительно нет, он долго еще не мог избавиться от чувства, что не сегодня-завтра обязательно встретит ее на улице. Как назло, стали часто попадаться девушки, чем-то похожие на Нурлытай, и он сломя голову бежал за ними, чтобы через некоторое время удостовериться в своей ошибке. Но о том, чтобы написать Нурлытай письмо, он и думать не хотел. Подобный шаг казался ему проявлением слабости, отречением от сказанных когда-то слов.
Вот и мчится теперь время без оглядки, как тот товарный поезд, растерявший по пути свои облака-цистерны. Кажется, только вчера гуляли под руку, шутили, улыбались... И вдруг Кенжебай вспомнил, что многие слова и поступки Нурлытай он заносил в блокнот. Этот блокнот-дневник и сейчас должен быть в чемодане.
Он вскочил с тахты и побежал к сараю. Откинул крышку, смахнул все, что лежало сверху, и на самом дне чемодана обнаружил тонкий серый блокнот. “Здесь же все о ней!” — не выдержав, воскликнул он. Закрыл чемодан и тут же, в сарае, прилег на кошму, подперев голову согнутой в локте рукой. Часть записей относилась к первым дням знакомства, часть — к первым неделям их совместной жизни. Дат Кенжебай не проставлял, единственным разделительным знаком служили звездочки.
Как же давно он не брал в руки этот блокнот! Начал читать с первой странички, и перед глазами встали прошлогодняя весна, и прошлогодняя Алма-Ата, и прошлогодняя Нурлытай...
— Вон там — лужа!..
Надо же, думал, что Нурлытай, которую проводил почти до самого подъезда, уже ушла, а она, оказывается, стояла и смотрела мне вслед. Но если б не это восклицание, я бы точно угодил в лужу. Зато всю дорогу до дома в ушах звучал ее нежный голосок.
* * *
— Вам понравился этот фильм? — спросила она, когда мы выходили из кинотеатра.
— В общем... по-моему... ничего, — замялся я.
— Плохой! — резко опровергла мое мнение Нурлытай.
— Да?..
— Очень плохой!
* * *
— Как вы относитесь к соблюдению режима дня?
— Гм, положительно. Он дисциплинирует человека.
— У вас твердый характер?
— Ну, не такой уж твердый, чтоб...
— А мне кажется, что вы из тех людей, которые от своих принципов не отступятся.
— Это не так. Наверно, у меня скорее мягкий характер. Конечно, если не задеть за живое. В общем, чувство мести мне не знакомо.
(Прочитав последнюю фразу, Кенжебай горько усмехнулся: “А я еще и лицемер, оказывается!”)
* * *
— Хотите, я по пунктам перечислю те черты характера, которым я симпатизирую. Только вы считайте, хотя бы на пальцах.
Я кивнул и приготовился считать.
— Прежде всего мне нравится скромность.
— Раз.
— Аккуратность.
— Два.
— Люблю людей последовательных: взялся за дело — доведи до конца.
— Три.
— Если люди ругаются, мне всегда хочется уйти.
— Четыре.
— Не люблю зазнаек, самодовольных, напыщенных людей.
— Пять. Но постой, ведь это же перекликается с первым пунктом, разве не так?
— Нет, там я имела в виду скромность в одежде, в манерах, в быту.
— Ладно, пять. Еще что?
— Люблю, когда отношения людей строятся на взаимном уважении друг к другу.
— Правильно. Шесть.
— Люблю, когда люди шутят и смеются, но не чересчур, конечно, а в меру.
— Семь, — сказал я.
— Этого мало?! — удивилась Нурлытай. — А теперь вы говорите, а я буду загибать пальцы. Начинайте!
— Стоит ли, — попытался отвертеться я. — Я же не раз говорил об этом.
— Нет, вы говорили в общих чертах, а я хочу услышать по порядку.
Пришлось с глубокомысленным видом изрекать избитые истины. Нурлытай только молча кивала в ответ.
* * *
— Почему вы так много курите? — неожиданно спросила она. Я растерялся и, глядя на свои пожелтевшие от никотина пальцы, пробормотал:
— А что, разве много?
— Вы меня извините, но я терпеть не могу табачного дыма.
* * *
— Вы часто говорите, что надо успеть что-то сделать, чего-то добиться. А вот у вас — какая в жизни цель?
Я произнес несколько общих фраз о том, что в любом случае надо стараться, чтобы жизнь была насыщенной, содержательной.
— А моя цель — поступить на истфак. Бухгалтерская работа мне не по душе, — вздохнула Нурлытай.
* * *
— Город мне в последнее время стал надоедать, хочется вернуться домой.
— Это правда?
— А что, не верите? Я правду говорю. Что здесь интересного? Ничего. Другое дело — приезжать изредка...
— Погулять?
— Вам бы только погулять... Учиться! Я же хочу поступать на заочное.
— А не тяжело ли будет жить в ауле и ездить сюда на учебу?
— Ничего трудного не вижу. Я ведь сельская девушка.
* * *
— Вот если бы все фильмы были такими! — шепотом сказала она.
В этот момент на экране шли кадры из жизни природы.
* * *
— А который теперь час? — спросила Нурлытай, сидя со мной рядом в кинозале.
— До двенадцати осталось пять минут.
— Ого-о! Как же вы теперь до дому доберетесь? — и она, отвернувшись от экрана, стала смотреть на меня.
* * *
— По мне, обыкновенная собака лучше того, кто теряет человеческий облик, — высказалась она однажды, увидев на улице пьяного мужчину.
* * *
— Видите Коктюбе? Прошлым летом мы ходили туда вместе с девчатами. Как там хорошо!
— А мы, мы-то с тобой разве не пойдем туда?
— Надо дождаться лета.
— Вот было бы здорово!..
— А почему бы и нет?
— Далековато же.
— До Коктюбе далековато?! Скажете тоже. Это совсем рядом!
— Не зря говорится, что куда бы то ни было ведет одна дорога — близкая и далекая одновременно...
— Тогда мы останемся здесь и подождем, пока гора сама придет к нам.
* * *
— Почему вы так цепляетесь за Алма-Ату? Можно ведь и на областном радио устроиться. Поезжайте в Уральск, а? Было бы неплохо, если бы вы поехали туда.
— Ну и что тогда будет?
— Тогда я буду прилетать к вам каждый день.
— А если, скажем, поеду в Актюбинск?
— Тогда буду прилетать ежечасно!
* * *
— Иногда вы плохо отзываетесь о других людях. Не делайте этого, пожалуйста...
* * *
— Знаете, какие замечательные письма писал мой отец маме, когда учился в партшколе. Хоть это и нехорошо, но я не удержалась и прочитала некоторые.
* * *
— Никогда еще я не ждала так весны, как в этом году. Просто истосковалась по ней. Сама не знаю, почему...
* * *
— Где встретимся? У кинотеатра “Арман”?
— Нет, возле памятника Абаю, — ответил я.
— Говорите лучше: дедушке Абаю. В последнее время он стал мне как-то особенно дорог.
— Конечно, он же теперь знает все наши секреты.
— Приятно видеть из окна автобуса, как вы ходите рядом с ним и поджидаете меня.
* * *
— Вы доверяете людям?
— Всем сразу? Или же ты имеешь в виду кого-то конкретно?
— Да.
— Отдельным людям — доверяю.
— А мне?
— Разумеется.
— Тогда обязательно пойдем на Коктюбе!..
Кенжебай прервал чтение, услышав шум затормозившего рядом с домом мотоцикла. Затолкал блокнот обратно в чемодан и поспешно вышел из сарая. Как оказалось, приехал Сундет. Он уже доставал из багажника какие-то сумки, пакеты и ставил их прямо на землю.
— Привез то, что ты утром просил. Огурцы, помидоры, лук... Больше ничего не раздобыл. Но, говорят, городские неприхотливы в еде. Так, лишь бы перекусить. Надеюсь, хлеб и консервы ты и сам прихватил? Если что-то понадобится еще, привезу потом. — Не прекращая говорить, Сундет засунул руку в глубь багажника. — А про это ты, конечно же, не подумал. — В его руке оказалась сумка, из которой выглядывали три бутылки водки.
— Это еще зачем! — попробовал было возразить Кенжебай, но Сундет и слушать его не стал. Снова полез в багажник и достал еще один сверток.
— А вот это лично тебе передала женге.
— Какая женге? — удивился Кенжебай.
— Конечно же, та, что у меня дома. Я имею в виду свою жену, Калампыр. Она ведь как-никак женге для тебя, поскольку ты моложе меня на два месяца, — рассмеялся довольный Сундет.
— Зря она беспокоилась... У меня же все есть. — Кенжебаю и в самом деле сделалось неудобно.
— Ничего страшного, — заявил Сундет и принялся таскать сумки в сарай.
— В таком случае предлагаю отметить событие чаепитием. Не знаю, как у тебя, а у меня с утра в животе пусто.
— О чем разговор! Или ты думал, что я одному тебе оставлю эту батарею?! — воскликнул Сундет, указывая глазами на лежащие на тахте бутылки, и впрямь похожие на боевые снаряды.
— Вот и отлично — приступим к делу.
И они принялись хлопотать по хозяйству. Один доставал воду из колодца, другой разжигал кизяки в печи. Раскинули дастархан, разложили на нем нарезанное мясо, высыпали из кулька баурсаки. Одним словом, подготовка к так называемому “чаепитию” вскоре была завершена. Посередине, в окружении комочков курта, привезенного Кенжебаем из дома, и овощей, доставленных Сундетом из Егиндикуля, красовалась бутылка водки.
— Слушай, ты, джигит столичный, разве у нас дастархан хуже, чем в ресторане? — спросил Сундет у Кенжебая, подносящего горячий чайник.
— А ты сам-то был в Алма-Ате? Имеешь представление, что такое ресторан? — отозвался Кенжебай.
— Нет, в Алма-Ате твоей я не был. А вот в Уральске бывал много раз. Город он и есть город — какая может быть разница между ними? А вот ресторан... Хочешь, объясню, что это такое? Это французское слово. Расшифровать его можно следующим образом: “Место, где люди тешат себя вином и водкой, но не во всю глотку”. Конечно, где-нибудь в Париже, может быть, действительно пьют с оглядкой, рюмочками, а у нас в Уральске это не принято. Водку глушат за милую душу, не успеют одну бутылку выпить — заказывают другую. А на закуску — котлетка, вроде подметки. Знаю, сам не раз с этим сталкивался, — говорил весело Сундет, откупоривая бутылку.
Выпили по первой, и разговор переместился в другое русло. Сундета потянуло на воспоминания:
— Ведь нам обоим в этом году двадцать восемь стукнет, а?! Эх, время-времечко, как же ты быстро и незаметно летишь! Только вчера, кажется, бегали по берегу Калдыгайты, рыбачили, ловили лягушек — и вот уже взрослые люди, семейные к тому же. — Он улыбнулся, покачав головой. — Вот и Муратик мой в этом году пойдет в школу.
— Да, все так... — свесив голову, согласился Кенжебай. Подобный разговор тяготил его, но что делать, если Сундета ничто другое не интересовало.
— И я тебе про то же говорю! Мы с тобой вступили в пору зрелости. Ты отправился в город добиваться успехов на творческом поприще, я остался здесь — работаю учителем в школе, учу детишек. А наша дружба по-прежнему крепка. Какие времена были!.. Сейчас смотрю на проделки своего Муратика и будто самого себя вижу. Он — вылитый я! Точь-в-точь воспроизводит все, что когда-то вытворял я, будучи мальцом.
Кенжебай изобразил на своем лице подобие улыбки.
— Только вот бойкостью он меня, пожалуй, превзошел. Вечно с кем-нибудь дерется. Не думает — по зубам ему соперник или нет. Я в свое время, по сравнению с ним, был трусоват. Помнишь, ты и сам не раз колотил меня, — рассмеялся Сундет.
— Помню, — угрюмо подтвердил Кенжебай. — Если есть желание, могу и сейчас повторить.
— Ну, насчет “сейчас” не знаю, а тогда, представляешь, никому не мог дать сдачи. Боже мой, это ж надо, каким я был рохлей! Ладно ты, так ведь пузатый Кусаин и тот приставал ко мне! Вчера, кстати, он не смог прийти к нам. Уехал в Оренбург за пиломатериалами. Теперь он прораб, один из уважаемых в совхозе людей. Но тогда-то, в детстве, мне и от него перепадало. Зато ты был бесстрашный. Помнишь, как-то рыбачили, потом еще пошли одеваться, а на нашей одежде лежит змея — большая-пребольшая, лежит и извивается. Всех как ветром сдуло. Один ты не убежал. Схватил с земли палку и придавил змее голову. Ух, как она шипела злобно, вытягивая свой прыткий язычок! Мне эта змея три ночи подряд снилась. Тем более что устроилась она тогда не на чьей-нибудь, а на моей одежде. Во сне она ползла прямо на меня, я просыпался весь в холодном поту...
На Кенжебая вроде бы подействовали воспоминания Сундета. Он сбросил с себя уныние и тоже вступил в разговор:
— А помнишь, как воровали яйца из гнезда пустельги?..
— А как из телки сделали ездового “коня”, как она потом сбросила нас в колючки?..
— А как гонялись друг за другом и не заметили, что потеряли из виду аул?..
— Помнишь еще, кто-то пустил слух, что в Мессае завелась нечистая сила, а мы выследили... ею оказался круглоголовый Бактыкерей!..
Говорили, перебивая друг друга. Один начинал, другой продолжал, и воспоминаниям не было конца.
Солнце ушло за горизонт, и облака на западе приобрели пурпурный оттенок. Глядя на них, друзья полулежали на тахте. Установившееся на некоторое время молчание первым нарушил Сундет:
— Вот такие дела, друг ты мой столичный! Говоришь, вернулся в родные места? А я думал, что ты навсегда забыл про наш аул. Несколько последних лет тебя и вовсе не было видно.
— Да, таким вот образом все обернулось. Оказывается, ничего нет лучше родного аула, — задумчиво отозвался Кенжебай.
— А что, скажи на милость, ты в нем потерял?
— Что? Душевный покой, искреннюю радость, чистоту души, думы о смысле жизни...
— О-о, эти слова для меня малопонятны!
И тогда Кенжебай решил все высказать начистоту:
— Подожди, сейчас растолкую. В городе я не обрел ничего. Время прошло впустую. У меня нет ни таланта, ни даже способностей. Все оказалось одним тщеславием. Более того, я сделал несчастным близкого мне человека — я расстался с Нурлытай. Ни на какой курорт она не отправилась — вернулась к себе на родину. А я приехал сюда, чтобы все начать заново. Вот тебе и ответ на вопрос, почему я оказался здесь.
Сундет приподнялся на тахте, сел, сложив ноги по-восточному и глядя на Кенжебая. Лицо его в сумерках казалось побледневшим.
4
На следующий день встали поздно. Засидевшись за полночь, улеглись там же, где и сидели, подложив под головы подушки.
После утреннего чая Сундет, тарахтя мотоциклом, уехал к себе, а Кенжебай отправился в Аккум.
Аккум — белые пески. Бесконечные гряды дюн напоминали верблюжьи горбы. Да и пески были не простыми, а легендарными. Когда-то, по преданию, здесь располагалась орда калмыцкого хана Алчагыра, разбитая впоследствии Кобланды-батыром. И как бы в подтверждение этой легенде в песках и по сей день обнаруживают осколки глиняных горшков, покрытые ржавчиной мечи, хорошо сохранившиеся наконечники стрел, отлитые из бронзы.
Школьный учитель Хамит не раз водил их сюда. Вдоволь набродившись по ложбинам, они возвращались из похода мучимые нестерпимой жаждой. Какие славные это были дни! Редко когда уходили отсюда с пустыми руками. И все находки помещали в школьный музей краеведения.
Вспоминая об этом, шел Кенжебай по песчаной местности, поросшей полынью, молочаем, тысячелистником и пижмой. Показались барханы с кустами карагана и можжевельника. Это еще только самое начало Белых песков. Настоящий Аккум там, где кончается растительность, где зеленый цвет сменяется беловато-желтым, песочным. Высокие дюны некоторое время идут прямо, а потом смещаются в сторону Калдыгайты словно бы только затем, чтобы заглянуть в воду. А заглянув, тянутся вдоль берега почти до самого Сегизсая.
Кенжебай шагал не спеша. Солнце нещадно пекло спину, и он расстегнул пуговицы рубашки.
А в ушах все звенели слова Сундета: “Он — вылитый я!” Сундет их часто повторял, будто хотел задеть Кенжебая за живое. А впрочем, конечно же, Муратик — вылитый Сундет. Раньше у мальчишки черты лица были неопределенными, поэтому и не замечал. А вот позавчера разглядел, убедился воочию. Да что там Муратик! Четверо сыновей у Сундета, и все четверо, без всякого преувеличения, — копии своего отца. Такие же лупоглазые и лопоухие. Вот уж действительно впору воскликнуть: “Женщины, берите пример с Калампыр, а вы, мужчины, — с Сундета!”
Ничего не укрылось от взгляда Кенжебая. Пришлось и ему испытать чувство легкой зависти и обиды. Не познал он по-настоящему ни супружеской жизни, ни радости отцовства. Цели поставленной тоже не добился, мечту свою не осуществил. И вообще все у него идет бестолково и бессмысленно. Кенжебай приуныл. И никак было не отделаться ему от слов Сундета, вонзающихся прямо в душу.
Что это, черная зависть или белая — в этом он еще и сам как следует не разобрался. Да и Сундет разве чужой ему? Росли в одном селе, дружили. Ничего не сохранилось в памяти такого, что хотя бы отдаленно напоминало скрытую вражду. И Кенжебай погрузился в размышления. Додумался до того, что потерял чувство реальности. В его представлении смешались годы, судьбы, в результате чего он уже — муж Калампыр, а Сундет — неприкаянный одиночка.
Да, на Калампыр должен был жениться Кенжебай, а не Сундет! И тогда бы четверо загорелых мальцов были бы похожи на Кенжебая, а не на Сундета. И не выпало бы ему на долю ничего из того, что довелось пережить. Не пришлось бы пенять на себя, что оказался болтуном и пустозвоном, не способным добиться ничего в этой жизни. И признаваться, что изрядно наломал дров, вместо того чтобы делать полезное и путное, тоже не было бы надобности. Был бы нормальным аульным джигитом, радовался жизни и ведать не ведал бы ни о каком горе...
О женитьбе Сундета Кенжебай услышал после первого курса, когда приехал на каникулы. До этого в мыслях привык считать Калампыр своей девушкой. А об отношениях ее с Сундетом даже не догадывался.
Когда-то она была немногословной, стеснительной. Зато теперь изменилась до неузнаваемости: стала общительной, раскованной, даже в чем-то своенравной. Будучи в гостях у Сундета, Кенжебай не переставал удивляться, глядя на нее. Однако Калампыр много говорила — но с другими, улыбалась кому угодно — только не Кенжебаю. А стоило ему открыть рот, тут же переключала свое внимание на хозяйственные заботы. Кенжебай недоумевал, видя такое отношение к себе. Вина его только в том, что однажды пытался поцеловать Калампыр. Но сколько лет прошло уже с того самого дня! Или повинен в том, что любил ее? Что, не успев еще выйти из детского возраста, почувствовал к ней что-то такое, о чем и не подозревал никогда? Что, стыдясь людей, места себе не находил, пытаясь разобраться в своих чувствах?
Он перебирал в уме самые различные причины, придумывал всяческие объяснения и все не мог объяснить поведение хозяйки дома.
Углубившись в пески, Кенжебай вспомнил, что где-то здесь, в Аккуме, он впервые обратил внимание на Калампыр. Чтобы найти то самое место, поднялся на пригорок, огляделся по сторонам и пришел к выводу, что это должно быть немного севернее. Долго ходил по ложбинам, поросшим березами, ивами, чагыром и острецом, пока наконец не остановился. “Здесь!” — сказал он сам себе и оглядел изменившиеся окрестности. Пески сдвинулись, поросли караганником, и все же он был уверен, что не ошибся.
Тогда они учились в шестом классе. И привел их сюда все тот же учитель. Дети разбились на группы и разбрелись кто куда, а они с Калампыр оказались в этой вот ложбинке — он в одном конце, она в другом. Каждый с увлечением рылся в песке, выискивая осколки.
— Кенжебай! — позвала его внезапно Калампыр.
— Что там у тебя?
— Иди скорее!
“Наверное, нашла что-то интересное”, — подумал он и побежал к ней. Калампыр сидела на корточках. Он наклонился, чтобы разглядеть находку поближе, и вдруг почувствовал какой-то необъяснимо сладостный запах, исходящий от девочки. Непонятная истома овладела им. Он отпрянул назад и замер удивленно. Ничего не подозревавшая Калампыр повторила нетерпеливо: “Смотри же, Кенжебай, почему ты не смотришь!” Он склонился над ней снова и со словами “Где, где?” еще раз вдохнул запах ее волос.
— Вот же! — Калампыр ткнула пальцем в наполовину засыпанный песком осколок глиняного кувшина.
— Этот, что ли? - произнес Кенжебай, и голос его задрожал. Запах, казалось, мешал ему видеть и слышать. Зато неодолимо тянуло приблизиться к девочке.
— Да-да, этот! Может, позовем учителя?
— Где?.. Который?..
Упираясь в землю руками, он, стараясь ничем себя не выдать, еще раз вдохнул запах ее волос. Но тут Калампыр встрепенулась и глянула на Кенжебая с подозрением. Он же в полной растерянности принялся гладить пальцем осколок кувшина.
Ни слова не говоря, Калампыр вскочила на ноги и побежала вверх по откосу. Сразу подняться на гребень ей не удалось, и она, цепляясь руками за скользящий песок, почти ползла на четвереньках. Кенжебай смотрел на нее, и лицо у него пылало от стыда. “Ну все, пропал! Сейчас она все расскажет учителю!” Он готов был убежать куда глаза глядят, чтобы никогда больше не видеть ни ребят, ни учителя, ни Калампыр.
Однако, как потом выяснилось, никто ни о чем так и не узнал. На гребне бархана вскоре появился один из соклассников и, помахав рукой, крикнул:
— Эй, Кенжебай, учитель велел всем собираться! Возвращаемся домой!
На обратном пути он украдкой посмотрел на Калампыр: брови у нее были нахмурены, губы обиженно надуты. А сам Кенжебай долго еще не мог избавиться от смешанного чувства стыда и страха...
И вот теперь, бродя в одиночестве по Белым пескам, он вдруг наткнулся глазами на глиняный осколок. Нагнулся и поднял. Во времена его детства их было здесь гораздо больше. Видно, нынче они погребены песками, но когда-нибудь опять появятся на поверхности. С зажатой в руке находкой Кенжебай выбрался из ложбины. Посмотрел на солнце, висевшее почти над самой головой, снял кепку, вытер пот со лба. Заметил в нескольких метрах от себя пригорок, густо поросший ивняком, и направился к нему.
Усевшись в тени, разжал кулак и принялся исследовать находку. Это был небольшой кусочек от горловины кувшина. По самому краю черенка шли волнистые линии, которые при желании можно было принять и за древнюю надпись. Но при более близком рассмотрении линии оказались всего-навсего чем-то вроде узора, нанесенного на глину ногтем. Кенжебай вспомнил, как в свое время учитель им объяснял, что жившие здесь две тысячи лет назад сарматы — дальние предки казахов — украшали свои горшки и кувшины именно таким образом. Он приложил палец к краю осколка и подумал, что и его ноготь мог бы оставить на глине точно такой же узор.
Вдали тускло белели коробочки домов Егиндикуля. Волнистая дымка на горизонте словно бы подталкивала их в сторону гор. Кенжебай представил, как Сундет и Калампыр пьют сейчас чай под тенью навеса. И четверо их мальчишек шумно переговариваются меж собой, мешая родительской беседе...
Если посмотреть направо, увидишь тянущиеся до самого горизонта пески. Кое-где вкраплены в него островки берез и заросли кустарника. Нещадно печет солнце, и тени от облаков бродят по этому песчаному царству.
Он вновь стал разглядывать осколок кувшина, узор — двухтысячелетний след, нанесенный рукой человека. “Мы две тысячи лет не живем, — размышлял Кенжебай, — так зачем же мучаем себя в нашей короткой жизни? Почему делаем несчастными друг друга, тогда как могли бы каждый день превратить в праздник? Нет, не в шумные и бестолковые вечеринки, застолья... А чтобы в отношениях между людьми всегда были взаимопонимание, доброта и участие. И любовь, конечно. Разве это не в нашей власти? — Кенжебай горько усмехнулся и заметил уже самому себе: — А ты, однако, мастер давать советы другим! Сам-то вот только почему не поступаешь так?”
Да, не надо было горячиться в тот день, разводить сыр-бор из-за пустяка. Кто знает, если б спокойно во всем разобрался, может, и не был бы теперь столь несчастным...
А случилось все как раз за неделю до того вечера, когда ему пришлось останавливать черное такси с зеленым огоньком. Вернулся он с работы часа на два раньше обычного. Как это принято во многих молодых семьях, хлопоты по приготовлению ужина брал на себя тот, кто приходил домой первым. Обычно это была Нурлытай, и вот сегодня Кенжебаю выпала счастливая возможность продемонстрировать свои способности и доставить радость жене. Не беда, что сваренный им суп будет скорее походить на кашу, а каша — на суп, все равно Нурлытай останется довольна. В предвкушении этой картины, с довольной улыбкой на лице, Кенжебай открыл дверь. Нурлытай оказалась дома, и не одна, а с неким Утегеном. Они сидели за столом и пили чай. Кенжебай, растерявшись, остановился как вкопанный.
Утеген тоже работал на радио, но в другой редакции. Был холост, снимал квартиру где-то поблизости. Дружен с ним Кенжебай не был, разве что здоровался при встрече. И вот этот самый парень сидит сейчас на его месте, опершись локтями о стол, и преспокойно, с удовольствием пьет чай. Надо ли говорить, что подобная выходка показалась Кенжебаю оскорбительной.
Появление хозяина было столь неожиданным, что сидящие за столом невольно растерялись. Особенно Нурлытай. Она с беспокойством смотрела то на одного, то на другого, и Кенжебай почувствовал, как от злости у него потемнело в глазах.
— Приятного чаепития! — сказал он и, демонстративно отвернувшись, начал рыться в своем портфеле, стоявшего у подножия кровати. Потом с шумом захлопнул его и направился к двери. Видя, что муж уходит, Нурлытай заволновалась еще больше:
— Куда это ты? А чай?
Кенжебай ответил резко, не оборачиваясь:
— Пейте сами! Я спешу на премьеру.
По улице шел как в тумане. Не видел ни громыхающих машин, ни людей. Перед его глазами стояли Нурлытай и Утеген, сидевшие за одним столом. Его кидало в дрожь от злости и обиды. От нестерпимого жжения внутри болело сердце. И тут он впервые пожалел, что женился на Нурлытай. Пожалел всерьез, по-настоящему. По сравнению с этой бедой все прежние огорчения были детскими пустяками. Ему казалось, что только сейчас он увидел подлинное лицо Нурлытай. “Она обманула меня! — кипел он в ярости. — Данную мне клятву верности променяла на легкий флирт с первым встречным! Все ее слова лживы. Удивительно, как я не понимал этого раньше! Все же так просто и ясно, как божий день! Неужели она думает, что я собираюсь жить с ней и дальше? Что позволю втаптывать в грязь свое имя, свою честь?!” Теперь он был уверен, что в ситуациях, подобных этой, он оказывался не однажды, но как слепой не замечал их, не придавал им значения. И вот, доведя себя до крайней степени раздражения, Кенжебай направился к дому своего друга журналиста Ергожи.
Ергожа, как обычно, сидел за столом, утопая в клубах сигаретного дыма. Увидев Кенжебая, обрадованно воскликнул: “Молодец, в самый раз пришел! Я тут над одним абзацем голову ломаю. Сам не пойму, что хотел этим сказать! Вот послушай”. Он было уже раскрыл рот, но Кенжебай замахал обеими руками. Поспешно достал из портфеля две купленные по пути бутылки водки и сказал:
— Сегодня нам суждено пить, а не писать. Убирай со стола свои бумаги.
Поначалу между ними завязался довольно толковый разговор. Но потом Ергожа перехватил инициативу и говорил уже без умолку. Кенжебай молча слушал его бесконечные монологи и все больше и больше мрачнел.
С каждой выпитой рюмкой росла в нем озлобленность. Мысленно он прокручивал всевозможные варианты предстоящего разговора с Нурлытай, пока наконец не пришел к выводу, что вполне можно обойтись и одной фразой: “Ты мне противна, и жить я с тобой не собираюсь”.
До дому добрался к часу ночи. Нурлытай не спала, ждала его с опухшими от слез глазами.
— Где ты ходишь? — спросила она и хотела помочь ему расстегнуть пальто, но Кенжебай отвел ее руки.
— Разведусь. И дня не буду жить с тобой отныне. Ты мне противна, — пробормотал он, едва ворочая языком.
Нурлытай побледнела. Казалось, она не до конца поняла услышанное, и лишь спустя некоторое время, когда смысл слов дошел до нее, разрыдалась.
— Что ты несешь, Кенжебай?! Что ты сказал? Ты понимаешь, что ты такое сказал? Да ты просто пьян! — Не переставая плакать, она кинулась обнимать его.
— Прочь! — взревел Кенжебай. — Кончено! Хватит!
— Ты пьян! Пьян! Ты ничего не понимаешь!.. — рыдала она, стоя перед ним.
— Может, и пьян, но не настолько, чтобы не давать отчет своим словам. Могу и повторить. Слушай: ты мне противна!.. Все, разговор окончен!
Не сказав в ответ ни единого слова, Нурлытай закрыла лицо руками, прошла несколько шагов и с глухим стоном упала на кровать. Плечи ее вздрагивали от рыданий.
— Зря плачешь. Думаешь, пожалею, увидев твои слезы? Ничего у тебя не выйдет!
Плач Нурлытай и крик Кенжебая разбудили квартирную хозяйку, и она стала стучаться к ним в комнату.
— Войдите. Входите же! Открыто, — сказал Кенжебай, направляясь к двери.
— Что за шум вы тут устроили? — спросила старушка, удивленно глядя на него. — Что стряслось с тобой, сынок? Почему ты обижаешь Нурлытай? Ой, да ты никак пьян? Ну зачем же ты так?..
Хозяйка принялась успокаивать разбушевавшегося квартиранта, но Кенжебай и не думал униматься.
— Мамаша, не обижайтесь. Эту ночь пошумим, а завтра нас здесь не будет. Никого завтра не будет здесь. Так что идите, отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь. — С этими словами он выпроводил старушку из комнаты.
Потом Нурлытай, плача, говорила, что она никакой вины за собой не знает. Что Кенжебай, как всегда, обижает ее без всякой причины, что есть предел и ее терпению. “Вот и прекрасно, — отозвался он, — будем считать, что нашему общему терпению пришел конец. Значит, и говорить больше не о чем”. — “Зачем ты издеваешься надо мной? Неужели ты мог подумать, что я способна на такой низкий поступок, в котором ты меня подозреваешь?” — продолжала упрекать его Нурлытай. “Еще как могу! Ведь я же все своими глазами видел”, — ответил он. — “ Да что же ты такое видел, сам подумай?! Что было-то?” — “Всего я, конечно, не знаю. Но с меня достаточно и этого. А ведь я тебя предупреждал. Дважды предупреждал! Этот случай уже третий по счету. Я говорю, а тебе все нипочем. Сегодня дашь слово — завтра забудешь. Всего только месяц прошел с тех пор, как ты мне клялась и божилась, что отныне и навеки будешь верной женой. Ну и где она, твоя верность? Фьють, нет ее!” После этих слов Нурлытай заплакала горько и безутешно. “Правда, раньше ты не была такой, это я признаю. Раньше, то есть до замужества, была честной и безгрешной, как ангел. Только воспоминания об этом удерживали меня от развода. Думал, может, я в чем-то ошибаюсь. Да какое там! Сегодня убедился окончательно”, — распекал ее Кенжебай. Нурлытай наконец собралась с духом и решила все объяснить: “Поверь, ничего сегодня не случилось. Днем отнесла счета на центральную базу, сдала их и пошла домой. Главбух так и сказал: отнесешь и можешь быть свободна. Вернулась домой, стала готовить ужин. В этот момент он и постучался. Разве я звала его? Раз он попал на чай, что прикажешь делать — выставить за дверь?!... И тут же, слышишь, тут же пришел ты!” Кенжебай усмехнулся: “Ловко у тебя все получается! Как в детективных романах: он случайно зашел, ты случайно оказалась дома, и вместе вы случайно встретились. А потом появился этот отрицательный тип — я!.. Если ты верная жена, как же ты не понимаешь, что это подло — сидеть дома с посторонним мужчиной в отсутствие мужа?! Отчего бы тебе не сказать этому сукину сыну, чтобы он пришел вечером, когда вернусь я? Почему наконец ты не выбежала следом, когда увидела, что я ухожу обиженный?” — “Боже мой, какие у тебя дурные мысли! Он вышел следом за тобой. А к нам заглянул потому, что дверь была открытой”, — пыталась втолковать ему Нурлытай. “Я же говорю, чистой воды детектив! Он — туда, я сюда, а потом разгорелся весь этот сыр-бор. Откуда он вообще узнал, что это наша дверь? Разве мы звали его?!” — “Это ты у него спроси. Если уж на то пошло, так я с ним едва-едва знакома. Меня больше другое волнует: почему ты из-за малейшего пустяка начинаешь считать близкого себе человека своим злейшим врагом, обзываешься последними словами?! И зачем мне бежать за тобой следом, если я прекрасно знаю, что в такую минуту тебя ничего не остановит? Ты ведь привык всегда поступать так, как сам считаешь нужным. Со мной ты вообще не считаешься. Я уже не в силах терпеть такое унижение! Тебе доставляет радость втаптывать в грязь мою честь. Ты ни в чем мне не доверяешь!” — говорила Нурлытай сквозь слезы. “Да, я тебе не верю. Что хочешь пой, хоть соловьем заливайся, но не верю! Устал. Надоело! Любил тебя по-настоящему... Когда женился, рад был до смерти. Думал, что нашел счастье, а оказалось — горе. Так жить больше нельзя. Надо разводиться, — решительно предложил Кенжебай. И, не дождавшись ответа, добавил резко: — Вот так вот! Слов своих назад не возьму. Мне такой жены и даром не надо! Все, конец!” И тут он действительно стал собираться. Набил портфель вещами, которые могли ему понадобиться в ближайшее время. Остальное решил унести потом, когда подыщет другую квартиру.
Утром сел в автобус и отправился к Ергоже. Они были с ним довольно близкими друзьями, знакомство их относилось еще к той поре, когда оба были абитуриентами. И хоть учились в разных местах, но связь между собой постоянно поддерживали. Ергожа и поныне ходил холостым, так что, расположившись у него, Кенжебай никоим образом не стеснил своего друга. Поиски квартиры в ближайшую неделю не увенчались успехом, а тут как раз к нему на работу позвонила Нурлытай и сообщила, что уезжает...
На второй день после скандала Кенжебай все-таки решил найти Утегена и поинтересоваться, с какой целью он переступил порог их дома. Конечно же, он заранее знал, что все сказанное Нурлытай тот повторит слово в слово, но Кенжебаю было интересно посмотреть в глаза этому человеку. Если только он не законченный проходимец, у которого хитрость в крови, то Кенжебай сумеет разобраться, виновен Утеген или не виновен. Ну а в том случае, если он заподозрит неладное, быть тому битым. С этой целью и вышел Кенжебай в коридор, встал у окна и, покуривая, ожидал появления Утегена. Перед тем он заглянул к нему в редакцию, но сотрудники пожали плечами, сказав: “Бродит, наверно, где-то поблизости...”
Вот наконец показался и тот, кого он с таким нетерпением поджидал. В свою очередь и Утеген заметил Кенжебая и теперь с приличной скоростью уносил ноги прочь так, что широченные штанины развевались на ходу. Отказавшись от своего первоначального намерения, Кенжебай отвернулся к окну.
“Нет, этот не виноват”, — сказал он себе. Утеген не был похож на покорителя женских сердец. Он скорее принадлежал к разряду тех, кто облизывается при виде всякой красивой женщины, и только. И для Нурлытай он вряд ли представлял интерес. Но почему же она сидела с ним в такой интимной обстановке? Этот вопрос как раз и мучил Кенжебая больше всего. Пусть Утеген не сердцеед, но ведь когда-нибудь перед Нурлытай может появиться и настоящий донжуан. На этом свете достаточно подонков, которым невмоготу смотреть на чужое счастье. И успокаиваются они только тогда, когда разрушат его в пух и прах. Разве против этого скопища проходимцев устоит Нурлытай? Если она сама не будет защищаться от них, не будет давать отпор желающим поухаживать за ней, разве он, Кенжебай, сможет уследить за ней? А если Нурлытай вообще не хочет понимать серьезности его опасений, то какая же она после этого верная жена? Ведь жизнь-то они связали друг с другом по любви, намерены были до конца хранить клятву верности, так зачем ей нужны улыбки посторонних мужчин, какое ей дело до их внешности и прочих достоинств? Не насильно же он взял ее замуж, а раз согласилась — будь добра оставаться верной! И нечего заводить на стороне шуры-муры — не должно их быть. Но ведь есть же, есть, и не в первый раз! Трех месяцев не прошло со дня свадьбы, а уж такое творится!.. Что же будет, когда пройдет три года? Нет, надо разводиться, и как можно скорее! Вон их сколько вокруг, простых и непритязательных, достаточно симпатичных и способных стать верными женами! Красивая женщина, конечно, радует глаз. Притягивает к себе взоры, как красивый цветок среди множества других, невзрачных. Но одной красотой сыт не будешь — куда важнее качества душевные. А мир, слава богу, на добрых девушек не оскудел. На его век хватит.
К такому вот выводу пришел он, стоя у окна. А тут еще неотвязно маячила перед глазами вчерашняя сцена: Нурлытай с тем подонком — она-то окончательно и укрепила Кенжебая в принятом решении.
Теперь в тени ивняка, покуривая одну сигарету за другой, он возвращался мыслями в тот день, перебирал в памяти свои слова и поступки. Корил себя за бездушие, за душевную черствость. Как у него только язык повернулся бросить в лицо Нурлытай такие чудовищные обвинения?! Почему, не будучи ни в чем уверенным, он возводил напраслину на чистое и светлое создание? Может, этот Утеген действительно случайно забрел к ним? Или зашел, увидев знакомое лицо? Да пусть и не так. Пусть он даже выслеживал Нурлытай, ждал момента, когда она окажется дома одна — и тут нет ничего страшного. Значит, она ему приглянулась, и он мечтал оказаться с нею наедине — желание, присущее любому мужчине. Нередко и сам Кенжебай себе признавался, глядя на красивых девушек: “Эх, посмотреть бы на ее улыбку, услышать бы из ее уст хоть одно теплое слово, дотронуться бы до ее ладони!” Если даже и с такими мыслями пришел к ним Утеген, разве бы Нурлытай допустила вольности? Разве не выставила бы его за дверь и не отчитала бы как следует? В конце концов, доказательств ее любви и верности он может привести сколько угодно. Тогда почему первым делом пришли на ум черные мысли? Уж не оттого ли, что у самого рыльце в пуху? Случалось ведь ему, и не один раз, оказавшись с девушкой наедине, вести себя далеко не лучшим образом. Вот отсюда, наверно, он и утвердился в мнении, что все мужчины в подобных ситуациях ведут себя одинаково.
Нурлытай невдомек, что когда-то Кенжебай, будучи студентом третьего курса, точно так же оказался в гостях у девушки по имени Орик. Раньше он часто вспоминал о ней, но в последнее время прежняя история стала понемногу забываться...
Не теряя нити размышлений, Кенжебай поднялся с места и медленно зашагал в сторону Жашитала.
...Нурлытай невдомек, что когда-то у него была разработана целая теория относительно представительниц прекрасного пола. Если сказать точнее, он делил их на две категории: к первой относились девушки, годные для того, чтобы на них смотреть как на потенциальных жен; ко второй — все те, кто послан мужчинам для увеселения, забав, легкого времяпрепровождения. Надо сказать, что в ту пору недостатка в женском внимании он не испытывал. Наоборот, к талантливому парню, завсегдатаю различных вечеринок, со стороны девушек наблюдался повышенный интерес. Ему оставалось только прикинуть в уме, к которой из вышеназванных категорий можно отнести ту или иную особу, и далее действовать согласно выработанной теории.
С девушками второй категории он вел себя достаточно развязно, не стесняясь в выражениях и не особенно следя за своим поведением. Захотелось просто почесать языком — пожалуйста, приврать ради красного словца — и это позволительно. Ходи с ними в ресторан, глуши стаканами водку, кури — все в порядке вещей. Одним словом, не обременяя себя никакими обязательствами, забавляйся и веселись до тех пор, пока не разойдутся пути-дороги, поскольку с самого начала ты уяснил для себя: эту девушку ты никогда не назовешь своей женой. Они бывают и симпатичны, и очень красивы, но все же главным их качеством является непригодность к семейной жизни.
Зато к девушкам из первой категории ни один из этих пунктов неприменим. С ними надо вести себя вежливо, обходительно, не скупиться на знаки внимания. Они требуют более тонкого подхода. Разговаривая с ними, боишься обидеть их случайно вырвавшимся словом. Надо уметь владеть собой, быть терпеливым, приноравливаться к смене их настроений, ибо цель твоя — не сиюминутное наслаждение, а решение довольно сложного вопроса: тот ли это человек, с которым ты в будущем сможешь разделить все беды и радости жизни. И, разумеется, спешка тут ни к чему: на знакомство могут уйти и недели, и месяцы, и годы.
Вооруженный своей теорией, ехал однажды Кенжебай поездом № 7 “Алма-Ата — Москва” к себе домой, на каникулы. В одном купе с ним находилась довольно привлекательная, с румянцем во всю щеку девушка по имени Орик. Она любила улыбаться, и не совсем ровный ряд зубов отнюдь не портил ее лица. С первого взгляда Кенжебай понял, что перед ним девушка, вполне “годная для женитьбы”, и потерял покой. С большим трудом он подавлял в себе желание поминутно смотреть на нее, и сердце охватила какая-то непонятная дрожь. Родом из Аральска, девушка на вторую ночь сошла с поезда, а Кенжебай поехал дальше.
Нурлытай невдомек, что месяц спустя он получил письмо от Орик. Как и договаривались, на главпочтамте.
“Кенжебай-агай! — так начиналось письмо. — Какой приятной и неожиданной получилась наша встреча! Мы с моей подругой Саркыт шли по вагону в поисках свободных мест и нашли наконец-таки одно. Только уселись, а тут и вы подоспели.
— О, у нас гости! — но сказано это было не нам, а нашим попутчикам-кавказцам, лежащим на верхних полках.
А мы вас еще раньше заприметили. В вагоне-ресторане. Вы пили пиво и громко разговаривали с соседом по столику. Ваше имя показалось нам знакомым. Оказалось, что вы автор песни “Полет орла”, потому-то мы и обрадовались, попав в одно купе с вами.
Нам понравилась ваша скромность и общительность. Я поначалу краснела под вашими взглядами, но, разговорившись, почувствовала себя свободнее.
Помните, как мы ели дыню? Как у вас упали семечки на пол и вы вдруг смутились, а мы с Саркыт еле удержались от смеха? Потом вы предложили нам свою полку и вышли в коридор. Было бы неуместно заставить вас простоять всю ночь у окна, и я пошла вам сказать об этом. Но вместо того, чтобы позвать вас в купе, пристроилась рядом и стала, как и вы, смотреть в окно. Конечно же, там ничего не было видно, только изредка мелькали огоньки небольших поселков; они появлялись и тут же исчезали, растворялись в темноте.
Вначале я была в полной растерянности: уйти в купе или остаться? Но тут вы принялись шутить и рассказывать разные истории. Многое рассказали о себе, о вашем родном селе, об исчезнувшем с лица земли городе в песках Аккум, о реке Калдыгайты. Слушая вас, я даже и не заметила, как наступило утро.
Агай! Мы были вместе ровно одни сутки. Это, конечно, очень мало. Но у меня сейчас такое чувство, будто мы с вами знакомы давным-давно.
Ну а теперь немного о себе. Дома, в ауле, была дней десять. Потом вернулась в Аральск, навестила дедушку, старших братьев. Все живы-здоровы. Надолго запомнится, как бродили с друзьями по берегу моря, собирали выброшенные волной разноцветные ракушки.
Саркыт передает вам привет. У нее все хорошо, видимся с ней каждый день. В Алма-Ату вернемся в конце сентября: с первого октября начинаются занятия.
Во-первых, агай, извините за задержку с письмом.
Во-вторых, не обижайтесь, что оно такое короткое.
В-третьих, уважающая вас Орик с нетерпением ждет ответа. 26 августа .”.
Это письмо Кенжебай перечитал трижды прямо там, на главпочтамте. Потом пошел бродить по улицам. В пиджаке нараспашку, с засунутыми в карманы брюк руками, этот среднего роста смуглолицый парень привлекал внимание многих прохожих. С первого взгляда было видно, что он находится во власти светлых и радужных чувств.
Он до сих пор помнит тот день. Как останавливался посреди тротуара, доставал из нагрудного кармана письмо и с нежностью смотрел на складывающиеся в красивые строки ученические буквы. Как прятал его снова в карман и улыбался загадочно, прислушиваясь к своим мыслям и с гордостью поглядывая по сторонам. Похоже, в тот день он действительно чувствовал себя счастливым.
Вернулся в общежитие и тут же настрочил Орик длиннющее письмо с подробным описанием всего, что случилось с ним за время каникул. Кенжебай знал, что она учится в медицинском училище, но не знал где она живет, поэтому письмо кончалось предложением встретиться второго октября у фонтанчиков Дворца культуры.
В назначенный день Кенжебай пришел к месту встречи значительно раньше условленного времени. Он не сразу узнал Орик в девушке, одетой в черные брюки и джемпер цвета спелой дыни, с распущенными по плечам волосами. Она стояла и улыбалась, даже слегка раскачивалась, словно бы в такт мелодии, которую слышала только одна она. Приблизившись, он воскликнул удивленно: “Орик! До чего же ты изменилась!”
Нурлытай невдомек, что, поздоровавшись и взявшись за руки, они не спеша пошли по проспекту Абая. И, начиная с этого дня, они встречались почти ежедневно, ходили на концерты, в театры, в кино, бывали на вечерах поэзии. Каждый раз Кенжебай провожал девушку до самого дома, неохотно прощался с ней и поздно ночью возвращался к себе в общежитие.
Однажды в разговоре Орик случайно обмолвилась о том, что ее подруги Саркыт, с которой они жили вместе, завтра не будет дома. Сказала просто так, без всякой задней мысли, но Кенжебай принял это к сведению и пришел в гости как раз к возвращению Орик с занятий.
Орик смутилась, завидев на пороге явившегося без приглашения парня, но быстро оправилась от смущения и, приветливо улыбаясь, принялась собирать на стол.
Всегда общительный и разговорчивый, Кенжебай на этот раз вел себя скованно, то и дело поглядывая на Орик как змея на свою жертву.
После чая стали смотреть альбом. Сидя с девушкой бок о бок, ощущая идущие от нее пьянящие запахи, Кенжебай чувствовал, как все больше и больше теряет голову. Не в силах совладать с собой, он неожиданно заключил Орик в объятия и принялся страстно целовать ее.
Однако того, что последовало дальше, Кенжебай не ожидал. Вместо покорности Орик оказала ему яростное сопротивление, которого он, крепкий и жилистый парень, преодолеть так и не смог. В конце концов Орик, изловчившись, выскользнула из его цепких объятий, а еще через секунду в руке ее заблестел схваченный со стола кухонный нож. Лицо ее изменилось до неузнаваемости; глядя на Кенжебая расширенными от ужаса зрачками, Орик прокричала:
— Вон из дома! Живо убирайтесь!
И он ушел как побитая собака. Больше всего его удивило то, что Орик, высвободившись, не убежала куда глаза глядят, а нашла в себе смелость выставить его за дверь.
Спустя неделю Кенжебай получил на главпочтамте второе и последнее письмо от Орик. На этот раз он не решился распечатать его сразу. С зажатым в руке конвертом вышел на улицу, отыскал в сквере перед зданием почты укромное место и лишь тогда принялся за чтение.
“Я даже не знаю, что и сказать вам, — писала Орик. — Слезы подступают к горлу, стоит только подумать, что нужна была я вам для разового удовольствия. Выходит, ко мне вы не относились иначе как к объекту ваших низменных намерений. Как же я обманулась в вас!
Знаю, что человеку свойственно ошибаться, но ведь я так надеялась на серьезность наших отношений. И вот теперь эта надежда рухнула как карточный домик.
За излишнюю доверчивость я была наказана вами. Раньше думала, что подлых людей можно распознать по выражению глаз, по лицу. Вы не были похожи на них. И если уж такие, как вы, способны унизить человека, причинить ему нестерпимую боль, значит, не осталось на свете честных людей.
А ведь я к вам тянулась всей душой. День, проведенный без вас, казался мне нескончаемо длинным. Хотелось встречаться ежедневно и говорить, говорить... Нет, я не виню вас. Всему виной моя собственная глупость и неумение разбираться в людях. Такие, как я, верят лживым словам и не видят того, что их окружает в действительности.
Ждала от вас радости, счастья, любви, но все напрасно... Прощайте.
Орик. 10 декабря .”.
Прочитав письмо, Кенжебай засунул его поглубже в карман и долго сидел не двигаясь. Перед глазами стояло лицо Орик с неровным рядом белых зубов, которые казались великолепными, когда она смеялась, с мягким взглядом, излучающим доброту. Весь ее облик излучал молодость. Такой же юной была и душа Орик... Вроде бы ничего плохого не держал он в мыслях, и все же не смог тогда подавить в себе безрассудный порыв. Орик все истолковала не так...
То, что девушка потеряна для него навсегда, Кенжебай понял сразу. Память уносила его назад, и в каждом воспоминании была Орик: он видел ее, когда она, стоящая у окна поезда, вглядывалась в ночную темень; видел ее радостную и улыбающуюся — в день их первого свидания у фонтанов; увлеченно рассказывающую о чем-то во время их прогулок по улицам; бесконечно удивленную и восхищенную — в концертных залах, и дрожащую от негодования, с ножом в руке — тоже видел, в тот злополучный день. Он чувствовал себя тогда самым несчастным человеком.
Обидней всего было то, что он сам своей неосмотрительностью, грубостью погасил светлую искорку первой настоящей любви. И все-таки, погруженный в свои мрачные мысли, Кенжебай жалел не себя, а Орик. Ей, понимал, намного трудней, чем ему. Это ее доверчивой душе нанес он сокрушительный удар, ее чистую любовь сделал предметом низменного желания. Больно осознавать, но отныне Орик перестанет верить в честность человеческих отношений, в искренность чувств, даже в само существование любви.
Именно тогда, под воздействием безрадостного настроения, он и написал свою ставшую известной песню “Печальная девушка”.
Кенжебай впервые в жизни убедился, что те, кого он привык считать хрупкими созданиями, вполне могут сами защитить свою честь и достоинство. Уж если даже парням, которые намерены на них жениться, они способны дать от ворот поворот, что уж говорить о каком-нибудь встречном-поперечном. Почему же он забыл об этом? Почему не захотел поверить, что и Нурлытай при необходимости может постоять за себя? Как жесток он был!..
А ведь Нурлытай не знает этой истории. А если бы узнала?..
Выйдя из песков, Кенжебай оглянулся назад. Перед его взором лежал Аккум, который вполне мог показаться постороннему человеку огромным городом. Однако увиденная красота не радовала глаз. Он смотрел на пески потухшим, отстраненным взором. Струящееся знойное марево, казалось, растворяло макушки высоких холмов, отчего были видны лишь их светлые очертания.
5
За то время, пока он обливался ледяной водой из колодца, вскипел чайник. Выпив чаю, отнес посуду в сарай и снова извлек из чемодана серый блокнот.
Расположившись на тахте, взбил повыше подушку под головой и принялся читать начиная с того места, где остановился в прошлый раз. И снова Алма-Ата, тенистые улицы, сады и скверы, театры и кинозалы, сияющее лицо Нурлытай предстали перед его глазами. В ушах послышался шумный прибой городской жизни и тихий смех любимой...
— У вас отчего-то сильно стучит сердце. Даже отсюда слышно...
— Может, оттого, что приблизилась ты?
— Не знаю, но только стучит очень сильно. Интересно, о чем оно говорит?
— О чем или о ком?
— О ком — я знаю. А вот...
— Так о ком же?
— Совсем недавно здесь прошла красивая девушка. Вы глаз с нее не спускали, долго смотрели вслед.
— Неправда.
— Нет, правда.
— Не знаю никого красивее тебя. Ты самая красивая на свете девушка.
— И вовсе это не так.
— Именно так. Ну а как стучит ваше сердце?
— Скажите “твое”.
— И о ком же стучит твое сердце?
— Не знаю...
— Послушать?
— Послушайте...
* * *
— Вам нравится место, где я живу?
— Конечно. И горы рядом, и река под боком. Место хорошее.
— Вы сами тоже хороший...
— Самого себя я не знаю, а вот ты — хорошая, это точно.
— Я и в самом деле нравлюсь вам?
— В самом деле нравишься.
— И вы мне тоже... Да и общение с вами много дает мне.
— Ты мне понравилась сразу же, с первого взгляда. До сих пор не могу забыть, как ты танцевала тогда на вечере.
— Потом вы проводили меня...
— Да.
— А на другой день снова пришли.
— Да.
— Вы мне очень нравитесь. Может быть, поэтому иногда я веду себя как шаловливый ребенок.
— Мне это нравится.
— А мне боязно: вдруг перегну палку и вы обидитесь...
* * *
— Вы хороший человек. А ведь сколько таких, которые только и знают, что есть, пить и попусту прожигать время.
— Ты не совсем права, Нурлытай. Боюсь, что я как раз один из них.
— Нет, вы на них ничуть не похожи.
* * *
— Когда что-то хочешь сделать и не можешь или задумаешь куда-нибудь поехать, а поездка сорвется, — разве это горе? Лично я никогда не считаю это горем.
— В таком случае считай подобное неосуществившейся мечтой.
— Зачем вы всегда придумываете в жизни препятствия? Почему мечта неосуществима? Осуществится! Я смогу ее осуществить.
— Я про свою мечту говорю.
— Вот-вот, вы только и знаете, что отделять себя...
* * *
— Вы часто говорите, что я вам нравлюсь. А что будет, если когда-нибудь разонравлюсь? Наверно, лучше нравиться не сразу, а потом.
* * *
— Я бы вас вот о чем хотела попросить:
не быть упрямым;
не принимать в гневе скоропалительных решений;
не пить, не курить;
тому, кто чернит другого человека, не поддакивать, что он, мол, такой-сякой;
всегда держать свое слово.
* * *
— Вчера ко мне приезжала сестренка из Актюбинска. Спросила: “Он тебе и в самом деле нравится?” Я ответила: “Нравится”. Она снова: “А как нравится?” Я ответила не задумываясь: “Как старший брат”. Она кивнула: “Ну и ладно, лишь бы тебе нравился”.
* * *
— Из всех пословиц, какие есть на свете, мне больше всего по сердцу вот эта: “Уши глупца не ведают, о чем мелет язык”.
— Действительно, хорошая пословица. Знаешь, она, кажется, и для меня подходит.
— Вот уж нисколечко!
— Правда-правда.
— Не наговаривайте на себя. И не принижайте, вместо того чтобы мечтать о высокой цели.
* * *
— Мне так нравится бродить с вами. Хочется все идти и идти. Два прошедших дня показались мне двумя годами...
* * *
— На нашей скамейке, видать, сидели другие. А мне совсем не нравится, когда на ней сидят в наше отсутствие, — заметила Нурлытай, смахивая со скамейки расстеленную газету.
(Тут Кенжебай вздохнул, вспомнив, что “их” скамейка была четвертой по счету на аллее рядом с Домом правительства.)
* * *
— Я буду скучать без вас.
— А я — без тебя.
— Десять дней... Даже когда вы здесь, я каждый день думаю о вас, а что же будет со мной, когда вы уедете?..
— Знаешь, давай сделаем вот что. Будем записывать все свои мысли и чувства в письма и посылать их до востребования. Только, чур, никогда потом об этом не делиться друг с другом.
— А о чем писать? О том, как скучали?
— Да.
— Я согласна.
— Ну вот и договорились.
— Стало быть, счастливого вам пути, уважаемый участник фестиваля! Удачи вам и благополучного возвращения. Только возвращайтесь поскорей. Помните, что здесь есть девушка по имени Нурлытай и что она очень нетерпелива и сильно скучает...
* * *
— Фу!.. До чего же противен этот приставший к зубам табачный запах! Никак не исчезает...
* * *
— Больше не ездите никогда в командировки, хорошо? Когда вас нет рядом, я теряю всякий интерес к жизни...
* * *
— Вы верите в бога?
— Не знаю... Однако то, о чем я говорил сейчас...
— Да-да, я не совсем поняла, о каких закономерностях вы говорили.
— Да хотя бы о таких, к примеру: если будешь злорадствовать над чужой бедой или стараться нанести другому горькую обиду, то с тобой рано или поздно приключится то же самое. Теперь тебе понятно?
— Да. Это похоже на правду.
— И ты тоже веришь в это?
— Верю...
* * *
— Согласна быть послушной! Делать все так, как скажете вы. Ну, говорите, что мне делать?..
* * *
— Я вообще странная. Только что шла по этой дороге расстроенная и обозленная на все на свете. А теперь вот веселая. Смеюсь. Вы хороший человек — умеете развеселить...
* * *
— Эти слова ты произнесла как какая-нибудь старушка.
— Значит, я, по-вашему, говорю как старушка? Вы меня считаете старушкой?!
— Нет, я сказал — “ как старушка”.
— Но ведь я же не такая! Я не такая!..
* * *
— Мне очень хочется, чтобы вы не довольствовались только одним званием музыканта, чтобы на своем поприще трудились не хуже других... А вы о чем думаете?
— Я? Хочу, чтобы ты была честной, слушалась меня и чтобы всегда держалась весело и раскованно.
— Честной, говорите? А разве можно мне быть иной?
* * *
— Какая уж тут любовь! По-моему, я вам даже нисколько не нравлюсь.
— Ну и ну!
— Но ведь это правда.
— С чего вдруг ты решила это?
— И совсем не вдруг. Всю ночь думала...
— Ого, так ты сделала, выходит, открытие?! Если так дело пойдет и дальше, мы станем с тобой великими мыслителями.
— О вас ничего сказать не могу, а что касается меня, то я бездумно жить не привыкла.
* * *
— ...Хорошо, я пойду к вам. Только в восемь часов вечера вы проводите меня. Дома дел много.
— Нет, ты останешься ночевать.
— Как это — останусь?
— Будешь лежать со мной рядом.
— Нет-нет, не буду!
— Будешь. А я тебя, поверь, не трону.
— Нет, не могу. Боюсь...
— Чего боишься?
— Так просто, боюсь и все...
— Я же сказал, что не трону тебя. И бояться нечего. Будем лежать рядом и спать в обнимку.
— И все-таки страшно...
— Ничего страшного.
— Нет, я не могу пойти.
— Как знаешь. Тогда вечером я тебя провожу.
— Правда? Вы правду говорите?
— Разумеется.
— Не обманете?
— Зачем мне это?
— Значит, вечером проводите, да?
— Конечно...
Кенжебай захлопнул блокнот и опустил веки. Долго лежал с закрытыми глазами, вспоминая. Нурлытай ушла тогда от него спустя три дня. И сам он сдержал свое обещание — проводил ее, как и договорились, в восемь часов вечера...
Неожиданно раздавшееся хлопанье крыльев заставило его вздрогнуть и приподнять голову с подушки. Не сразу и понял, в чем дело, увидев, как, отчаянно махая крыльями, разлетались во все стороны голуби. Одни садились на крышу дома, другие — на сарай. Совсем недавно, когда он направлялся к тахте с блокнотом в руках, птицы спокойно прогуливались по двору и с надеждой посматривали на него — он тут же отнес им несколько горстей проса. Невольно залюбовался гостившей во дворе дикой голубкой: она лежала в отдалении от остальных, чуть завалившись на левый бок, и, словно желая обогреть подкрылок лучами солнца, приподнимала правое крыло.
Встав с тахты и вытянув шею, Кенжебай увидел, что в гуще травы завязалась отчаянная схватка. Подобравшись поближе, он разглядел, как толстая пятнистая кошка раздирает на части светло-сизую голубку. Хищница в свою очередь заметила человека, приостановилась и мяукнула недовольно-плаксивым голосом.
Он огляделся по сторонам в поисках подходящего камня. На некотором расстоянии лежала палка, и он направился, чтобы поднять ее, но кошка тем временем с жертвой в зубах прыжками помчалась прочь, пытаясь укрыться за коровником. Кенжебай все же запустил в нее палкой, но промахнулся. Успел только заметить, что унесенная голубка — та самая, с красной шейкой. Пока огибал угол, пятнистая кошка все теми же прыжками продолжала нестись в сторону кошары. Кенжебай понял, что догонять ее бессмысленно, и остановился.
Подойдя к зарослям травы, попытался восстановить картину происшедшей схватки. Кошка, по всей вероятности, пряталась за пирамидкой сложенных друг на друга кизячных блоков, рядом с коровником. Дождалась момента, когда голубка потеряла бдительность, и настигла ее одним броском. Кенжебай оглядел раскиданные там и тут перья, следы крови только вчера еще беспечно расхаживавшей красношейки и пожалел бедняжку. “Видно, совсем еще птенец, недавно оперилась. Была б опытной птицей — не попалась бы в когти”, — подумалось ему.
Надо сказать, что и обличие кошки весьма удивило Кенжебая. Толстая, плотная, с коротким телом и пятнистой шкурой... В такой не признаешь домашнюю. Подобных кошек ему ни разу не приходилось видеть. Но, с другой стороны, не укладывалась в голове и мысль, что это была барханная кошка — сабанчи. Правда, изредка она еще встречается в песках, но никогда не охотится вблизи от людского жилья. Да и, насколько помнилось, сабанчи крупнее, ловчее и быстрее этой коротышки. Скорее всего, здесь разбойничала одичавшая домашняя кошка, отставшая от переселенцев во время одного из бесконечных переездов с места на место. Жаль, не удалось ее огреть палкой, поделом бы ей было.
Солнце уже клонилось к горизонту, опускаясь где-то на другом берегу Калдыгайты и окрашивая небосвод алым заревом. Кенжебай подошел к дому и, стоя со скрещенными на груди руками, смотрел на последние лучи уходящего светила.
Когда-то он не боялся одиночества. Даже наоборот — сам искал его. Только в эти последние месяцы, после расставания с Нурлытай, он понял истинную его цену. Никогда раньше не давало оно о себе знать так остро, как сейчас. Прежнее одиночество, в каком он пребывал до встречи с Нурлытай, казалось ему теперь всего-навсего уединением...
Он долго еще стоял возле дома. Встряхнулся только тогда, когда сумерки сгустились в темень, и, достав из кармана сигареты, закурил. В той стороне, куда ушло на покой солнце, загорелись огни Егиндикуля.
“У каждого дома есть свой огонек. Каждый дом живет своей жизнью. И каждый дом счастлив по-своему. Проста и в то же время удивительна их жизнь... Один огонек горит в доме Сундета и Калампыр. Сундет, пропустив за ужином свои сто грамм, пребывает сейчас в благодушном настроении. Калампыр же, присев на корточках в углу двора, доит корову и с улыбкой поглядывает на мужа. Интересно, чем мог взять ее Сундет, чем угодил ей? А она, любит ли она его по-настоящему?... Ну, еще бы! Если бы не любила, откуда бы взялась четверка лопоухих мальцов? В этот час они — кто ползая, кто неуверенно шагая, кто бегая со всех ног — наполняют двор беззаботным детским гомоном...”
С этими мыслями Кенжебай вернулся к тахте. Достал из-под подушки простыню, положил рядом. Тут же, в изголовье, лежал и серый блокнот. Растянувшись на тахте, вяло, безучастно посмотрел на звездное небо. На самом краю возникло темное облако, напоминающее лягушку с разинутой пастью. В нее потихоньку вползала желтая, как золотая чаша, луна. Спустя некоторое время лягушка полностью проглотила ее и сама стала распространять вокруг себя золотистые лучи.
Вновь и вновь приходили на память слова Нурлытай: “Мне очень хочется, чтобы вы не довольствовались только одним званием музыканта, чтобы на своем поприще трудились не хуже других...”
“Любимая моя, единственная! Ты искренне желала помочь мне. Разве из этих слов не проглядывает твое доброе участие? Ты угадала то, что мучало меня, угнетало мою душу. Ведь это я сам не пришел к себе на помощь”, — сокрушался он.
Нурлытай не особенно-то и расспрашивала Кенжебая о его жизненных планах. Знала только о том, что он автор нескольких песен. Впрочем, к тому времени и сами его творения, “приказав долго жить”, отправились в архив фонотеки. Да и самого Кенжебая это вряд ли беспокоило. Он словно бы забыл о них. Не забыл только о той цели, которую поставил перед собой еще в юности, когда впервые понял, что не лишен дарования.
И к цели своей Кенжебай шел поначалу довольно энергично. Приехал в Алма-Ату, поступил в консерваторию на композиторское отделение. Было в нем неуемное желание все познать, все увидеть и услышать, всему научиться. Свободное время старался проводить в читальных и концертных залах, в театрах.
Но чем выше поднимался он по ступеням курсов, тем заметнее было его падение, словно его талант и наука находились в обратной пропорции друг к другу. Кто знает, может, виной тому написанные им на третьем году учебы песни — “ Полет орла” и “Печальная девушка”?
Его стали часто приглашать на вечеринки. Скороспелых друзей становилось все больше и больше. Да и девушки из так называемого второго сорта с их дешевыми улыбками все настойчивей завлекали его. Незаметно аудитории, библиотеки, театры и концертные залы отодвинулись на второй план. На задний план. Прежняя жизнь начала казаться куда менее интересной, чем жизнь теперешняя. Песни его, завоевав столицу, с помощью радио и телевещания распространились уже далеко за ее пределы. И, судя по всему, достойных конкурентов среди сверстников Кенжебая не было, что еще больше расслабляло его. “Главное — это талант, а всему остальному цена — ломаный грош. Учись не учись, старайся хоть расстарайся, а без таланта ты как был пустым местом, так им и останешься. На вершину горы только уж взбирается ползком, а орел взлетает туда в мгновенье ока”, — вот такую новую “теорию” измыслил он в то самое время. И ее верность подкрепляли щедрые на похвалу друзья, восхищавшиеся Кенжебаем в хмельной компании за непритязательным, но шумным застольем. Да и собственные приятные впечатления тоже играли на руку этой теории. Не зря говорится, что над готовым фундаментом легко возводится башня. На эту казавшуюся мощной крепость и поднялся Кенжебай, а поднявшись и осмотревшись, понял, что даром потратил годы на ее возведение. Его “орлу” уже был недоступен высокий полет, а “девушку” вконец извела печаль. Да и “теория”, на которую он опирался, выглядела отсюда искусственной и надуманной. И очутился он в итоге у разбитого корыта. Его уверенность в себе заметно поколебалась, но от своего намерения свершить в жизни нечто значительное отступился не сразу.
До сих пор помнит, как на четвертом курсе в голову пришла чудесная идея написать симфоническую поэму под названием “Половодье”. Через притягательный сердцу каждого человека образ обновления живой природы он хотел выразить буйные, неукротимые силы зарождающейся жизни, присущую ей радость, ее борьбу за самоутверждение. Едва лишь эта идея возникла в голове Кенжебая, он ощутил в своей душе рождение новых, никому не известных мелодий. Их неуловимые, струящиеся, как воздух, звуки сплетались в шелковисто-легкие мотивы, в какие-то сверхсложные темы, способные извлечь наружу чувства, запрятанные в самых глубинах сознания. Правда, до нотной бумаги дело не дошло — не хватило силенок. Успокоил себя тем, что обязательно запишет на следующей неделе, когда мысль дозреет. Нашлись и причины, чтобы оправдать это раскачивание: нет, мол, условий для работы, а раз их нет, то о каком результате может идти речь. Однако на повседневную текучку не пенял. По-прежнему, словно магнитом, притягивали его вечеринки, веселые подружки. Как жук, катящий впереди себя слепленный катышек, он не мог ни на мгновение отвлечься от житейской суеты и своих давнишних привязанностей. С течением времени все то, что звучало в душе, выветрилось, исчезло без следа. Остались лишь какие-то бледные куски, похожие на выцветшие узоры полинявшей ткани. Да обида, что так и не сумел приблизиться к своей мечте.
Потом пришла к нему еще одна идея: образ засыпанного песками города, казалось, сам просился в симфонию “Аккум”. Он ничуть не сомневался, что такой богатый сюжет способен породить прекрасные мелодии. Найденный прежде музыкальный рефрен до сих пор волновал воображение. И он сам то и дело подбодрял себя словами: “Плюну-ка я на все на свете и засяду за симфонию!” Наученный прежним горьким опытом с “Половодьем”, Кенжебай знал, что история может повториться, и все же не приступил к работе. Снова не хватило сил. Мелодии, мотивы, звуки сопровождали его повсюду: на улице, в автобусе, в кино, ресторане, на лекциях, даже во сне, — но он-таки не взялся за дело, и они быстро исчезли. И вновь сожаление, еще одна непреходящая боль души.
Позже он устроился в музыкальную редакцию на радио. И здесь его не хватило ни на что другое, кроме веселого времяпрепровождения. Появилась, правда, новая особенность: теперь уже творческое вдохновение посещало его после ста пятидесяти — двухсот граммов спиртного. Именно тогда начинали звучать в ушах удивительно красивые мелодии, и ему казалось, что он переживает настоящее волнение. Его переполняли гордость, радость, вера в свой талант. И все это продолжалось до утра. А назавтра Кенжебай обнаруживал, что пленившие его мотивы — самая настоящая бездарщина. И он ломал голову, пытаясь понять, куда делись услышанные ночью образы и музыкальные видения...
Постепенно к нему стало приходить прозрение. И однажды он понял, что безвозвратно погубил свой талант...
Охваченному невеселыми мыслями Кенжебаю наконец стала ясна горькая правда, отчего, не продержавшись и четырех лет, канули в небытие его “знаменитые” песни.
“Во-первых, твои песни нравились не всем. Охочей до них была только молодежь, да и то лишь та ее часть, что не могла похвалиться отменным вкусом. Что касается их звучания в эфире, то опять же исполнялись они по просьбе тех же самых неразборчивых слушателей. Если вдуматься, твой “Полет орла” не что иное, как слепое подражание тогдашним бодреньким мотивчикам, а ты сам, думая в первую очередь о том, чтобы песня была ходовой, опошлил святую тему, воспевающую смелость и стойкость. Спешил выбиться в композиторы: скорее, скорее!.. А ведь для создания стоящего произведения требовались упорные поиски. На них у тебя не хватило ни пороху, ни терпения. Песня твоя способна привлечь лишь внимание праздной толпы, собравшейся повеселиться и не утруждающей себя серьезным отношением к музыке. Ведь и ты сам мечтал сверкнуть яркой звездой на небосклоне, завоевать признание у публики запоминающейся мелодией. Подняться высоко, подобно орлу, ты не смог — оказался всего-навсего чирикающим невпопад воробьем, забавляющим на вечеринках неискушенных слушателей. И “Печальная девушка” — тоже плод твоей предприимчивости. Печаль чистой души, обманутой в своих чувствах, растрогает кого угодно — ты знал об этом и воспользовался этим знанием для достижения своих корыстных целей. Но и эта песня просуществовала недолго...”
Слезы навернулись на глаза, и он долго лежал неподвижно.
Правда, вначале он догадывался, что людские восторги — явление временное. Но шли месяцы, годы, стирались грани между самой выпивкой и лечением больной головы с похмелья. Под конец сознание замутилось настолько, что возгласы одобрения начали казаться истинной данью его таланту. Сами “болельщики” подталкивали Кенжебая к подобному выводу. Даже потом, когда стало ясно, что его творческие возможности достигли предела, он продолжал хвататься за эту мысль, как утопающий за соломинку. Душа его настойчиво требовала почестей — заслуженных или незаслуженных, неважно. Кенжебаю удобно было жить в привычной обстановке, когда все расхваливали его, похлопывали по плечу, глядели влюбленно и восторженно. По всему видно, он привык быть кумиром того небольшого мирка, в котором вращался...
“Эх, до чего же жаль убитого впустую времени! Напрасно растраченной жизни! Оказывается, Нурлытай не зря говорила: “Мне очень хочется, чтобы вы не довольствовались только одним званием музыканта, чтобы на своем поприще трудились не хуже других!” Да разве я был способен воспринять ее добрый совет! Все, кто еще вчера плелся в хвосте, сегодня обогнали меня. Все они посмеиваются надо мной... — Кенжебай, приподнявшись, сел на тахте. — Ладно, будет тебе!.. Что толку убиваться понапрасну! Нужно иметь мужество, чтобы ответить за совершенные ошибки. Тебе только двадцать восемь. Жизнь, ее большая часть, еще впереди. Наберись упорства, учись, думай, работай! Начни все сначала!..”
Он спустил ноги с тахты, встал и с удивлением посмотрел на окрестности, освещенные бледным светом поднявшейся высоко луны. И тут ему в голову пришла счастливая мысль.
Один из двух привезенных сюда чемоданов был до отказа набит книгами по музыке и пластинками. Из классиков более других его потрясал Бетховен. Когда на душе было пасмурно и стыло, Кенжебай любил слушать его Пятую симфонию, обладающую удивительным свойством заживлять самые глубокие раны. Волшебная мелодия развивалась столь впечатляюще, что невольно заставляла вслушиваться все больше и больше, помогала отрешиться от горечи и печалей обыденной жизни, уносила в иной, необыкновенный и неизведанный мир. Она давала понять тебе, что такое настоящая радость, которую невозможно представить даже в самой удивительной мечте, помогала познать пронзительную боль, похожую на крик души. И она же потом возвращала тебя в твой мир окрыленным, заново переродившимся человеком... Ему захотелось услышать эти звуки сию же минуту.
Кенжебай вошел в дом, щелкая по пути каждым выключателем. Потом включил радиолу, поставил пластинку, послушал, как зашипела игла на краешке диска. Поспешно вышел обратно, настежь отворив все двери. Ничком упал на тахту и, когда доносящиеся из дома звуки проникли в сознание, закрыл глаза. Музыка звала его за собой, уносила в безоблачный мир...
6
На другой день, решив побывать на вершине Есенаман, Кенжебай перешел на другой берег Калдыгайты и направился в сторону Мессая.
Сколько же лет не был он в этих местах, оттого, видать, и смотрел вокруг с удивлением. Перебегали дорогу трусливые ящерицы. Тут и там взлетали и опускались в траву кузнечики. Работающие без продыху муравьи не обращали никакого внимания на тех, кто проходил мимо их жилища. И все это навевало воспоминания о словно бы оставшихся за горизонтом веселых и счастливых днях детства, трогало лирические струнки души.
Мессай в этом месте был довольно глубоким оврагом, надвое рассекающим пологий холм и направляющимся в сторону Егиндикуля. Ближе к селу он постепенно становился менее глубоким, пока наконец не сливался с ровной земной поверхностью. Овраг этот был настоящей Меккой для телят и подрастающих телок. Как на подбор, здесь росли самые сочные травы. Самый вид их, не говоря уж о пестрой окраске, покорял всех с первого взгляда, а пьянящий аромат уплывал далеко за пределы оврага. В свое время Кенжебаю со сверстниками не раз приходилось под стрекотанье сверчка и чириканье воробьев бродить по зарослям таволги в поисках потерявшихся телок. Зато найдя их, они вознаграждали себя за труды, катаясь на животных верхом. Телки, выросшие на отборном разнотравье Мессая, поначалу пытались сбросить седоков на землю, но потом смирялись со своей участью и покорно везли мальчиков домой...
На той стороне холма, где находилось село, когда-то бывало тесно от стоявших бесчисленными шеренгами стогов сена. Они смахивали на шатры стойбища древнего воинственного племени. Трехостица, ковыль, пырей и полынь стояли стеной. Через каждые сто шагов высился стог. И они, восьмиклассники, немало поставили их своими руками. А сейчас ничего этого нет. Только редкие островки невысоких трав и большие проплешины между ними.
А какой интересной была тогда Калампыр! Работала не зная устали. Смуглое лицо, бывало, совсем потемнеет от пота, а ей хоть бы что. Кенжебай то и дело поглядывал на нее. Как она смеялась, как разговаривала, как, откинув за спину косу, захватывала вилами сено и выпрямлялась гибко, точно тетива, закидывая его наверх, — все это осталось в памяти. Кенжебаю приходилось соблюдать меры предосторожности, чтобы другие мальчики не заметили его частых взглядов в сторону Калампыр. Временами он даже напускал на себя равнодушный вид, но выдерживал недолго, словно какая-то сила заставляла его оглядываться и прислушиваться к каждому слову, доносившемуся оттуда...
Как-то однажды ему выпала удача — Калампыр сидела одна под стогом и расчесывала волосы. Она глянула на него краешком глаза и, сидя боком к нему, с зажатой в зубах заколкой, принялась заплетать косу.
Кенжебай опустился рядом на колени.
— Что ты тут сидишь? — спросил он дрожащим голосом.
— Ничего, так просто, — отозвалась Калампыр, не изменив при этом своей позы.
— А домой ты не думаешь возвращаться?
— Сейчас пойду.
Кенжебай замялся. Потом, стараясь казаться спокойным, спросил:
— Хочешь, я тебе что-то скажу?
Девочка удивленно посмотрела на него:
— Говори.
— Если и скажу, то только на ушко.
— Нет, говори вслух. Ну, что скажешь?
У Кенжебая участилось дыхание, ошалело забилось сердце. Он уже и сам не понимал, что говорит.
— Честное слово, что-то очень интересное, — при этих словах он покраснел. — Только ты не бойся. Одна секунда... Шепну на ухо и уйду.
— И что же ты шепнешь? — полюбопытствовала девочка.
— Вот сама и услышишь... Правда-правда, очень интересное...
— Ну, говори. Быстрее! — Калампыр, пододвинувшись, подставила ухо.
И тогда Кенжебай, наклонившись, чмокнул ее в щеку, после чего стремительно вскочил на ноги. От возникшего внезапно вихря неизведанных ранее чувств закружилась голова. Вскочила и Калампыр. Стрельнув на Кенжебая глазами, гневно произнесла:
— Убирайся! — и побежала, огибая стог...
Кенжебай оставил позади себя поросшую молочаем золотистую равнину и вошел в Мессай. Продвигаясь по узкому руслу, по которому весной стекали талые воды, по самому дну оврага добрался до его середины. Да, участь Мессая тоже оказалась незавидной. Все тут было изъезжено гусеницами тракторов, истоптано и изгажено скотиной. Из многочисленных кустарников выжила одна таволга. Из трав — лишь низкорослая полынь да типчак. Глубокий овраг с высокими крутыми берегами, этот глухой уголок природы, поизносился, опустел.
Парень пошел дальше и вскоре миновал последний поворот. Здесь находилась одна наводящая ужас пещера, в которой, по преданию, некогда обитал беглец по имени Кулбатыр. Со стороны холма он неожиданно обнаружил спускающуюся вниз дорогу. Подойдя ближе, разобрался, что к чему. Дорога была проложена не зря: на месте бывшей пещеры зияла огромная яма, из которой, по-видимому, добывался известняк.
Кенжебай поднялся на холм. Его-то местные жители и называли горой Есенаман. Расположившаяся рядом сопка с сарматскими курганами и множество других ничем не примечательных возвышенностей тоже носили общее название Есенаман.
С вершины холма широкая и безбрежная равнина на востоке — творение могущественных сил природы — была видна как на ладони. Усевшись наверху, Кенжебай восторженно разглядывал разрисованную всевозможными красками панораму округи.
Вон там — граничащий на горизонте с синим небом Аккум с его светло-палевыми песками. Он похож на возникший из небытия сказочный город. Справа от него — тянущаяся до бесконечности золотистая степь. Еще правее переливается всеми оттенками зеленого роща Каратал. За нею — снова широкая степь, уходящая за горизонт, а там и зимовье Кызылжар. За Кызылжаром белеют гребни барханов и вдоль самой кромки песков вьется лентой серпантина Калдыгайты, огибая островки густого тальника и тростника. На левом ее берегу — Жашитал, на правом — Каракуга. Утопая в голубом мареве, они кажутся бесконечно струящимися и, наверно, потому особенно приятны для глаза.
Кенжебай никак не мог налюбоваться открывшейся картиной. С самого детства мечтал он пешком пересечь эту гигантскую золотистую степь. Однако уехал в город и стал там вроде цепного пса на привязи. И вот теперь его мечте, кажется, суждено осуществиться. Позавчера сходил на Калдыгайты, вчера — в Аккум. Завтра отправится в Жашитал, а потом доберется и до Кызылжара.
Всем этим он собирался любоваться вместе с Нурлытай. Будучи в Алма-Ате, то и дело повторял: “Как приедем на родину, свожу тебя на гору Есенаман, покажу такие чудеса, что посмотришь — дух захватывает...”
“Друг без друга жить не могли. Думали, одна только смерть разведет нас. И вот она — глубокая пропасть отчуждения... Эх, зря, видать, согласились пойти на тот свадебный вечер!” — вздохнул про себя Кенжебай.
Вспоминая о том, что произошло на свадьбе, устроенной в кафе “Ромашка”, он стал медленно спускаться с холма.
Вначале все шло как обычно. Неприятности начались позже, в самый разгар веселья.
Именно в такие моменты Кенжебай и сам входил в раж. Если раньше, в молодости, хорошее настроение возникало при одном только виде собравшейся повеселиться компании, то теперь для поднятия его требовалась определенная доза спиртного. Прежняя приподнятость сменилась нервной возбужденностью. Ну, а по ходу, как и всегда, он легко находил друзей, затевал бесконечные застольные разговоры.
Следуя своей традиции, Кенжебай и на этот раз решил отпустить вожжи. Сидевший по соседству с ним парень с челкой, без конца падающей на глаза, оказался под стать ему. Они быстро разговорились. Причем увлеклись настолько, что даже покурить на улицу вышли вместе. Нурлытай осталась в свите подружек невесты.
Тамада в зале объявил перерыв, и все встали из-за столов. Настало время музыке, песням, различным забавам. Провели несколько коллективных игр, послушали сольные выступления и перешли к танцам. Кенжебай не собирался возвращаться. Он по-прежнему увлеченно беседовал с новым знакомым, покуривая одну сигарету за другой. Но вдруг он замолчал. Бросив случайный взгляд в окно, увидел, что Нурлытай танцует с каким-то смуглолицым парнем. Через несколько мгновений он взял себя в руки и возобновил прерванный разговор, повернувшись лицом к собеседнику. Однако то и дело оборачивался, чтобы еще раз посмотреть в окно: ждал с нетерпением завершения танца. Но как только бестолково-шумная мелодия оборвалась, тут же зазвучала другая, собравшаяся было сесть толпа снова ринулась на середину.
Обеспокоенный Кенжебай на миг вновь забыл о своем собеседнике. В голове вертелась только одна мысль: “Интересно, как поступит теперь Нурлытай?” Его внимание было целиком поглощено происходящим в зале. И вдруг, когда в глазах совсем потемнело от пристального и долгого вглядывания, он заметил в окне знакомый силуэт. Шагнув поближе, увидел Нурлытай. Она опять танцевала. И не с кем-нибудь, а все с тем же смуглым парнем, с лица которого не сползала улыбка.
Медленно отступив назад, Кенжебай повернулся к своему собеседнику, оборвавшему фразу на полуслове. Кивнул ему в знак того, что готов слушать дальше. Прерванная беседа возобновилась.
Теперь он уже старался не оглядываться. Вскоре танец завершился, и, видимо, началась какая-то игра: зазвучал бодрый и увлеченный голос тамады. В Кенжебае же росло глухое раздражение.
Была у него и еще одна привычка: в состоянии возбуждения ему ничего не стоило резко оборвать живо протекавший до этого разговор и ни с того ни с сего послать собеседника к черту. В такие моменты он просто переставал понимать, о чем идет речь. Судя по всему, именно такая минута приближалась и теперь. Парень с челкой полностью взял инициативу в свои руки и говорил без умолку. Сам придавал речам нужное направление, сам отыскивал новую тему. А Кенжебай время от времени или бессмысленно кивал, или отрицательно качал головой. Ждал подходящего момента, чтобы избавиться от назойливого болтуна.
Зазвучала какая-то плавная мелодия, и Кенжебай вздрогнул от неожиданности. Ансамбль играл “Печальную девушку”. Ее давно не исполняли на вечерах, да и сам он давно не слышал ее. “Кому это пришло в голову?..” — подумал он и глянул в окно. Перед его глазами снова оказалась Нурлытай, танцующая с тем смуглолицым.
— Зайдем-ка, — неожиданно предложил он собеседнику.
Шел с одной мыслью: вырвать Нурлытай из чужих объятий и двинуть наглецу кулаком под дых. Ни о чем другом и думать не хотел. Однако, едва успев войти, натолкнулся на жениха с невестой. Невеста, приветливо улыбаясь, взяла его под руку, а жених подозвал тамаду и зашептал ему что-то. Тамада жестом остановил ансамбль и, глядя на столпившихся гостей, с восторгом в голосе объявил:
— Знакомьтесь: перед вами автор исполняемой песни, близкий друг жениха и невесты, талантливый композитор Кенжебай Рамазанов!
Раздались бурные аплодисменты. Услышав имя мужа, подбежала Нурлытай и, с умилением глядя на него, радостно улыбнулась. Однако сам Кенжебай не спешил радоваться. Всеобщее внимание и шумиха, вызванная громогласным представлением, ничуть не тронули его. К этому времени он уже достаточно хорошо понимал, чего стоят скоропалительные оценки тех, кто с легкостью раздаривал направо и налево высокое звание композитора. Не меняя мрачного выражения лица, он слегка поклонился. Но этих нескольких минут хватило для того, чтобы он понял: затевать скандал после подобного чествования неуместно. Да и того смуглолицего, сколько ни глядел по сторонам, так и не увидел. Бросив на Нурлытай холодно-отчужденный взгляд, он прошел на свое место. Здесь уже поджидал его парень с длинной челкой, живо принявшийся разливать водку в рюмки.
— Мне в фужер, — сказал ему Кенжебай.
Парень посмеялся и исполнил его просьбу. Сдвинули посудины, дружно выпили. Засмущавшиеся жены отвернулись.
— Ты идешь домой или остаешься? — спросил Кенжебай у Нурлытай.
— Как это — остаешься? — опешила она.
— Откуда мне знать! Может, ты хочешь остаться...
— Ну о чем ты говоришь! Наверно, выпил лишку. Тогда лучше нам идти домой, — предложила Нурлытай.
— Если не хочешь, оставайся. Потанцуй еще. Придешь, когда все закончится, — процедил сквозь зубы Кенжебай.
Не желая доводить дело до выяснения отношений на людях, Нурлытай взяла Кенжебая под руку. Они распрощались с молодыми и вышли на улицу.
В такси не обмолвились ни словом. Кенжебай готов был лопнуть от злости, но сдерживался, храня угрюмое молчание. Нурлытай тоже хмурила брови и поглядывала в окошко такси, петляющего по темным улицам.
В ушах Кенжебая продолжала звучать громкая ритмичная музыка. Перед глазами мелькали ноги, передвигающиеся в быстром темпе, — танцевали Нурлытай и тот длинноногий смуглый парень. Не было в нем ничего особенного, что могло бы привлечь взгляд. Похож на вырубленную из темного дерева жердину. Всего-то и достоинств, что улыбается беспрестанно. Но и эту улыбку вряд ли кто назовет привлекательной. Она была словно приклеена к лицу. И нескладность ее — признак того, что человек этот улыбаться, в общем-то, не привык. Может, этому бедолаге ни разу в жизни не приходилось испытывать радости, вот он и разулыбался вовсю, танцуя с Нурлытай?
Но как в таком случае объяснить поведение самой Нурлытай? Или решила, что муж, выйдя на улицу, ничего не увидит? Если с этих пор жена начинает выделывать за его спиной такие вещи, то она есть самая настоящая... И все же, какая причина заставила ее трижды танцевать с этим типом? Впрочем, будь он даже писаным красавцем, имеет ли она право забывать хоть на миг о своем муже, человеке, которого выбрала на всю жизнь? Неужели у нее хватило духу втоптать в грязь его честь и достоинство? С какой стати она без конца вертелась с этим проходимцем, принимая его приглашения, безропотно, словно непотребная девка, готовая упасть в объятия, стоит лишь улыбнуться ей, поманить пальцем?
Или же... этот длинноногий противен только ему, а ей — нет? Вполне может быть... Сколько раз, видя в кино или на обложках иллюстрированных журналов улыбчивых, по-весеннему прекрасных девушек, он восклицал невольно: “Вот это красавица! Само обаяние, сама нежность!” А Нурлытай спокойно, без всякой зависти отвечала короткой фразой: “Ничего особенного”. И он тогда удивлялся: кто знает, может, тут кроется какой-то секрет? Точно так же и женщины по-своему оценивают мужчин?
Или же... сравнив его с другими мужчинами, Нурлытай пришла к выводу, что он во многом уступает им? Мирится только потому, что вышла замуж? Да и разница в возрасте между ними немалая — шесть лет... Как-то за пивом Ергожа заметил: “Женщин понять вообще трудно”. Потом, продолжая свою мысль, добавил: “Особенно удивительно то, как некоторые девушки выбирают себе мужей. Посмотришь на нее — само совершенство. Посмотришь на спутника — невзрачный, противный, уродливый тип. Ты и сам мужчина, но тут даже мужская солидарность не поможет. А вот жена глядит на него преданно и влюбленно, будто околдовали ее. И не догадывается, что это туман страсти застилает ей глаза и искажает все. Рассеется туман — и настанет пора биться головой об стенку”. Эти слова друга Кенжебай еще не забыл. А вспомнив нынче, чуть не лопнул от досады: смеяться над другими горазд, но что, если сам он такой же вот “уродливый тип”?! Но, поразмыслив, решил, что эти опасения ни на чем не основаны. И вновь в нем закипела злоба.
В это время такси выехало на их улицу. Нурлытай потянула его за руку и, улыбнувшись, неожиданно сказала:
— Сядь поближе. Моя обида прошла.
Когда выходили из кафе, Кенжебай, остановив такси, первым сел на заднее сиденье, словно этим хотел сказать Нурлытай: “А ты поступай как знаешь. Можешь и совсем остаться”. Теперь сказанные женой слова он истолковал по-своему: если пытается задобрить — значит, чувствует за собой вину. И потому не смягчился.
— Зато моя обида не прошла, — глухо проговорил он. — Ну да ничего, разберемся.
Дома Кенжебай взялся за дело круто:
— У тебя нет ни капли совести, — начал он.
— О чем ты? — удивилась Нурлытай. И тут же вздрогнула, почувствовав, как тучи над ее головой сгущаются.
— Да все о том же, — уклончиво отозвался Кенжебай.
— Не поняла, — пожала плечами Нурлытай.
— Не поняла, да? Как танцевать, обниматься с чужим мужчиной, улыбаться ему — это тебе понятно. А того, что стыда у тебя нет ни капли, — не понимаешь? Интересно получается.
Разговор становился все более напряженным. Этому в значительной мере способствовало красноречие Кенжебая. Из его уст, как из рога изобилия, сыпались неожиданные сравнения и метафоры, не говоря уже об иронии. И разве с ним, человеком творческого склада, могла соперничать Нурлытай — скромный бухгалтерский работник? Растерявшись вконец, она заплакала, потом стала убеждать мужа, что он пьян и лучше перенести разговор на другое время. Но муж упрямо стоял на своем. Требовал ответа сегодня, сейчас, сию же минуту.
— Ни с кем я не обнималась. Приглашал — я отказывалась; он настаивал, потому и пошла. Это правда. Самого-то его я и знать не знаю, — проговорила сквозь слезы Нурлытай.
— Вот-вот, в этом вся суть и есть. Был бы он мне другом, товарищем, куда б ни шло. Я бы тогда и возражать не стал. А может, он тебе приглянулся, а? — У перебравшего на свадьбе Кенжебая глаза налились кровью.
— И вовсе не приглянулся. Танцевала с ним потому, что приглашал настойчиво. И во второй раз тоже долго уговаривал.
— Ну и что, если уговаривал? Так и будешь танцевать со всеми, кто уговаривать станет?
— Нет. Но он так просил...
— Ладно, пошла два раза — черт с ним. Но почему ты согласилась и в третий раз?! Если б он тебе не нравился, наверняка бы отказала. Хоть это-то ты объяснить можешь?
— Да я вовсе не хотела. Но он не уходил, все приглашал и приглашал. Отказываюсь, а он не слушает. Потом я подумала: “Раз он пришел на свадьбу моей подруги, то неудобно отказывать ее гостю...”
— А почему ты о моей чести не подумала? Почему?! Если станешь уступать всем, кто улыбается тебе, какая же ты после этого верная жена? — напирал Кенжебай.
— Нет, это не так! Не так! Говоришь что попало! Как только язык поворачивается!.. — расплакалась Нурлытай.
— Ладно, допустим, ты права. Но если ты не забыла обо мне, почему же в последний раз танцевала опять с другим? Хорошая или плохая, но это ведь была моя песня! И танцевать под нее ты должна была только со мной. Понимаешь, только со мной! А ты?..
— Прости меня, Кенжебай! Я не догадалась сразу, что это твоя песня. Прости! Никогда не буду больше ни с кем танцевать, — воскликнула Нурлытай.
Кенжебай на секунду растерялся, но злоба снова овладела им.
— Нет, этого я тебе никогда не прощу! Мне нужна твоя верность и преданность не только буквальная. Это само собой разумеется. Сейчас я говорю о том, чтобы и в мыслях ты была чиста передо мною. Чтобы все твои помыслы были только обо мне! Чтобы ни на одного мужчину, кроме меня, ты не смела смотреть с теплотой! Нет, я не запрещаю тебе разговаривать, шутить, даже танцевать. Пожалуйста! Только смотреть на них с теплотой не смей! Но ты, вижу, этого не понимаешь. Вот уже во второй раз не понимаешь... И зачем мне нужна такая жена?! Разведусь, и делу конец! Тогда мне будет все равно: иди куда хочешь, танцуй с кем хочешь. Кончено! — сказал он и замолчал.
Затем улегся спать на полу, отдельно от Нурлытай. Помирились спустя несколько дней...
Шагая в сторону Жашитала, Кенжебай вспомнил, что в чемодане наверняка лежит письмо, написанное Нурлытай после того, как конфликт, зародившийся на той злополучной свадьбе, был исчерпан. Выпало ему вскоре отправиться в командировку в Джезказганскую область за материалом о сельской самодеятельности. Уезжая, без конца извинялся: “Давай забудем все плохое, что случилось. И напиши мне письмо до востребования”. И вот теперь это письмо словно возникло перед глазами, и Кенжебаю стали противны свои давнишние слова и поступки.
“Кенжебай, милый мой! — обращалась к нему Нурлытай. — Сейчас поздний вечер. Закончив дела по дому, села за письмо. Только вот не знаю, о чем писать. С нетерпением жду твоего скорого и благополучного возвращения.
Ну что сказать... Обидного и неприятного я услышала от тебя много. Но мы же договорились больше не вспоминать об этом, так ведь? Значит, незачем повторять то, что было. Я и сама не хочу думать о случившемся. Стоит лишь вспомнить, и на душе становится неспокойно. Ты обвинил меня, но ведь за мной нет никакой вины. Говорил: “Дай слово, что с сегодняшнего дня ты будешь честной”. А мне обидно до слез. Да, многое было сказано. И ни к чему, еще раз повторяю, ворошить старое.
Когда твой самолет взлетел, я пошла на автобусную остановку. Села на третий маршрут. На главпочте узнала насчет посылки из дома. Задерживается в дороге. Но я успокоила себя тем, что до Нового года она обязательно придет.
Потом приехала домой, стала стирать. Кстати, зачем ты засунул свои теплые носки под матрац? Если бы повесил на спинку стула, то не забыл бы... После стирки и ужина села писать тебе письмо.
Дорогой мой, хочу сказать вот о чем. Давай не обижать друг друга. Когда возникает ссора, начисто вылетают из головы все прежние мысли. А я ведь всегда старалась быть к тебе внимательной, чтобы не обидеть ненароком.
Я тебя прошу, умоляю — не произноси никогда слов, оскорбляющих мое достоинство! Не приписывай мне того, о чем я даже во сне не помышляю! Не попрекай меня без всякой на то причины. Милый мой Кенжебай! Возможно, твоя жестокость объясняется твоей любовью ко мне. Но пойми же, ревность не принесет нам счастья. Постарайся понять. Ведь мы оба хотим дружной, безоблачной жизни, верно?
И где бы ты ни был, будь спокоен за меня. Если со времени нашей встречи до свадьбы я была чиста перед тобой, была только твоей Нурлытай, то теперь, когда у нас семья, когда я переступила порог новой жизни, мне хочется уверить тебя в том, что буду верна тебе до конца.
И, пожалуйста, перестань подозревать. Кому от этого хорошо? Заканчивая письмо, еще раз хочу попросить тебя: давай не обижать друг друга.
С горячим приветом — твоя Нурлытай, ждущая твоего благополучного возвращения. 12.ХІІ.77 г.”.
“Каким же подлецом я был! — пробормотал Кенжебай. — До смерти обидел ни в чем не повинную душу”.
Нурлытай невдомек, что когда-то, будучи гостем на свадьбе, он тоже пригласил девушку на танец. И танцевал с ней не один, не два, а целых пять раз!
Ее звали Каншаим. Познакомился с ней, когда устроился на радио. Каншаим, выпускница музыкального факультета ЖенПИ, работала звукооператором в редакции “Сельской жизни”.
Впервые увидев светлолицую сотрудницу с распущенными волосами, он сразу подумал, что на такой, как она, можно жениться. Это была вторая после Орик девушка, которая навела его на подобную мысль. Они дружили около четырех месяцев. А потом он узнал...
У Каншаим было больное сердце. Однажды ночью ей стало плохо... Кенжебай перепугался. Не знал — вызвать ли врача, попросить ли помощи у соседей. Лишь беспомощно прислушивался к биению ее сердца, щупал пульс. “В таких случаях, — сказала пришедшая в себя Каншаим, — мать всегда мне терла ладонь”. Спустя некоторое время сердечный приступ повторился, и Кенжебаю сделалось по-настоящему страшно. Под разными предлогами он стал избегать встреч. В конце концов собрался с духом и подошел к ней для окончательного объяснения. Холодно поздоровавшись, сообщил, что познакомился с другой девушкой и намерен на ней жениться. Глаза Каншаим наполнились слезами, она, как бы не веря услышанному, качала головой. И была права: историю нового знакомства и предстоящей женитьбы Кенжебай выдумал, чтобы Каншаим не питала на него никаких надежд.
Месяц спустя она уехала к себе на родину. Устроилась работать в Кокчетаве, на областном радио.
Нурлытай невдомек, что чуть позже на его адрес прибыл пакет. В нем лежала небольшая, в красной обложке тетрадь, наполовину исписанная разными чернилами. Она оказалась дневником Каншаим. Сейчас этот дневник лежал в черном чемодане вместе с другими письмами....
Вернувшись на зимовку и умывшись холодной водой, Кенжебай извлек красную тетрадь и стал перечитывать.
“20 ноября 1973 года. Ты меняешься на глазах, Кенжебай. Меня совсем не привлекает ни твоя должность, ни твоя слава. И радушно предлагаемого вина мне тоже не надо. Мне нужна твоя искренность. Я тоскую по твоим чистым чувствам, которые ты питал когда-то ко мне. Чем больше проходит времени со дня нашего знакомства, тем заметней натянутость в наших отношениях. Но как бы там ни было, лучше видеть твое естественное лицо, чем обманываться искусной ложью.
27 ноября. Познакомилась на днях с парнем, порядочным грубияном. Или он ведет себя так на правах моего земляка? Его смеющиеся маслянистые глаза с хитрецой и гладкое лицо до того противны мне, что, если бы хватило сил, разорвала бы, думается, в клочья. Видно, порядком избаловало его женское общество, раз чувствует себя настолько вольготно.
Смотрю на него и удивляюсь: вкус у него такой, что можно сказать, будто и нет вовсе. Кругозор узкий. Такого, как он, и понимать не хочу. И не буду пытаться.
18 декабря. Милый мой Кенжебай! Время отдаляет нас друг от друга, меняет наши чувства. Как подумаю об этом, слезы наворачиваются на глаза.
Пусть ты неузнаваемо изменился, но твой прежний образ хранится в моем сердце чистым и незапятнанным. Вспоминаю о нем в трудные минуты. И тогда тяжелые мысли разлетаются в стороны и исчезают. А ведь ты и не знаешь, как ты мне сейчас нужен...
20 декабря. Мой земляк называет себя романтиком, геологом. На самом деле он просто тупица. Иначе бы не злился так, не говорил бы: “Еще никто в жизни не обижал меня больше, чем ты”. Ха-ха! Мне только и остается что смеяться. Тебе ли, думаю, дано завоевать мое сердце. Да ты не стоишь и ногтя Кенжебая! Поэтому, чтобы не терять времени даром, не стану приучать тебя к себе.
А вот сердился он вовсе зря. Только слабость свою выказал. Ну да, видно, уж так я устроена: мужчин со слабинкой в характере перестаю уважать, а уж о любви к ним и говорить нечего.
25 декабря. Мне кажется, что любовь — не твое призвание, “романтик”! Но как бы я ни старалась вытравить тебя из своего сознания, сколько бы ни убеждала себя, что ни тебя, ни даже имени твоего не существует на свете, все впустую. Почему ты не оставишь меня в покое? Зачем ты смотришь в мои глаза так загадочно, если твои не горят огнем любви?..
7 января 1974 года. Я окончательно потеряла себя. Осталась одна тень. Моя бедная тень, которая пытается делать то, что когда-то делала ее хозяйка. Но какая жизнь может быть у тени? Небо затянуто облаками — значит, конец всему.
А какие прекрасные были дни! Да, видно, им не дано возвратиться. Отчего я родилась такой несчастливой? И как только земля терпит таких людей, как я, как не надоест ей носить их?
12 января. Сейчас свадебное веселье, должно быть, в разгаре. Одни довольны тем, что на столах вдоволь выпивки, другие тем, что сидящие по соседству парни улыбаются им. И никто не замечает, как быстро летит время. Ты тоже, наверно, уже навеселе и теперь с довольным видом оглядываешься по сторонам. Наверняка уже звучали твои песни — “Полет орла” и “Печальная девушка”, и настроение у тебя от этого приподнятое.
Не жалею, что не пошла. Покой моего сердца, моей души дороже любого веселья.
23 января. Сегодня был какой-то на удивление бестолковый день. И вообще, на многие вещи мы смотрим пренебрежительно. А ведь в жизни не бывает мелочей. То, что мы называем мелочами, если хорошенько разобраться, и есть составные части нашей жизни... Немного развеялась только после того, как Сауле и Уштап пригласили меня в кино.
10 февраля. Часто вижу тебя с одной быстроглазой смуглой девушкой. Признаться, мне жаль отдавать тебя ей...
Не знаю, что делать. Все больше перестаю понимать себя. Когда-то думала, что ты станешь спутником моей жизни. Мечтала об этом. Но сейчас от тебя веет таким холодом. И откуда он только взялся?..
Раньше я была гордой, ни перед кем не склоняла головы. С тех пор как встретилась с тобой, совершенно изменилась. И все же не хочу притворяться, казаться другой в твоих глазах, добиваться своего обманом. Я люблю тебя. И ни от кого не скрываю этого. Но бегать за тобой, униженно предлагать себя не собираюсь. Кто-то справедливо сказал однажды: если есть в груди огонек — из него возгорится пламя, а нет — что поделаешь, не судьба.
13 февраля. Сегодня по радио слушала твой очерк о творчестве Бетховена. С начала и до конца передачи сидела неподвижно. Твой вкус, твои знания поразительны. Этого, конечно, я никогда не осмелилась бы сказать тебе лично. Ты бы понял мою похвалу по-своему.
18 февраля. Хотелось тебя проводить, но из моего намерения ничего не получилось. Увидела твою записку на рабочем столе. Так было жаль!.. Будто вся моя душа опустела. Даже позабыла о том, что дома ждут меня Сауле и Уштап. В Москву, на целый месяц!.. Оказывается, я рада была и тому, что вижу тебя ежедневно на работе. Как я теперь выдержу целый месяц?!
Эх, Сауле, какая ты смешная! Осыпала меня вопросами, просишь познакомить тебя с моим парнем-геологом. Только разбередила лишний раз незаживающую рану на сердце. Зачем мне нужны другие? Совсем ты не знаешь о том, что Кенжебая я не променяю ни на кого на свете. Что он и есть мой внутренний мир, все мои мысли, все мое существо. Не знаешь и того, что я отдала ему самое дорогое, ему одному предназначенное...
20 февраля. Стоит мне только увидеть этого парня, моего земляка, волосы на голове встают дыбом, мороз по коже пробегает. Какой хвастун! Какой карьерист! Эх, глупец, откуда ему знать, что нищета его души видна невооруженным глазом! И это несмотря на то, что ходит он так, будто плечами подпирает небо.
Пыжится говорить от имени всех. Но кто бы ему доверился!.. А он еще и других критикует. Когда вижу таких, с души воротит. Плачу и смеюсь, смеюсь и плачу. Одним словом, зло берет.
25 февраля. Эту фотографию подарил мне ты сам. Мне никогда не надоедает смотреть на нее. Сказать по правде, хочу стать твоим счастьем (смешно звучит, наверно). А разве легко подарить человеку счастье? Вот если бы не я, а ты стал моим счастьем...
Тот парень зовет меня на родину. Говорит, пожить бы с тобой лет десять, а там и умереть не жалко. А я... Мои глаза никого, кроме тебя, не замечают. А если и замечают, то смотрят вскользь. И я никакого чувства при этом не испытываю. Что было бы, если б все любили так, как я? Но наши с тобой отношения по-прежнему туманны.
Иногда мне хочется подойти к тебе и выложить начистоту все, что мучает меня. Однако разве могу не посчитаться я со своей изначальной гордостью? Всю жизнь буду ждать тебя безмолвно. Не питая никаких надежд. Какое это мучение — ждать безмолвно и безнадежно целую вечность! Как чрезмерно тяжела подобная участь! Но понять меня могут только те, кто умеет любить по-настоящему. А таким парням, как мой земляк, не хочу приносить в жертву свои чувства. Не только чувств — простых слов для него жалко. Мне кажется преступлением любить тебя и улыбаться другим...
14 марта. Устала так, что едва притащилась домой. Сидела и думала о тебе. Гадала, когда вернешься. И тут кто-то постучал в дверь. Рассердилась, что нарушили мой покой, вспугнули мои мысли. Открываю — стоишь ты!.. От неожиданности потеряла дар речи. Будто молнией меня ударило. Ведь только сейчас собиралась открыть дневник и поговорить с тобой на бумаге.
Боже мой, даже...
26 марта. От всех твоих слов веет загадочной неопределенностью, от улыбок — тоже. Что за наваждение такое?
Иногда боюсь самой себя... Наверно, потому, что много думаю о тебе. Не знаю, хорошо ли это? Бывает, с завистью смотрю на бесчувственных людей, не ведающих ни забот, ни горя. Легко таким жить на свете. Им хватает самых незначительных радостей повседневной жизни. А ты (это я говорю сама себе) все никак не можешь выбраться из пучины своих мрачных мыслей. Уж лучше бы захлебнуться и положить конец мучениям.
Прежняя жизнь часто кажется сном. Раньше я вполуха слушала слова влюбленных в меня парней, посмеивалась над ними. Ни на кого не обращала внимания и не заметила, как сама оказалась в их положении.
Отчего вознесла тебя на такую высоту — вот что меня удивляет и страшит. Хочется забиться в угол или вовсе исчезнуть. Если бы ты вел себя как другие, бегал бы, как они, по пятам, предлагая руку и сердце, я бы, наверно, и не полюбила тебя. Посмеивалась бы над тобой, как над другими. Потому что, сколько себя помню, всегда не любила пресмыкания парней перед девушками, их желания угодить во что бы то ни стало. В тебе же меня покорило то, что ты не похож на них.
10 апреля. Раз уж ты решил дружить с другими девушками, хотела бы, чтоб ты нашел себе подругу получше. А эта твоя смуглянка мне совсем не нравится. И держит себя развязно, да и чисто по-женски малопривлекательна. Не хочется видеть ее с тобой рядом. При встрече всегда стараюсь обойти издалека.
Но в последние дни, к своему сожалению, все чаще замечаю вас вместе. Вчера на улице показалось, будто сердце мое остановилось. В голове — туман, не могу понять, явь это или сон. Словно стала невесомой и лечу в какую-то бездну. Только через некоторое время почувствовала, что еще жива. Зато внутри все разрушено, раздроблено. Да, все прошло и ничего не вернуть. Осталось одно неясное видение. Видение... Но ведь и оно не дает мне покоя. В мыслях путаница, и пелена стоит перед глазами.
20 апреля. Одно знаю точно: ты не будешь счастливым, если женишься на ней. Она тебе не пара и никогда не сможет удовлетворить всех твоих требований. Вот увидишь...
Неужели я так и буду вздрагивать при случайных встречах с тобой? В такие моменты желаю, чтобы ты женился на ней как можно быстрее. Быть может, после этого мне станет легче.
Чтобы убить свою мечту, стараюсь мысленно представить вас вдвоем — тебя и ее. Придумываю различные сценки, ситуации. И сама не замечаю, как она исчезает, а остаешься только ты.
О боже, разве я думала, что найдется на свете еще кто-то, кто полюбит тебя. И в этом, наверно, тоже проявился мой эгоизм.
А что, если и она когда-нибудь заведет подобный дневник и станет записывать в него свои мысли?.. Нет, ничего подобного она делать не будет. Скорее всего воспользуется испытанным средством — начнет лить слезы в три ручья и говорить при этом: “Нет, без тебя я умру!” И это поможет ей...
Верю, что она влюблена в тебя. А в твою любовь к ней что-то не верится. Ведь ее любовь несоизмерима с моей. Я люблю тебя всем своим существом. Ты — смысл моей жизни, даже сама жизнь. Эх, никогда теперь ты не узнаешь об этом! Пусть так, но твой образ будет всегда стоять перед моими глазами. Твое место в моей душе никогда не займет другой. Благодаря тебе я вошла в чудесный и мудрый мир.
Странно, что иногда какая-то неведомая сила словно нашептывает мне: “Он любит тебя, любит!” Но разве сама я не знаю, что ты никогда не вернешься, что мы никогда не будем вместе? Но в иные дни я читаю в твоих глазах что-то такое, что дает повод верить в тот шепот неведомой силы. Или все это — самообман, вечный спутник надежды, помогающей человеку выжить? Людям ведь свойственно вводить себя в заблуждение. Наверно, они занимаются самоутешением из подспудного желания облегчить свои страдания.
Ты все обещаешь о чем-то сказать мне. Говоришь, рано или поздно скажу. О чем? О том, что любишь ее? Какой же ты жестокий, если заставляешь страдать человека, который любит тебя больше жизни!
23 апреля. Мучительно ходить рядом с человеком, пресмыкающимся перед тобой. Даже когда наши плечи случайно соприкасаются, чуть не лопаюсь от ревности. Вот ведь странная вещь — ревность к себе самой. Ужас! Непостижимо...
Задевает за живое, сердит то, что он делает попытки ласкать меня. Чем ходить с таким подобием мужчины, лучше убежать куда глаза глядят.
24 апреля. Увидела ту девушку. Как же трудно было на нее смотреть... И она не спускала с меня глаз. Разумеется, я знаю, что ты ничего не говорил ей обо мне. И все же не могу забыть ее пристального взгляда. Или это мне только показалось?
Исчезнуть бы скорее. Как можно скорее!..
28 апреля. Знаешь, как я ждала тебя вчера вечером! Даже подруг не пошла провожать. Боялась, ты придешь, а меня не будет. Так и ждала до глубокой ночи, пока не забылась во сне.
Глядя на себя, самой страшно становится. Уж и не знаю, на кого похожа. Осознаю это, а сделать ничего не могу.
5 мая. Почему я не пыталась узнать, что ты на самом деле думаешь обо мне? Наверно, во многих ситуациях я веду себя весьма самоуверенно. Оттого и не сомневалась, что нравлюсь тебе, что ты меня любишь. Прозрела после вчерашнего разговора. Оказывается, в последнее время я вызываю в тебе только жалость. А раз так, то нет на свете человека несчастнее меня! Лучше бы ты откровенно сказал, что я тебе разонравилась, вместо того чтобы говорить о своей жалости.
Ты был изрядно пьян. И когда говорил, то покачивался из стороны в сторону, не в силах твердо держаться на ногах.
После твоего ухода я вышла следом и пошла куда глаза глядят. Через некоторое время опомнилась, смотрю — стою у того самого тополя, где мы когда-то впервые встретились с тобой. Села на скамейку и долго плакала.
Сейчас меня мучают сомнения: любила ли я тебя всем сердцем? И вообще, способна ли я любить кого-нибудь по-настоящему? Ведь те, кто любит, не сидят, предаваясь горестям, а действуют, борются за свою любовь, добиваются своего. А я только и делала, что мечтала попусту.
Лишь теперь поняла, что девушки, да и вообще все женщины, должны быть умными и хитрыми. Должны уметь завлекать мужчин, очаровывать их своим обаянием... Понять-то поняла, но применить эти знания не смогла бы. Кажется, что предам свою светлую любовь к тебе, если решусь на хитрость.
И все-таки я ошиблась. Чистоту своих чувств сохранила ценой потери тебя.
И ничего уже не исправишь. Почему я не подумала раньше, что все может так получиться? Да, я хотела терпеливо ждать тебя. И вдруг поняла, как жестоко обманулась. Пусть, будет о чем жалеть всю оставшуюся жизнь.
10 мая. Что же такое происходит со мной? Откуда во мне эта жестокость? Сказать по правде, задела я, видимо, того парня за живое. Обидела смертельно...
Хотела, чтобы он поскорей потерял всякую надежду, перестал ухаживать за мной. И чтобы мнение его обо мне изменилось в худшую сторону. Не знала, какую причиню ему боль.
На его просьбу поговорить с ним ответила, что не могу. Дескать, когда вижу его, заболеваю — язык отнимается и с души воротит.
То была сущая правда. И все же, не отдавая себе в том отчета, обиду нанесла ему и впрямь смертельную. Поступила чересчур жестоко. Поняла, да поздно. Ничего не поделаешь — сердцу, как говорится, не прикажешь.
14 мая. Сама себя убеждаю настойчиво: “Он меня не любит”. И сама же не верю. Обманываю себя: “Выкинула я его из памяти” — и не могу забыть.
Сегодня твой день рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. И пусть песни твои достучатся до людских сердец.
17 мая. Хожу, погруженная в свои мысли, будто оглохла. Ничего не чувствую, не замечаю. И ничто меня не интересует.
Сейчас я о многом жалею. А когда вспоминаю о том сентябрьском вечере, хочется сквозь землю провалиться или сгореть синим пламенем...
21 мая. Разве во мне, бедняжке — да, именно бедняжке! — осталось хоть что-нибудь, что могло бы привлечь других? Да не осталось ничего.
И тот парень об этом не знает. Сегодня вот снова пришел.
Я жалела про себя, что оскорбила его, такого молодого. Как бы, думаю, и мне не испытать на себе его участь. Собиралась извиниться, но...
24 мая. Случайно столкнулась с тобой, выходя из фонотеки. Ты предложил: “Давай встретимся завтра перед Пушкинской библиотекой”. Гадаю: о чем ты собираешься сказать? Радоваться мне придется или плакать?
25 мая. Так вот каким ты оказался, Кенжебай! Все-таки я была о тебе лучшего мнения. Чувствовала, что произойдет что-то плохое... Эх! Ну что тут поделаешь! Выходит, предчувствие не обмануло меня...
18 июня 1974 года. 3 часа 10 минут утра. Все гляжу на твою фотографию. Спать даже не ложилась. Не хочется. Сегодня уезжаю домой. Сауле, Уштап, другие девчата и парни проводят меня.
Сейчас ты спишь. Нас разделяют дома, улицы, деревья. Но я слышу твое дыхание. Слышу сердцем, душой. Ах, Кенжебай, неужели мне всю жизнь придется думать о тебе? Неужели всем моим чувствам суждено быть погребенными во мне?
О многом жалею я. Но только не о том, что любила тебя. Не смогла стать тебе любимой — вот об этом жалею...
Прощай!
Фотографию твою увожу с собой. А этот дневник отправлю тебе утром по почте. Захочешь — прочтешь, не захочешь — выбросишь. На все твоя воля.
Каншаим”.
Кенжебай закрыл тетрадь и бросил рядом. Перед его мысленным взором стояла Каншаим с глазами, полными слез.
Об этой истории Нурлытай тоже ничего не знает. А что бы сказала, если б узнала?..
Мысли роем проносились в голове. Только поздно ночью сомкнул веки.
7
Уже стал погружаться в сон, как вдруг непонятный шум пробудил его. Подумал, что показалось спросонья. Но тут шум повторился, и Кенжебай вскочил с места.
Шум доносился из-за дома. Он побежал туда, завернул за угол и увидел, как из чердачных дверей, никогда, кстати, не закрываемых, отчаянно выпархивали голуби.
Все вокруг было залито молочным лунным светом... Кенжебай выждал несколько секунд, не спуская глаз с чердачных дверей. Вспугнутые голуби, с шумом ударяясь о косяк, натыкаясь на стены, пулей вылетали наружу. Одни тут же садились на ветки карагача, другие долго еще кружили в лунном небе.
Он сразу вспомнил о кошке: “Она! Это ее проделки! Наверняка та самая, что расправилась с красношейкой”. Не успела рассеяться возникшая в сознании дневная картина, как появилась кошка. Сверкая зелеными глазами, она спускалась с чердака, держа в зубах голубя.
— Кыш! Брось! — закричал, не помня себя от ярости, Кенжебай.
Кошка, не выпуская добычи, кинулась обратно, на чердак. Подхватив с земли попавшуюся под руку железяку, Кенжебай стал подниматься по лестнице. Другого выхода с чердака не было, кошка могла уйти только через дверь.
Он вошел и замер, теряясь в догадках: как найти разбойницу в полутемном, заваленном барахлом помещении? Подумывая о том, как бы не попасть впросак, когда кошка кинется со всех ног, Кенжебай, зорко поглядывая по сторонам, двинулся вперед. Покрытый плотным слоем пыли старинный сундучок, изношенный хомут, разбитая дуга... Добравшись до середины, он услышал доносившиеся из дальнего конца приглушенные звуки. Присмотрелся и увидел горевшие из-за какого-то предмета два зеленых глаза. Расстояние между ними было шагов шесть, не больше. Кенжебай запустил железякой. Та с громыханьем стукнулась обо что-то металлическое. Мимо него по самому краю чердака промчалась дикая кошка. Пока опомнился, она, добравшись до двери, прыгнула за порог. Только и увидел выбежавший следом Кенжебай, как та, по-прежнему с голубем в зубах, уходит в сторону сенного сарая. “Ну, злодейка!” — воскликнул он в бессильной ярости.
Спустился по лестнице вниз, поглядывая туда, где скрылась кошка. Значит, понравилось охотиться на беспечных голубей. Очень простой способ прокормиться: днем ловит их внизу, на месте кормежки, а ночью — на чердаке; в птичьей спальне. От свежей дичи да горячей кровушки она и стала, видать, такой упитанной.
“Ну погоди! Утром посмотрим. Ты за все получишь!” — погрозил Кенжебай. А утро было уже совсем близко.
8
Позавтракав на скорую руку, Кенжебай открыл дверь дома. В прошлый раз, когда мельком заглянул в чулан, заметил висевший на стене дробовик. Это была допотопная старая одностволка, появившаяся в доме не иначе как со дня его основания. По прикладу пролегла глубокая трещина, стянутая веревкой. “Ничего, главное, ствол цел!” — успокаивал себя Кенжебай. Вытер пыль, нашел на улице кусок жесткой проволоки, привязал к концу тряпку и, соорудив нечто вроде шомпола, аккуратно прочистил ствол. Потом прислонил ружье к стене. Отправился в прихожую, где в большом сундуке испокон веков хранились патроны и порох. Все оказалось на месте. Приготовил штук восемь патронов, одним из них зарядил дробовик, другие рассовал по карманам.
Первым делом он поднялся на чердак и внимательно осмотрел все его закоулки. Потыкал стволом ружья в ржавый капот машины, прислоненный к стене. Именно тут пряталась ночью кошка. Убедившись, что ее здесь нет, спустился вниз и зашел в коровник. Но кошки не было и там. Не оказалось ее и в сенном сарайчике. Осталась только кошара, расположенная дальше.
Дверь кошары была замотана проволокой. Он размотал проволоку и вошел внутрь, в полумрак; все здесь пропахло овечьим пометом.
Кенжебай сделал несколько шагов и остановился. “Ты смотри!..” Прямо перед ним, шагах в двадцати, сидели не одна, а целых три кошки. Одна расположилась на подоконнике небольшого окна. Две другие — внизу, на выступе. Все три — плотные, упитанные. “Так их тут не одна, а целых три...” — пробормотал Кенжебай, беря на мушку ту, что сидела на подоконнике. Окно было частично выбито, поэтому, опасаясь, как бы кошка не удрала через него, он поспешно выстрелил. Раздалось оглушительное эхо, и почти одновременно зазвенели посыпавшиеся осколки стекла. Кошка вылетела по ту сторону окна. Остальные две, насмерть перепуганные, отбежали в глубь кошары.
Кенжебай вынул расстрелянную гильзу и перезарядил ружье. Одна из оставшихся кошек пряталась за взрыхленной кучей мусора. Лежала, прижавшись к земле, и пристально следила за приближающимся Кенжебаем. Расстояние между ними сокращалось, но кошка продолжала лежать. Только глаза ее горели тревогой. Кенжебай взял животное на прицел и нажал на курок. Кошка подпрыгнула и опрокинулась на спину.
Заряжая дробовик третьим патроном, Кенжебай обнаружил последнюю разбойницу за наклонной подпоркой крыши. Когда он вскинул ствол, кошка, видно, понявшая, что нужно спасаться, стремительно стала перебегать на следующую подпорку. Но в это время прогремел выстрел, и, подбитая на лету, она рухнула на землю.
Так, потратив по патрону на каждую, он расправился со всеми тремя кошками. Последние две были выброшены за хвост туда же, куда свалилась первая, — наружу, через окно. После этого Кенжебай вновь закрутил дверь кошары проволокой и пошел к дому. Ружье повесил на прежнее место в чулане. Взял стоявшую в сенях лопату и вернулся к месту расправы. Поглядывая с отвращением на окровавленные трупы, принялся копать яму. Сбросил в нее кошек и закопал.
Придя домой, он помыл с мылом руки и с облегчением перевел дух. И все же отвратительная картина расстрела кошек не давала покоя. Все вокруг виделось в красном цвете. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, Кенжебай отправился в сарай, где лежала последняя из привезенных Сундетом бутылок водки. Налил чуть больше половины стакана и выпил. Забросив один шарик курта в рот, другой прихватив с собой, он вышел во двор и присел на край стоявшей в тени тахты. Спустя некоторое время противные, тягучие чувства исчезли. Потеплело на сердце, и в голове появились приятные мысли. Улыбаясь чему-то своему, он поднялся с места, решив отправиться в Жашитал.
9
Жашитал был настоящим царством ягод. Словно разноцветные лампочки на новогодней елке, висели на веточках низкорослых кустарников плоды. Радовала глаз своим видом крупная ежевика. Чернела черемуха, которую сколько ни ешь, но стоит только отойти в сторону и поглядеть на объеденные ветки, они кажутся нетронутыми. Всего тут было полно. Водились даже орешки. Да-да, самые настоящие земляные орешки, которые легко, с хрустом раскалываются на зубах, хотя кажутся на вид такими крепкими!
Сейчас Кенжебай шел по той тропе, по которой ходил когда-то за орешками и черным пасленом, за ежевикой и черемухой. И вот с каждым новым шагом оживали, казалось бы, забытые звуки — веселые реплики, смех. Громче всех смеется Калампыр...
После девятого класса их отправили на сакман, в каждую отару по три-четыре человека. Одна такая группа, и Калампыр в том числе, прибыла на зимовку отца Кенжебая, в Жашитал.
Однажды Калампыр выпала очередь пасти ягнят. Вечером, пригнав их в кошару, она недосчиталась одного ягненка. Видно, прилег где-то в тальнике и отстал. Калампыр, узнав об этом, побледнела и, развернувшись, побежала обратно в сторону рощи. Кенжебай бросился следом.
До рощи было километра два. Сначала Калампыр бежала, но потом, устав, пошла медленнее. Кенжебай стал настигать ее. Калампыр, почувствовав, что кто-то догоняет ее, остановилась и обернулась. В это время они были уже у края рощи. Девушка застыла на несколько мгновений, испуганно оглядываясь, потом, не входя в рощу, круто изменила направление и помчалась в другую сторону. Такое ее поведение озадачило Кенжебая. Наверно, решил он, она пасла ягнят не в роще. Калампыр же, будто обретя крылья, совсем оторвалась от него. Кенжебай начал уставать.
Девушка, петляя между редкими кустами тальника, уносилась все дальше. Только платье ее белело в сгущающихся сумерках. Кенжебай наконец-то понял, что она неспроста убегает от него. Обычно в этой стороне овец не пасли — здесь была территория других чабанов. Значит, она, по-своему истолковав то, что Кенжебай увязался следом, убегает в соседнюю зимовку, чтобы не попасться ему в руки. Вначале он побежал следом из желания помочь отыскать пропавшего ягненка. Теперь же, забыв о первоначальном решении и войдя в азарт, Кенжебай решил догнать Калампыр во что бы то ни стало.
На северной стороне рощи девушка перешла на шаг. Кенжебай тоже выдохся и почти плелся следом. И хотя разделяли их сейчас какие-нибудь сорок — пятьдесят метров, силы истощились настолько, что каждый новый шаг стоил ему невероятных усилий. “Калампыр, остановись, пожалуйста! Не бойся! Я тебя не трону!” — крикнул он вдогонку, но Калампыр, обернувшись на мгновенье, вновь побежала. С криком “Стой, стой!” бросился за ней и Кенжебай. Теперь уже оба не сомневались в том, что один из них убегает, а другой преследует убегающего. Спустя некоторое время впереди показался огонек. Это было зимовье соседнего чабана. Калампыр, мелькнув белым платьем, устремилась именно туда. Он снова позвал ее, крича вслед. В это время раздался топот конских копыт и послышался тонкий голосок Сагидуллы: “Эй, Кенжебай, Калампыр! Ягненок нашелся-я-я!” Оба одновременно остановились. “Фу-у, где вы ходите-бродите?! Мы нашли его возле самого дома!” — заворчал Сагидулла. Едва уняв одышку, девушка взобралась на круп лошади и уселась позади. Сагидулла пустил коня мелкой рысью. Кенжебай, свесив голову, пошел следом. На следующее утро Калампыр, сказавшись больной, уехала к себе домой...
Листья деревьев монотонно шелестели под ветром. Кенжебай углублялся все дальше в рощу, прислушиваясь к шелесту, к выкрикам и пенью птиц. С каждым шагом тальник встречался все реже, зато прибавлялось осин, закрывающих собой все небесное пространство. Шуршанье листьев заглушало все остальные звуки.
В роще носилось множество голубей. Некоторых из них Кенжебай, кажется, видел возле дома. С восхищением глядя на кружащихся в воздухе красивых птиц, он пробормотал: “Теперь можете быть спокойны — ваших врагов я уничтожил!” И снова мысли его вернулись к кошкам: “Поделом злодейкам. Так им и надо!”
Вскоре и осины стали редеть — роща кончалась. Он выбрал полянку и улегся на спину.
Нельзя сказать, что погода стояла ясная. Небо было покрыто рыхлыми слоистыми облаками, занимающими как бы нижний ярус воздушного пространства. За ними проглядывало другое небо — выцветшее, бледно-голубоватое. Из небольшого, в две сажени, окошка краешком ока смотрело на землю светило. Кенжебай закрыл глаза.
И вдруг... ветер не ветер — что-то затрепетало рядом. Будто раздался чей-то шепот. Кенжебай насторожился. Потом почувствовал легкое прикосновение к лицу, словно чьи-то губы дотронулись до щеки. Он вздрогнул.
Открыл глаза и снова увидел двойное небо. Кенжебай ничуть не сомневался насчет того, чей шепот он услышал, чей поцелуй ощутил на лице. С дуновением ветерка сравнимы только слова Нурлытай, и так целовать, будто ласкает ветер, может только она...
“Эх, не надо было затевать конфликта из-за никчемного пустяка!.. Зря обиделся. После того случая и начался в нашей жизни разлад”, — сказал сам себе Кенжебай, вспомнив то, что произошло месяц спустя после свадьбы...
Возвращаясь из Казахконцерта к себе на работу, он решил сесть на трамвай, для чего и пошел к остановке напрямик, через парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев. На одной из аллей неожиданно увидел Нурлытай, шедшую навстречу с незнакомым парнем. Жена выглядела довольной, весело смеялась, глядя на спутника. У Кенжебая заныло сердце. Нурлытай же, заметив мужа, растерялась так, что краска бросилась в лицо. “Знакомься, — промолвила она, — это парень из моего аула. Сейчас учится в политехническом”. Кенжебай холодно кивнул в ответ, словно бы не увидев протянутую для приветствия руку. Только, прощаясь, небрежно спросил: “Куда путь держим?” — и вполуха стал слушать объяснения жены. Со своей стороны, обронил: “Ну а я спешу на работу” — и для пущей убедительности глянул на часы. Шел с опущенной головой, не давая погаснуть в душе возникшему огоньку недовольства. На поспешный вопрос Нурлытай: “Когда тебя ждать с работы?” — бросил раздраженно: “Попозже!”
В тот момент на часах было около четырех. Домой же он вернулся только в полночь. Закончив работу, направился к Ергоже в редакцию “Лениншил жас”. Там встретил еще двоих знакомых парней, с которыми и пил водку до позднего вечера, больше всех усердствуя при этом сам. Но, судя по всему, случившееся днем по-настоящему задело его, и водка не оказывала должного воздействия: сознание оставалось по-прежнему ясным. Во время импровизированного застолья кто-то подбросил тему для размышлений: “Что такое любовь и кто как ее понимает?” Вокруг нее и разгорелись горячие споры. Тогда-то один из двух парней и сказал:
— Если у вас, сколько бы вы ни встречались, не иссякает желание говорить — это, по-моему, и есть любовь.
Кенжебая, больше отмалчивавшегося и безмолвно опрокидывавшего одну стопку за другой, его реплика заинтересовала.
— В этом что-то есть! — глубокомысленно изрек он, и перед глазами у него опять возникли Нурлытай и ее спутник.
— Можешь ни минуты не сомневаться, только так и проявляется любовь. В иную я не верю, много раз проверял на личном опыте, — подтвердил свои слова говоривший, будто угадав, что творилось в душе у Кенжебая.
Возвращаясь домой, Кенжебай продолжал размышлять вокруг этой темы и все больше и больше убеждался, что разгадка свалившегося на его голову несчастья найдена. “Действительно, — думал он, — начиная с сегодняшнего дня мне не о чем говорить с Нурлытай. А раз говорить не о чем — значит, любовь исчерпана. Да и не то чтобы говорить, даже видеть ее не хочется. И домой не хочется. Ни капельки любви во мне не осталось”.
Но, как оказалось, тема для разговора нашлась. И не короткая — а с полуночи до утра. Хотя Кенжебай и стоял на своем: тот разговор, который вели они, не есть доказательство любви. Другие разговоры, может, и свидетельствуют о чистых и светлых чувствах, но эта их бесконечная, явно затянувшаяся перепалка была просто выяснением отношений.
Когда он, нетвердо ступая, добрался до дома, полусонная Нурлытай ждала его с ужином на столе.
— Ты меня не любишь! — стоя в дверях, начал Кенжебай. Он впервые заговорил с ней так резко.
У Нурлытай задрожали ресницы. Казалось, еще секунда — и она расплачется.
— Почему ты так думаешь? Почему?
Видя ее смятение, Кенжебай поначалу проникся чувством жалости. Однако немного погодя гнев снова овладел им, и он, позабыв обо всем на свете, ляпнул:
— Я-то думал, ты на работе. А ты, оказывается, с парнями гуляешь?!
Нурлытай подняла на него наполненные слезами глаза.
— Какие парни? Где это я гуляю?
Кенжебай распалял себя:
— Да ты же это делаешь у всех на глазах... Разве я не встретил тебя сегодня лицом к лицу? Забыла, что ли?
— Но этот парень — мой земляк, я же тебе говорила. Учится в политехническом. А сама я из Госбанка решила забежать на базар. Тут и встретились с ним случайно, — пыталась втолковать ему Нурлытай.
— И что же, нужно обязательно гулять со всеми, кто встречается?
— Я не гуляла. Просто нам было по пути. А шел он...
Но Кенжебай не дал ей закончить.
— Ложь! Все это ложь! — упрямо гнул он свою линию. — Кто знает, может, ты с ним каждый день вот так разгуливаешь? Разве я могу уследить за каждым твоим шагом? От твоего звонкого смеха у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Даже если земляк, что тут долго размусоливать: “привет”, “до свидания” — и ступайте каждый своей дорогой. Не понимаю, чему же тут можно смеяться? Особенно если ты спешишь и у тебя к тому же есть муж. А ты ведь прямо-таки сияла. Обо всем на свете позабыла! Думал, что и меня не заметишь. Нет, определенно, ты меня не любишь!
Если в начале этой гневной тирады у Нурлытай задрожал подбородок, то к концу она не выдержала и разрыдалась:
— Это ты сам не любишь меня! Иначе бы не додумался до таких кощунственных обвинений и не бросал их мне в лицо!
— Нет, это ты не любишь! Если б любила, не забывала бы о моем существовании!..
В ту ночь впервые было произнесено слово “развод”. И он впервые улегся спать отдельно от жены...
Каким же надо быть эгоистом, чтобы, выдумав заведомо ложные обвинения, корить ими Нурлытай! У кого нет земляков, сокурсников, друзей и знакомых? Разве они одни живут в огромном городе? Мало ли с кем и когда можно повстречаться случайно? Да и какой грех в том, если поговорить со встретившимся человеком, повспоминать о былом, поделиться новостями?..
Нурлытай невдомек, что и Кенжебаю однажды встретилась его землячка.
Дело было чудесным летним вечером. Кенжебай вышел с работы, купил газеты в киоске рядом с телецентром и стал спускаться вниз по улице, направляясь к проспекту Абая. И вдруг совсем рядом, зазвенел чей-то тонкий приятный голосок:
— Здравствуйте, агай!
Он удивленно поднял глаза. Перед ним стояла тоненькая смуглая девушка, одетая в джинсовую юбку и блузку из тонкой ткани. Лицо вроде было знакомым, но имя забылось. Как бы почувствовав это, девушка улыбнулась и подсказала:
— Я — Акжибек.
Тогда только все вспомнилось.
На начальных курсах студенты имеют обыкновение собираться по принципу землячества. В рамках этих стихийно возникающих сообществ парни и девушки проводят веселые вечера. По неписаной студенческой традиции, собирались вместе и выходцы Каратобинского района. На одном из вечеров Кенжебай встретил Акжибек. В том году она поступила в институт иностранных языков. Кенжебай, изучив ее взглядом, решил было, что Акжибек — девушка что надо, именно такая, которая создана для женитьбы. Но как раз в это время он дружил с Орик и потому ограничился тем, что просто запомнил, как оказалось, надолго тоненькую талию и сияющие от радости глаза юного создания. С тех пор их пути разошлись.
Сейчас же разделившие их шесть лет показались шестью днями. Взгляд у Акжибек был такой же теплый, фигурка — такая же тоненькая, и сама она все время улыбалась.
— Ого, Акжибек! Ты ли это, в самом деле? Вот это да!.. Ты ничуть не изменилась! — воскликнул Кенжебай радостно. Он и сам не заметил, как руки его легли девушке на плечи. Акжибек, хоть и показывала всем своим видом, что не одобряет подобных вольностей, рук его не отвела.
— Ну, а как вы сами? Как ваши дела? — При этом она приятно улыбнулась, игриво поглядывая на Кенжебая.
— Совсем не изменилась. Все такая же... А что, может, ты по-прежнему учишься на первом курсе? — продолжал удивляться Кенжебай.
Акжибек рассмеялась:
— Что вы, институт я окончила в прошлом году. Работаю в обществе “Дружба” переводчицей.
— Ну и ну!..
Потом каждый рассказывал о своих делах: Кенжебай вкратце, Акжибек — поподробнее. В разговоре оба чувствовали себя непринужденно. Акжибек, оказывается, знала о том, что он работает на радио. И названия всех его песен она помнила. “Только вот новых вы что-то не пишете, — сокрушенно заметила она. — Наверно, заняты чем-то другим, никак не выберете времени для творчества?” Кенжебай засмеялся — в то время он был еще оптимистом: “Есть идеи. Много идей... А когда и во что они выльются — покажет будущее”. Акжибек тоже засмеялась в ответ: “И все же помните, что мы ждем ваших песен, болеем за вас”.
По разговору Акжибек, по ее манерам Кенжебай понял, что она еще не замужем. К тому же и обручального кольца на пальце не было видно. На последнее обстоятельство он обратил внимание потому, что знал, девушки, обучающиеся в городе, имеют особое пристрастие к обручальным кольцам. Некоторые даже начинают их носить задолго до свадьбы. Теперь же его беспокоила одна мысль: не предложить ли Акжибек провести вместе сегодняшний вечер. Окончательно поверив в то, что Акжибек не связана узами брака, Кенжебай спросил: “Ты как сегодня, свободна?” — “Вообще-то, свободна, — ответила Акжибек, — надо только зайти в один дом на улице Мира — там живут мои подруги”. Кенжебай воспрянул духом. “Может, и мне стоит познакомиться с ними? А потом все вместе отпразднуем наше знакомство в каком-нибудь приличном заведении?” — предложил он, искренне радуясь, что встреча с Акжибек совпала с получением гонорара.
Акжибек согласилась. Вдвоем они пошли по улице вверх. По пути оживленно беседовали, смеялись. И продолжали так вести себя в течение всего вечера: когда вместе с подругами Акжибек добирались до кафе “Эдельвейс”, в самом кафе и позже, когда провожали подруг, а потом и по пути к дому самой Акжибек. И ведь что интересно — не было в их разговоре ничего особенного: так, малозначительная беседа о том о сем. И причин для смеха тоже не было: говорились сущие пустяки, забавные только для тех, кто готов смеяться по любому поводу. Человеку со стороны они вполне могли показаться ненормальными... Возможно, они и вправду были такими, но сами этого не замечали. Неизвестно, о чем думала Акжибек, оставшись дома одна, а Кенжебай, направляясь к себе, упорно повторял фразу, впервые сказанную шесть лет назад: “На такой девушке можно жениться!”
Нурлытай невдомек, что после этого они стали встречаться все чаще. Без конца чередовались хождения по кинотеатрам, прогулки по улицам рука об руку, посещения друзей и знакомых. Одним из таких запомнившихся событий был поход в горы.
Человек шесть парней и девушек сели в автобус и вышли не доезжая до Медео. Шутили, смеялись, пели. Много бродили по предгорьям и наконец расположились на пикник в тени деревьев. Раскинули на траве газеты, выставили привезенные с собой бутылки и съестные припасы. И все это приятно ласкало глаз.
Но приятнее всего было смотреть на огромные валуны по соседству, на сплошную стену темно-зеленых елей, растущих по горным склонам. Кенжебай и раньше не раз бывал в горах, но каждый раз испытывал настоящее волнение, то ли заметив никогда ранее не виденный оттенок в палитре горного пейзажа, то ли услышав новый мотив. В тот день ему показалось, что стоящие на самой вершине высокого хребта мрачные ели нанизывают на свои макушки проплывающие по небу белесые облака. И увиденное потрясло его, разволновало душу.
Однако больше всего запомнилось то, как он сидел рядом с Акжибек, полуобняв ее за талию, как, смотря то на девушку, то на первозданную красоту дикой природы, не знал, кому отдать предпочтение.
Но главное, чему суждено было охладить в нем страсть, ждало его впереди...
Когда Кенжебай сидел, уединившись с Акжибек, девушка вначале робко противилась его ласкам. Но в конце концов, убедившись, видимо, в бесполезности своих действий, успокоилась и даже прильнула к нему. Ее близость воспламенила Кенжебая. Сейчас он уже не был тем неискушенным юношей, трепетно прислушивающимся к неведомым чувствам. Привычным жестом он крепко обнял девушку и стал целовать ее. Акжибек сначала не особенно отворачивалась, а потом, поняв, что Кенжебай готов перейти все границы дозволенного, вырвалась, сделав отчаянное усилие.
— Нет, нет, Кенжебай, нельзя! — произнесла она, с трудом переводя дыхание.
— Почему нельзя? Можно! Мы поженимся! — заявил Кенжебай и снова попытался обнять ее.
Но побледневшая Акжибек отвела его руки.
С того самого времени и до тех пор, пока все, собравшись вместе, не сели в автобус и не вернулись в город, Акжибек держалась замкнуто.
— Когда встретимся? — спросил Кенжебай, как спрашивал всегда, прощаясь у ворот ее дома.
Акжибек, отвернувшись, расплакалась и стала поспешно открывать свою сумочку. Достала из нее вчетверо сложенный лист и протянула Кенжебаю. Потом произнесла:
— Мы теперь больше никогда не встретимся! — и с этими словами, все так же плача, забежала во двор.
Кенжебай возвращался домой, обуреваемый различными догадками и сомнениями. Придя к себе, зажег свет и развернул записку.
“Агатай! — писала Акжибек. — Что вы скажете, когда прочтете все до конца? Может быть, назовете меня несчастным существом...
Наверно, в жизни моей печалей больше, чем радостей... И все же я хочу рассказать вам свою историю. О ней не знают ни родственники, ни друзья — рассказать им обо всем у меня никогда не хватит смелости. Только с вами я собираюсь поделиться своей тайной. Знаю, что рано или поздно она раскроется, и каково мне будет тогда смотреть вам в глаза!
Началось все в прошлом году, 26 июня, когда мы, сдав последний экзамен, собрались всем курсом отметить это событие в ресторане “Алма-Ата”. Там мне встретился (возможно, вы его знаете) некий Жакия Кожаниязов, кинооператор. Он ведь тоже уроженец наших краев. Просто повезло человеку в жизни, а вообще-то, он хороший пустозвон. Многие уважают его за какие-то заслуги, я же его уважала только за то, что он мой земляк. Несколько раз видела его на наших вечерах, которые и вы когда-то посещали.
На другой день примерно в полдень снова случайно встретила его в ЦУМе. Познакомил меня с другом, потом пригласил на чай в дом своего старшего брата, жившего неподалеку. И я, ничего не подозревая, согласилась. Не думала, что иду навстречу своей беде...
Раньше я никогда не пила, а тут дала себя уговорить и выпила несколько бокалов шампанского. Решила, ничего страшного не случится. Что было дальше — не помню... Очнулась спустя некоторое время — разбитая, растерянная... Так и осталась сидеть. Надо ли вам, агатай, говорить, что случилось со мной... Он вроде бы объяснял мне что-то, но я не слышала его слов...
Утром хозяйка дома позвала нас к чаю. Я не пошла. Старший брат спрашивал у Жакии: “Когда улетаешь?.. Когда вернешься?” Но мне тогда ни до чего не было дела, сидела оглушенная и потерянная. Уезжая, он поручил меня жене брата: “Акжибек пусть останется тут. А я вернусь через недельку”. Потом вызвал по телефону такси и уехал в аэропорт. После его отъезда брат и его жена дали мне понять, что мое присутствие в их доме нежелательно...
Вот, агай, я ничего не утаила... Узнав о ваших чувствах ко мне, не захотела обманывать. Дала себе слово даже и не пытаться разжалобить вас своими слезами, просить сочувствия. Если уж чего и просить у всевышнего, так это смерти. Для такого глупого создания, как я, это лучший выход. Но сколько бы ни собиралась, не могу наложить на себя руки.
Когда в тот раз вы говорили: “Акжибек! Ты ничуть не изменилась!” — я готова была сквозь землю провалиться со стыда. Хотела тут же попрощаться и уйти, но не смогла... Я вас тоже люблю всем сердцем. Но тем не менее понимаю, что вы не сможете быть счастливы со мной. Поэтому лучше нам больше не встречаться.
Акжибек.
16 августа 1976 года”.
Кенжебай бросил письмо на стол и долго сидел с закрытыми глазами.
После этого случая они с Ергожой целый месяц хлестали водку и пиво, сопровождая питие длительными “философскими” дискуссиями. А по истечении месяца Кенжебай заявился в дом, где жила Акжибек, и постучал в ее дверь. Она сама открыла ему. Кенжебай, улыбаясь как ни в чем не бывало, шагнул за порог, наклонился и поцеловал застывшую от неожиданности Акжибек.
— О боже, неужели вы простили меня, Кенжебай? Неужели простили?! — повторяла она сквозь слезы.
Кенжебай обнял ее и осыпал поцелуями лицо.
— Значит, правда, простили?.. А вдруг потом пожалеете о своем решении?
— Я не ребенок. Знаю, со всяким может случиться подобная неприятность... Правда, после того как прочел письмо, обиделся на тебя страшно. Хотел поскорее забыть. Но твой образ продолжал жить в моем сознании. Поверил, что ты любишь меня по-настоящему. Простил... Давай больше никогда не заговаривать об этом. — Кенжебай достал из кармана платок и старательно осушил слезы на щеках Акжибек.
— Дорогой мой!.. — воскликнула она и с засиявшими от радости глазами повисла на шее Кенжебая.
Через некоторое время вернулась с занятий сестра Акжибек, и они втроем, весело болтая, сели пить чай. Потом, прощаясь, договорились о свидании — в сквере за аэровокзалом.
Они встречались все чаще и чаще. Их отношения, казалось, обрели новую форму, новое содержание. В конце концов условились и о свадьбе под Новый год.
Но свадьбы так и не сыграли. И причиной тому был разговор, происшедший у Кенжебая с неким Орынбасаром.
Орынбасар тоже работал на радио, в редакции программы “Шалкар” — только это про него и знал Кенжебай.
Однажды Кенжебай остался после работы, чтобы в тиши опустевшего кабинета подготовить музыкальную передачу, предусмотренную недельной программой. В этот момент отворилась дверь, и вошел Орынбасар.
— О, вы, как вижу, еще не ушли?
— Да, есть срочная работа...
Орынбасар, как выяснилось, искал кого-то другого, но тем не менее выходить из кабинета не спешил. Поговорив о том о сем, он в конце концов внезапно заявил:
— Да, кстати, давно хотел спросить... Только сейчас вспомнил...
— Спрашивай, — кивнул Кенжебай.
— Вы вроде бы знакомы с Акжибек?
Вопрос Орынбасара был настолько неожиданным, что Кенжебай растерялся.
— С кем, с кем? — переспросил он, будто не доверяя своим ушам.
— С Акжибек, — повторил тот.
— Да, знаком, — вынужден был подтвердить растерявшийся Кенжебай.
— Давно знакомы? И хорошо ли ее знаете?
— Так себе, — вывернулся Кенжебай. Он понял, что Орынбасар неспроста затеял этот разговор. — Ну, а ты откуда знаешь ее?
— Через свою девушку — Торгай. Недавно мы с ней были в гостях у Акжибек, — объяснил Орынбасар.
— И когда это было?
— Да месяца полтора назад.
— Ну и отлично.
— Оказывается, она давно донимала Торгай просьбами: приходи да приходи, мол, ко мне вместе с Орынбасаром. Ну и пошли. Акжибек снимает квартиру на улице Сабита Муканова. На пару с сестрой. Посидели. Чаю попили. Водочки. А на прощание — в одиннадцать вечера где-то — она мне и говорит: “Из ваших сотрудников Утегена знаю, с Тугельбаем знакома, с Кенжебаем”. Дала свой телефон, просила звонить...
Для Кенжебая это была полная неожиданность. Раньше он был уверен, что других знакомых на радио, кроме него, у Акжибек нет. Стараясь не выдать своего потрясения, он только слушал, невольно поощряя своего собеседника к дальнейшим откровениям возгласами и репликами вроде: “Ого!...”, “М-да!...”, “Интересно...”, “И что же дальше?..”
— Звонить я к ней не стал, но спустя некоторое время позвонила она, — продолжал Орынбасар. — Расспрашивала, какие, мол, дела, какие новости. Сообщила, что часто звонить не может, потому как начальник отдела не любит, когда служебный телефон занимают по личным надобностям. В другой раз позвонила Тугельбаю. Я сижу с ним рядом, так что слышал все. Тугельбай разговаривал с ней без особого желания: “А, Акжибек, жива-здорова?.. Да, я первый день как из отпуска... Нет, со временем у меня туговато... Наверно, не смогу”. Мне показалось, что Акжибек куда-то приглашала его. Потом мне позвонила Торгай и попросила: “Мы с Акжибек договорились пойти втроем в кино, но я чувствую себя плохо. Не сможешь ли ты пойти к ней на работу и предупредить?” Я пошел, встретил Акжибек, и мы направились к Торгай в общежитие. Общежитие, понятно, женское, и мне стоило больших трудов прорваться через вахту. Торгай лежала в постели, но, увидев нас, повеселела и стала накрывать на стол. За чаем Акжибек заговорила о Тугельбае, отозвалась о нем как о высокомерном человеке и вообще не очень хорошо. Это не понравилось Торгай, ведь она землячка ему. В свою очередь обиделась Акжибек. Не знаю, есть ли между этим какая-нибудь связь, но через несколько дней на работу к Торгай позвонила неизвестная девушка и сказала по-русски: “Дура набитая!” — и демонстративно рассмеялась в трубку. Только троим был известен номер ее рабочего телефона: одной ее самой близкой подруге, Акжибек и мне. Торгай сначала подозревала Акжибек, потом меня, хоть я и уверял ее, что непричастен к этому звонку. Но настроение у нее было подавленное, даже на свидание опоздала на полчаса. Все спрашивала: “Как дела у Акжибек? Как она себя чувствует?” Я догадался: стряслось еще что-то неладное. Выяснилось, что накануне Акжибек якобы спрашивала у меня о самочувствии моей девушки, а я в ответ только махнул рукой и засмеялся. Этот выдуманный разговор она довела до сведения Торгай, после чего моя девушка долго не могла успокоиться. Я уверял ее: “Провалиться мне на этом самом месте, если она спрашивала о тебе! Хочешь, приведу Акжибек, и пусть она при мне слово в слово повторит все?” И еще... В тот раз Торгай так ответила Акжибек: “Орынбасар — хороший парень. Я была бы рада, если б хоть кому-нибудь из нас он достался в мужья”. А та в ответ ляпнула по-русски: “В таком случае передай ему от меня привет!..”
Пока Орынбасар говорил, Кенжебай смотрел на него с ненавистью, чувствуя, как его бросает то в жар, то в холод. Но на последней фразе у него буквально перехватило дыхание, и он поспешил перебить собеседника:
— И это все, что ты хотел сказать мне?
Орынбасар замялся:
— Да... Но есть еще кое-что....
— Если есть еще, оставь это на завтра. А сейчас я спешу, — сказал он и, затолкав свои бумаги в ящик стола, поспешил к выходу. Сейчас ему никого не хотелось видеть, надо было переварить услышанное в полном уединении.
Рассказ Орынбасара потряс Кенжебая. Он понял, что все это происходило после того, как Акжибек вручила ему свое письмо, в то самое время, когда он боролся с самим собой и своими чувствами. Ему было обидно и досадно за свою доверчивость и наивность. И все же самое интересное он услышал от Орынбасара на другой вечер.
— Не знаю, почему, — начал он, — но я вчера в своем рассказе допустил маленькую неточность... Это касается того дня, когда мы втроем решили сходить в кино. Все было несколько иначе. — Кенжебай молчал, решив дать возможность Орынбасару выговориться до конца. — Встретиться предложила Акжибек, с тем чтобы я провел ее на радио. Торгай еще удивилась: “Но после шести вечера там никого не бывает! Что ты там будешь делать?” Акжибек объяснила: “Посмотрю, где работает Кенжебай. Зайду в его кабинет”. Но поскольку Торгай действительно заболела, то дальше все было так, как я уже говорил: к месту встречи пришел я, потом мы отправились в общежитие. Что я еще хотел сказать-то?... Да, в доме у Акжибек я увидел вашу фотокарточку. Спросил: “Ты что, знакома с ним?” Акжибек ответила утвердительно: “Знакома”. Это та фотокарточка, где вы сняты на фоне какой-то лужайки. Уже за чаем Акжибек рассказала всю историю вашего знакомства — от давнишней встречи на вечеринке до того, как вы столкнулись с ней на улице. “Он меня не узнал, а я его сразу узнала”, — сказала она. Я сидел и удивлялся, зачем она рассказывает об этом мне, с которым едва знакома? А под конец и вообще призналась, что любит вас. Зато моей девушке говорила другое: есть у нее, мол, парень по имени Жакия, кинооператор, которого она хоть и не любит, но замуж за него собирается. А потом вроде передумала, сообщила Торгай, что уезжает. Чуть позже утверждала обратное: “Другого выхода нет, как выйти за Жакию...”
Кенжебай слушал, и единственным желанием его было зажать ладонями уши и убежать прочь. Но вместо этого пробормотал:
— Интересная история. Но мы с Акжибек просто знакомы. Между нами ничего не было. Видимо, она переоценила мое отношение к ней. — И, сославшись на дела, поспешил покинуть кабинет.
Долго бродил по улицам, обуреваемый противоречивыми чувствами. Казалось, будто кто-то подталкивает его к пропасти. Подозревал, что все это пустые сплетни, возникшие в результате конфликта между Акжибек и девушкой Орынбасара. Но последний в коллективе был на хорошем счету: немногословный, сдержанный. Трудно было углядеть какую-то корысть в его неожиданном откровении. Потом в памяти всплыли имена — Утеген, Тугельбай и этот отвратительный Жакия, и Кенжебай на все махнул рукой. У него не было ни сил, ни желания разбираться, где в услышанном правда, а где — ложь. Просто решил никогда больше не встречаться с Акжибек, о чем и сообщил ей в тот же вечер, предварительно изрядно выпив в подвернувшейся по пути забегаловке.
Прошло три недели. Все вроде бы постепенно забывалось, уходило в прошлое. Но как-то раз Акжибек позвонила ему по телефону, поздоровалась и замолчала. У Кенжебая не хватило духу бросить трубку.
— Что поделываешь? — осведомился он.
— Летаю, — ответила Акжибек.
— Где, куда?
— Далеко-далеко...
— Да-а?.. — протянул Кенжебай, не зная, как реагировать на сказанное.
— Вчера вот побывала дома, — сообщила она.
— Что, так быстро соскучилась? Ведь недавно же ездила?
— Ездила. Но вчера снова побывала.
— И не надоедает разъезжать так часто?
— Отчего же? Захочу — могу и сейчас отправиться.
— Не городи чепухи! — оборвал Кенжебай. Ему подумалось, что Акжибек просто дурачит его.
— Не веришь? — Акжибек рассмеялась. Вернее, не рассмеялась, а издала звуки, похожие на смех.
Помолчали. Молчание затягивалось. Кенжебай не знал, о чем еще говорить теперь.
— О чем ты там задумалась? — спросил он, не выдержав.
— Так, ни о чем. Съездила еще раз домой, — сказала Акжибек.
— Когда?!.. — Кенжебай почувствовал, что у него в горле пересохло.
— Сейчас. Прямо сейчас. Пока ты молчал...
Кенжебай облегченно вздохнул и не стал упрекать ее за чудной разговор. Не захотел.
— Ладно, всего хорошего, — решилась Акжибек.
— Хотела сказать что-то?
— Да, возвращаюсь домой. Всего хорошего.
— Всего хорошего!
И этой выходке Акжибек Кенжебай не захотел придавать значения.
Дней через десять она позвонила снова. И опять поздоровалась и замолчала. Это уже действовало Кенжебаю на нервы.
— Жакию видела? — раздраженно спросил он. — Кажется, где-то здесь ходит.
— Нет, не видела, — ответила Акжибек.
— Ходит-ходит, вчера только вернулся со съемок.
— Передай ему привет от меня.
— Передам, если увижу. Но, скорее, не увижу. Когда поженитесь? Говорят, он ищет тебя, — съязвил Кенжебай.
— Не нужен он мне.
— Почему?
— Не нужен. Нет в нем надобности.
— Говорю же, он ищет тебя.
— Не нужен, — повторила Акжибек и громко расплакалась.
— Что с тобой? — спросил Кенжебай, поняв, что допустил излишнюю резкость в разговоре.
Акжибек, не отвечая, продолжала всхлипывать.
— Перестань, Акжибек. Скажи, что случилось?
— Ничего не случилось, — все так же всхлипывая, ответила она.
— Тогда почему плачешь?
Никогда прежде не приходилось говорить ему по телефону с плачущим человеком. Потому и не знал, как поступить. Все его утешительные слова не достигали цели.
— Я, что ли, тебя обидел? Что с тобой?
— Нет, ты меня не обижал.
— Тогда почему плачешь?
— Просто так...
— Перестань плакать, ты же не маленькая.
— Хотела тебе сказать что-то, — еле выдавила из себя Акжибек, едва уняв рыдания.
— Говори.
— Сейчас не могу.
— Почему?
— Потому... Не могу, и все.
— Ну почему не можешь?
— Нельзя. Скажу, когда встретимся.
Кенжебай насторожился. Кажется, он догадывался, о чем может пойти речь.
— Если хочешь, говори сейчас. На встречу у меня нет времени, — резко ответил он.
— Я... беременна, — сообщила Акжибек.
У Кенжебая рука, державшая трубку, заметно дрогнула. С непонятно откуда взявшимся ожесточением он спросил:
— Ну и что?
— Вот об этом и хотела сказать, — произнесла Акжибек.
— Ты говори это не мне, а своему Жакие, — взорвался он.
Акжибек замолчала, захлебываясь слезами.
— Да-да, так и сделай. Ему скажи. А мне не надо говорить, — повторил еще раз Кенжебай.
— Всего хорошего, — попрощалась Акжибек.
— Тебе тоже. Не звони больше.
Спустя много дней в редакции раздался телефонный звонок.
— Скажите, а Кенжебая там нет? — спросил хриплый женский голос.
— Я слушаю, — ответил он.
— Это я, здравствуй, Кенжебай!
— Привет.
— Как дела? Как работа?
— Нормально. А кто это звонит?
— Это же я!
— “Я” — это кто?
— Успел уже забыть, да?
Только теперь Кенжебай узнал голос Акжибек.
— Я же просил не звонить мне, — сурово сказал он.
— А я звоню так просто, — ответила Акжибек.
— Уж совсем так просто?
— Да, хотела спросить, как у тебя дела...
— Повторяю, не звони больше, — и Кенжебай нажал на рычажок.
После этого Акжибек замолчала. Как-то раз, правда, они встретились случайно на улице. Стоял солнечный день. Акжибек шла с распущенными по спине волосами, с переброшенной через плечо сумочкой. Ее руки были засунуты в карманы пальто, смуглое лицо казалось бледным. Поглядела на Кенжебая невидящим взглядом и прошла мимо. В ее глазах не было ни удивления, ни презрения. Так обычно смотрят на случайных прохожих, которых забывают, едва успев разминуться с ними...
Об этой истории Нурлытай тоже не знает. А если б узнала, то как бы отнеслась к ней?.. Кенжебай обогнул рощу справа и направился домой.
10
Вернувшись под вечер, он обнаружил на своей тахте спящего Сундета, оглашающего окрестности могучим храпом. Кенжебай разбудил его, потянув за ухо.
— Эй, Робинзон, как дела? Куда это ты запропал? Еще не надоело тебе твое одиночество?.. А ту водку, что я привозил, ты, конечно, всю выхлестал?! — весело затараторил Сундет, не успев еще как следует проснуться.
— Нет, не всю. Твоя доля ждет тебя, — утешил друга Кенжебай.
— Если ждет, тащи ее сюда. Подкреплюсь малость. А то целый день в бегах — утомился, — заявил Сундет и, кивнув на сложенные в кучу кульки и авоськи, добавил: — Это то, что не удалось прихватить в прошлый раз. Даже твою любимую куреву — десять пачек “Казахстанских” достал, не зря свояченица моя продавщицей работает.
— Я и сам хотел завтра выбраться в Егиндикуль. Хлеб зачерствел уже.
— А мне думается, что в Егиндикуль ты отправишься не завтра, а сегодня. Пузатый Кусаин послал меня за тобой — велел доставить в гости живым и невредимым, — сообщил Сундет.
— До того ли мне сейчас, чтобы по гостям ходить и веселиться? Спасибо за внимание и уважение, но пойти я не могу, — со вздохом отозвался Кенжебай.
— Послушай, из-за чего это ты убиваешься так? Что у тебя за горе такое — бездонное и безбрежное? Всё ведь в твоих руках. Если тебе так невыносимо, поезжай и привези сюда Нурлытай. Это же совсем рядом! — воскликнул Сундет.
— Нет-нет, не говори мне про нее! Если я решил начать новую жизнь, то с прежней уже покончено, — возразил Кенжебай.
— Хочешь начать новую жизнь — начинай как следует! Веселись, встречайся с друзьями и товарищами. Обойди всех приятелей и знакомых. Посмотри на себя — ты же будто только что вернулся с пожара! Видать, и бог тому свидетель, что у тебя внутри никак не может уняться пламя. Ладно, поломался и хватит, поехали к Кусаину! Все наши сверстники извещены уже. Кусаин вечеринку специально в честь тебя организовал, чтобы ты познакомился с людьми, узнал их поближе. Давай, собирайся! — заявил Сундет приказным тоном.
Кенжебай не нашел, что возразить, и покорился.
Подогретый остатками водки, Сундет лихо гнал свой мотоцикл, соревнуясь с ветром. Когда они в сгустившихся сумерках притормозили у дома Кусаина, женщины из числа собравшихся гостей сидели во дворе на табуретках и перекидывались веселыми шутками, а мужчины вели неспешную беседу.
Со многими из них Кенжебай был знаком с детства. В отличие от него, почти все обзавелись детьми — по одному так уж обязательно, а кое у кого и по трое-четверо. Было ли так задумано или случайно получилось, но среди приглашенных оказались две девушки, которым по возрасту давно пора замуж. Кенжебай заметил, что они, разговаривая с остальными, с интересом поглядывали в его сторону.
Может, Сундет предупредил гостей, а может, они и сами знали о семейных неурядицах Кенжебая, но вопросов о жене не задавал ему никто. Такая сдержанность радовала бы его, если б не задевающее за живое сочувственное отношение. Все были приветливы, внимательны, и все же отсутствие полной искренности бросалось в глаза. Кенжебай понимал, что не обошлось здесь без кривотолков и пересудов — заглазных и заушных, потому и чувствовал себя не в своей тарелке и, привычно нажимая на выпивку, пытался как можно скорее обрести раскованность.
После нескольких тостов одна из девушек предложила спеть что-нибудь. Эта идея была подхвачена гостями, но тут же возникло затруднение: какую песню выбрать. Предложения выдвигались разные, но к единому мнению так и не пришли. И тут один из гостей воскликнул: “Послушайте, дорогие мои, зачем нам гадать, если среди нас сидит композитор?! Давайте-ка споем его “Полет орла”!
Две девушки растерянно переглянулись между собой. Оказывается, “Полет орла” был им неизвестен. На помощь бросился Сундет. Когда гости недружно поддержали его, стало ясно, что текста почти никто не знает. Даже Сундет, начавший петь довольно энергично, после первого куплета споткнулся и в конце концов перешел на невнятное бормотание. Инициативу попыталась перехватить некая молодуха, но и у нее дело вскоре застопорилось. Пропев две следующие строки, она замолчала и, не найдя лучшего выхода из создавшегося положения, рассмеялась. На том все и кончилось.
— Стоит выпить немного — начисто забываю слова, — оправдывался Сундет.
— Да ты вспомни, когда мы в последний раз пели, — внес свою лепту и Кусаин.
Кенжебай ничего не сказал в ответ, но чувствовал, что обижаться на них он не вправе.
Вскоре затянувшееся чаепитие подошло к концу. В ожидании бешбармака, гости разбились на группы и сели за карты. Кенжебай, вдоволь наугощавшийся водкой и к тому же не умеющий играть, уселся поодаль.
Церемонная учтивость и преувеличенная вежливость в отношении друг к другу резко пошли на спад. Будто эти не совсем привычные в сельском обиходе манеры унесли вместе с убранной скатертью. Гости вернулись к своему естественному состоянию: каждый затягивал уже свою “родную” песню. Сделалось шумно. Послышались споры, шутливые перебранки. Большая комната наполнилась непринужденным весельем. Один только Кенжебай не вписывался в общую картину. Сидел молчаливый и замкнутый, прислонившись спиной к стене, и курил одну сигарету за другой.
Единственным его занятием было следить за Калампыр, которая играла в карты вместе с мужчинами. Она смеялась их шуткам, спорила, обменивалась веселыми репликами. И вела себя точь-в-точь как и в прошлый раз. За весь вечер ни разу не остановила на нем взгляда, не прислушалась к его словам, будто его и не было вовсе. Такое ее поведение неприятно резануло Кенжебая, и все же он чувствовал, что не может обижаться на Калампыр. Да и за что обижаться? Разве она должна быть благодарна ему только за то, что когда-то пробудила в нем первые чувства? Давно пора уже забыть о своей детской мечте. К тому же и Калампыр из прежней девочки превратилась в мать четверых детей. В женщину. В жену друга...
И все-таки он не мог не глядеть на нее. Какая она радушная, открытая, смелая и раскованная! Какая гордая! Один из партнеров попытался было погладить ее по волосам, но тут же получил шутливый подзатыльник. Другой положил по-свойски руку на плечо — она мгновенно отчитала его: “Эй, негодник ты этакий, я тебе не столб, чтоб опираться! Кому говорят — отваливай!” И тут же сама кивнула третьему, давая знак продолжать игру, подмигнула хитро четвертому — своему напарнику. А Кенжебай смотрит и думает: если бы сейчас на месте Калампыр сидела Нурлытай, что бы творилось у него на душе? Какою бы черной ревностью терзался? До каких бы отвратительных мыслей додумался?.. Нет, на людях он и виду бы не подал, но зато потом, дома... А Сундет лежит себе на боку как ни в чем не бывало, обменивается с девушками колкими шуточками и на Калампыр ноль внимания.
Заметив пристальный взгляд Кенжебая и решив пошутить по этому поводу, один из мужчин наклонился к Калампыр и шепнул ей что-то на ухо. Та, по своей давней привычке, прикрыв рот ладонью и слегка откинув голову, залилась смехом. Кенжебай, нисколько не сомневаясь, что смеются над ним, встал и пошел к дверям. “Эй, Кенжебай, ты куда? Решил подышать свежим воздухом? Подожди, пойдем вместе!” — крикнул вслед ему Кусаин. Но Кенжебай не отозвался. Отыскал в прихожей свои туфли, обулся и вышел за пределы двора. “Кенжебай!..” — снова позвал Кусаин. Внушительное пузо, которое он поддерживал обеими руками, мешало ему догнать гостя, и тот, мрачный как сама ночь, растворился в темноте.
Пройдя некоторое расстояние, Кенжебай увидел силуэт какого-то большого здания. Значит, вышел точно на цель. Это была школа, где он когда-то учился. Подошел поближе и остановился у крыльца.
Перед глазами замелькали картины прежних дней, послышался веселый детский смех...
“Эх, начать бы все сначала! Вернуть бы тогдашние чистые чувства и мысли! Почему они не сопровождают человека в течение всей его жизни? Или оставили меня, чтобы переселиться в других? Или незаметно отстали в пути, видя, что не совладать со мной, погрязшим в подлых делах и поступках?.. Боже, отчего я стал таким? Ведь рос же когда-то честным, мечтательным. Был целеустремленным и упорным в достижении цели. Как же могло со мной произойти такое?!..”
Сел на ступеньку крыльца. Свесил голову. Готов был плакать от обиды и горечи, поразившей его в самое сердце.
Снова вспомнились веселый смех Калампыр и ее игривое, непринужденное поведение. Может, не зря упорно, даже с каким-то страхом убегала она от него? Видать, сердцем чувствовала, что Кенжебай ничего не принесет ей в жизни, кроме несчастья. И разве не так? Все девушки, которым довелось столкнуться с ним, оказались несчастными. Орик... Каншаим... Акжибек... В чем они были виноваты? За что судьба наделила их такой горькой долей? А Нурлытай?.. Его любимая жена Нурлытай... И четырех месяцев не прожили вместе...
Кенжебай разрыдался:
“Каким же я был безмозглым дураком! Каким тщеславным пустоцветом! Как же я мог так возгордиться, хоть сам гроша ломаного не стоил?!
Не нашедший в жизни своего места, не завоевавший авторитета — настоящее ничтожество, глупец, который видел не дальше собственного носа, слышал не дальше ушей, — как я мог считать себя умнее всех?!
Не зная, что такое сладкое и горькое, не видя разницы между плохим и хорошим, тщился судить других!
Считал себя образцом чистоты и честности, не имея о них ни малейшего понятия!
Не уважал чистых чувств других!
Не ценил благих намерений!
Каким же я был подлецом!..”
Кенжебай долго не мог успокоиться.
Сидел и безутешно плакал, прислонив голову к стене. Зазвучавшие неподалеку голоса вернули его к действительности. Он резко выпрямился. Подумал, что это Кусаин с гостями разыскивает его в ночи. Но вскоре отчетливо услышал женский голос и тяжелое сопение. Голос принадлежал Калампыр, сопение — пьяному в стельку Сундету. “Ну кто тебя просил так напиваться!” — ругала она мужа, чуть ли не повисшего на ее плече. Кенжебай с грустью смотрел на возвращающихся из гостей супругов. Когда их голоса удалились и затихли, вышел на дорогу, ведущую в Жашитал, и стал удаляться от села. Короткая летняя ночь была на исходе. На востоке занималась заря.
“Жестокость! Самая настоящая жестокость!.. Я нашел слово, которое отражает полностью мою сущность! Наносить обиды безвинным, обрекать их на несчастье, растаптывать надежду, заставлять их горько плакать — все это зовется жестокостью, жестокосердием, и нет худшего зла на свете, чем то, которое сотворил я! А виной всему моя чрезмерная гордыня. Я чересчур возомнил о себе... Хотя ничего не перенес в жизни — ни нужды, ни трудностей, ни горя. Радовался дешевым улыбкам, дешевой славе... Выбирал то, что полегче. И... ожесточился, стал эгоистом!” От такого ужасного приговора самому себе у Кенжебая учащенно забилось сердце, стало трудно дышать. И еще подумалось ему, что его порожденная эгоизмом жестокость ничем не отличается от жестокости дикой кошки, любой ценой стремящейся набить себе брюхо. Это сравнение стало недостающим в цепи звеном, после чего круг замкнулся.
Давно его душа не испытывала подобных потрясений. Сейчас, оцепеневший на мгновение, он был похож на мальчика, нечаянно выболтавшего доверенную ему тайну. А через минуту уже удивленно прислушивался к неожиданно зазвучавшему в нем загадочному мотиву. Это был отрывок мелодии, не имевший продолжения. По крайней мере, так казалось ему. Родившиеся в душе звуки были ни на что не похожи. Они настойчиво кружились в голове, вытесняя из нее все другие мысли.
“Какие странные звуки! — дрогнувшим голосом произнес Кенжебай. — В них проглядывает кюй о жестокости... Да-да, я слышу в них сокровенные мысли жестокого злодея! Но надо найти продолжение темы. Буду искать, искать... День и ночь искать! Не отступлюсь, не пущу на самотек, как это не раз бывало! Пусть этот кюй раскроет всю мерзкую сущность Злодея! Пусть люди вздрогнут, узнав, каков он! Пусть им станет противно! И пусть, встретив подобное чудовище в жизни, они обходят его стороной! Все усилия приложу, чтобы мой замысел осуществился. Я напишу этот кюй!” — обещал себе Кенжебай, ощутивший неожиданный переворот в душе.
Подойдя к броду, остудил лихорадочно пылавший лоб, умылся холодной водой. И когда, разувшись, пересекал босиком реку по песчаной отмели, то окончательно утвердился в принятом решении.
11
Проснулся почти в полдень. И сразу же окунулся в состояние, пережитое на рассвете. Мысленно воспроизвел найденную мелодию, попутно варьируя ее, снабжая различными нюансами, и удивился тому, как легко стала она обрастать новыми звуками. Появлялись новые линии, настойчиво просившиеся на бумагу. Кенжебай знал, что, записав их, он испытает чувство внутреннего освобождения, которое необходимо для разработки дальнейшего. Только потому и умирали в нем прежние замыслы, что он пренебрегал этим правилом.
Пошел в сарай, вытащил из чемодана нотные листы и торопливо стал наносить на них рожденную мелодию. Справившись с этим, вздохнул облегченно, сложил тетрадь и вместе с ручкой сунул ее в карман. Отныне они всегда должны находиться при нем.
Вышел во двор и впервые за все эти дни радостно посмотрел вокруг себя. Записанные в тетрадь мелодии, казалось, согревали ему сердце. Он чувствовал, что в состоянии превратить их в законченное произведение. Только надо без устали работать, искать. И это будет не просто кюй. Он станет его собственным духовным очищением. Он зазвучит приговором прежней непутевой и бестолковой жизни. Задуманный образ Злодея поможет ему очиститься и переродиться...
Кенжебай бросил восхищенный взгляд на темнеющую ивовыми и тростниковыми зарослями Калдыгайты, на Аккум, белым маревом тающий на горизонте, на приземистую гору Есенаман, на одетую в зеленое платье рощу Жашитал. Он понял, что после всех неурядиц и несчастий настала для него наконец полоса просветления.
Расположившись в тени дома и положив нотную тетрадь на колени, он, даже обедая, умудрялся вносить исправления в записанную мелодию.
Потом вошел в дом и вынес оттуда свою красную домбру. Хотелось проверить звучание отдельных мест мелодии. Вытер пыль, подтянул струны, стал настраивать для себя домбру, которую много лет не держал в руках. Извлеченные звуки показались ему писклявыми до визга. Струны ли иссохлись, или это все, на что был способен старый инструмент? Некоторое время Кенжебай все же пытался наладить домбру как следует, но вскоре понял неосуществимость своей попытки. Извлекаемые из ее чрева звуки отпугивали торжествующую в душе мелодию. Домбра упрямо гнула свое и, как неукрощенный жеребец, не желала слушаться воли исполнителя. Мелькнула мысль: а не попробовать ли воспроизвести мелодию на скрипке? Но от нее Кенжебай быстро отказался. Его замысел должен воплотиться в домбре, вот только прежде неплохо было бы заменить на ней струны. Красную домбру он отнес в сарай и прислонил к сундуку.
Стал ходить взад-вперед, раскачиваясь из стороны в сторону. И вдруг заметил, что голуби, сидящие в тени карагача, удивленно смотрят на него, вытянув шеи. Вспомнил о том, что давно не подкармливал их, и принес проса. Когда голуби накинулись на зерно, достал из чемодана серый блокнот и лег на тахту.
И с первой же открытой наобум странички глянул на него светлый лик Нурлытай...
— Ответь, когда исполнится задуманное мною?
— Что именно?
— Ну, то самое...
— Которое?
— Задуманное...
— Назови.
— Догадайся сам.
Мне показалось, что она хочет спросить о том, когда же мы наконец поженимся.
— И когда же оно исполнится?
— Через год, — ответил я шутливым тоном.
— Ну-у!..
— Через полгода.
— Ну-у!..
— Ладно, тогда через три месяца.
— Правда? — Она стала загибать пальцы. — Август, сентябрь, октябрь... Значит, в ноябре, да?
* * *
— Я так соскучилась по тебе. А ты?
— И я соскучился по тебе, Нурлытай.
— Сильно-сильно?
— Да.
— А я все равно соскучилась по тебе сильнее, чем ты по мне...
* * *
— Какая ты красивая, Нурлытай!
— Не говори, пожалуйста, так, не надо.
* * *
— Дома у меня есть папа и мама... Старшая сестра и двое братишек. А потом... сказать тебе, сколько у нас коров?
* * *
— Такое чувство, что, приближаясь ко мне, ты как бы отдаляешься все больше...
* * *
— У нас есть пески под названием Аккум...
— Так это же наш Аккум!
— Как так? Не может быть!
— Они еще издали похожи на развалины города?
— Да.
— И прежде там была ставка калмыцкого хана?
— Да.
— Там растут осина, береза и арча, да?
— Да.
— Тогда это наш Аккум! — и Нурлытай обрадованно рассмеялась. — Наш — твой и мой!
* * *
— Что он сказал?
— Он сказал: “Поедешь”.
— А что ты сказал?
— Я сказал: “Почему поеду — не поеду!”
— А что он сказал?
— Сказал: “Я сказал поедешь, значит, поедешь!”
— А что ты сказал?
— Сказал, что не поеду, не могу поехать.
— А что он сказал, а что ты сказал? А что он сказал, а что ты
сказал?..
* * *
— Уф-ф! Столько наговорила, что язык заболел!
Какой все-таки у нее замечательный голос, подумалось мне. Какая она красивая, когда смеется!
Каждое ее слово запоминается, каждый ее поступок откладывается в памяти, каждая улыбка находит отклик в моей душе, а ее тонкая, гибкая фигура и какой-то необыкновенно радостный, светлый облик всегда стоят у меня перед глазами — почему это так?
* * *
— Что там такое?
— Что именно?
— Да вон там!
— Где?
— Ну вот оно, вот!..
— Да я же ничего не вижу!
— Улетело уже.
* * *
— Ты обо всем забываешь, Кенжебай. Забыл даже о том, что на этом месте мы с тобой впервые прощались.
* * *
— Ты же ругал меня ночью?
— Как ругал?
— Что говорю много... Болтушка, мол.
— Не может быть!
— Ну да, скажи просто, что все забыл. Больше никогда не буду ночью разговаривать с тобой.
— Ей-богу, не помню! Когда это я говорил?
— Да ежедневно — по ночам!..
* * *
— Помнишь, я однажды поцеловала тебя вот так?
— Когда?
— Ну в прошлый раз, забыл?
— В какой прошлый раз?
— Когда мы возвращались от Куралай, вспомнил?
— Да-да, теперь вспомнил.
— Ты, оказывается, не запоминаешь мои внезапные поцелуи. А я твои помню, все до единого!
* * *
— В общежитии техникума мы жили впятером в одной комнате. Часто ломали голову над вопросом: что такое любовь? Сырга — она была самая красивая из нас — говорила: “Если у девушки привлекательная внешность, глаза, волосы и если за ней увиваются парни — это и есть любовь. — А потом добавляла: — Вот я, например, разве не стою любви какого-нибудь парня?”
Видела ее недавно. Вела за руку крохотную девчушечку. Спросила у нее между делом: “Помнишь, ты часто говорила о любви? Ну и как, поняла теперь, что это такое?” Она ответила: “Да ну ее к черту, думаешь, она есть? Вот она — любовь, — и она указала на дочку. — Живем, мыкаемся вдвоем”. С мужем, оказывается, разошлась...
* * *
— Учительница частенько задавала мне вопрос: “Ты любишь хлеб?” — “Люблю”, — отвечала я. “Вот так же ты должна любить и математику”, — добавляла она строго. А я, сколько себя помню, всегда любила историю...
* * *
— Ни с кем из девушек, кроме меня, не разговаривай так.
— Хорошо, не буду.
Помолчали оба.
— Совсем-совсем ни с кем?
— Совсем. Особенно с вертихвостками.
— Будет сделано.
— А когда с остальными будешь говорить, то не улыбайся при этом.
— Ладно.
* * *
— Очень хочется взобраться на вершину вон той горы. А потом отправиться к тем, видишь их?..
* * *
— Ты приятно пахнешь.
— А я улавливаю от тебя только запах “Агата”.
— Ты же куришь. Может, потому и не чувствуешь? Каждый человек имеет свой неповторимый запах, и маму я никогда не перепутаю с сестрой.
— Да ты просто привыкла к ним.
— Нет, с первого дня нашего знакомства я отличаю тебя по твоему запаху.
* * *
— Кенжебай, не ругай меня, пожалуйста!..
* * *
— Ничего нет хорошего в звучании этих слов — “моя жена”. Моя жена... Можно же сказать по-другому.
— “Моя жена” — это звучит хорошо.
— Нет, если и звучит, то малоприятно! Ну что хорошего — “моя жена...”?
* * *
— Никуда ты от меня не уйдешь! Я буду всюду следовать за тобой тенью!..
Кенжебай отбросил блокнот в сторону. “Надо же, и это, оказывается, записал! И без того ведь не забылось!” — воскликнул он в сердцах. Вспомнил, как в первый день, когда шел на Калдыгайты, эти слова преследовали его.
Однако вскоре размышления Кенжебая были прерваны стрекотом подъезжающего мотоцикла.
— Сагидулла не приезжал? — вместо приветствия спросил Сундет.
— Не было...
— В Егиндикуле видел недавно. Катил куда-то на своих “Жигулях”. Думал, может, к тебе заезжал.
— Нет, не заезжал.
— Видно, спешил.
Сундет посмотрел на него, сощурив глаза.
— Ну, рассказывай! Куда сам-то прошлой ночью пропал? Кинулись следом, всю улицу обыскали, с ног на голову поставили — как в воду канул! Не нашли даже следов твоих. Пузатый Кусаин обиделся: зачем он, мол, так поступил? Потом решили, что голова у тебя разболелась, невтерпеж стало в доме сидеть и ты отправился к родственникам, живущим у родника, ночевать. Но тебя там ведь не было! Куда же ты запропастился?
— И сам не знаю. Не помню, — выкрутился Кенжебай.
— Ну и ладно, вижу, целехонек, и то хорошо. А я ведь за тем и приехал, чтобы выяснить, жив ты или нет. Признаться, чувствую себя неважно. Из гостей ушли поздновато. Одну надежду лелеял — отоспаться, и то не дали. Чуть свет растолкал старик сосед. Видишь ли, понадобилось ему ехать в Коскуль. Будто другого транспорта, кроме моего мотоцикла, во всем селе не найти. Повез. Так, не опохмелившись, и повез. Правда, парой бутылочек по дороге разжился и, помня завет “поделись с ближним”, решил завернуть к тебе.
— Ну, для “лечения” тебе не обязательно распечатывать новую бутылку, — сказал Кенжебай, видя, как Сундет роется в багажнике. — Тут еще и во вчерашней осталось.
— Тащи и старые запасы — все в дело пустим.
То ли чтение блокнота подействовало на Кенжебая таким образом, что одиночество стало невмоготу, то ли захотелось уйти на время от тяжелых мыслей, только приезд Сундета обрадовал его чрезвычайно.
— Ты, оказывается, настоящий друг, Сундет! — признался он, когда они вдвоем приготовили чай и, присев к дастархану, выпили по первой.
— Не успел пригубить, а уже пьяный, да? — расхохотался тот.
— Нет, правду говорю. Только теперь убедился, — сказал Кенжебай.
— Ну, если и в самом деле другом меня считаешь, осмелюсь дать один совет. Послушаешь?
— Говори.
— Вот что я хочу сказать. Отбрось пустые разговоры и женись! Тогда все пойдет на поправку. И тоска от тебя отстанет, и в творчестве дела пойдут на лад. Короче, жалеть не будешь. Были же вчера в гостях симпатичные девчата. Да! А что? Говорил с ними, пытался вызвать на откровенность. Одна из них так отозвалась о тебе: вежливый, молчаливый, воспитанный парень. Каково, а?!.. Видит бог, неспроста она так сказала — приглянулся ты ей. Хочешь скажу, как ее зовут? — спросил Сундет.
Кенжебай покачал головой и отозвался довольно холодно:
— Нет, не надо. Может, они и в самом деле хорошие, только мне они не нужны. Не интересуют.
— Почему не интересуют? Чем это они хуже других?
— Я не сказал этого. Просто я их не знаю.
— Нет, ты скажи, что тебя в них не устраивает: улыбка, внешность, ум? — Разгоряченный Сундет окончательно вошел в роль свахи, будто ему поручили выдать этих девушек замуж во что бы то ни стало. Или это принятая доза ввела его в такой азарт?
Кенжебай помедлил с ответом.
— Другие девушки улыбаются, но в их улыбках нет огня. Говорят, но их слова не излучают радость, — задумчиво произнес он.
— Иными словами говоря, все они не чета Нурлытай, так ты хочешь сказать? — догадался Сундет. А потом, помолчав, добавил: — Так ты, оказывается, тоскуешь о ней! Может, это называется любовью, да? Лю-бовь!.. Она была и сейчас есть. И потом, после нас, будет. — Он сделал небольшую паузу и заговорил стихами:
Голос твой — журчанье родника,
А глаза — мерцанье огонька;
Золотой узор на платье вышит,
И в браслетах узкая рука.
Так ступает лань, как ходишь ты,
На устах твоих цветут цветы.
Веет ароматом яблонь майских
От твоей, о дева, красоты!..
Разве можно не влюбиться в такую?! Тысячу лет или тысячу дней назад жила она — нет разницы. Иногда кажется немыслимым, что в те далекие суровые времена существовала такая великая красота и женственность, что люди умели оценить ее по достоинству! Если бы наши предки, степные барды, не оставили бы свои живые свидетельства, мы, идиоты, никогда и не поверили бы в такое. Любовь вечна! И ты, чувствую, страдаешь именно от нее. Не знаю, ничего не могу сказать. Наверно, тебе следовало бы обо всем подумать прежде. Хорошенько подумать. А ты, видать, не удосужился этого сделать. — Он снова замолчал, а потом закончил словами: — Женщины — народ чуткий, нежный. Их нужно уважать, быть ласковым, считаться с их переменчивым нравом.
— И не допускать, чтобы они таскали нас на спине, когда мы напиваемся в стельку, — вставил Кенжебай.
— Да-а, и такое за нами наблюдается, — поддержал Сундет, не моргнув глазом и не уловив намека. — Женщины такие... — продолжал он размышлять вслух. — Они совсем особый народ... Стоит кому-нибудь надеть на палец красивый перстень или прийти в нарядном платье, стоит только зазвучать где-нибудь приятной мелодии — все тут же слетаются, точно бабочки на цветок. Почему? Ведь ни я, ни ты так не поступаем. Да потому, что созданы они иначе, чем мы. Мужчинам нельзя разговаривать с ними грубо, нельзя прибегать к силе в отношении к ним. Словами нужно объяснять. Делом. Примером. А нас, увы, на это часто не хватает.
— Я вижу, Калампыр действительно счастлива, раз вышла замуж за такого парня, как ты.
— Кто знает. И мы схватываемся иногда. Только ссора с женщиной не доводит до добра. Помню об этом и умолкаю первым. Ну и она тогда прекращает. А через час-другой разговариваем друг с другом как ни в чем не бывало. Иначе, наверно, и мы бы давно уже разошлись. Самая главная проблема здесь — это характер. И чтобы коса на камень не находила. А нынешняя молодежь женится, не успев понять друг друга, не успев притереться и притерпеться как следует. Поэтому так много разводов. Да и парни, в большинстве своем, падки только на женскую красоту. Конечно, спору нет, красота радует глаз. Но что мы понимаем под ней? Внешность? Вот для меня, например, красивая девушка — та, у которой добрый характер, которая держится с достоинством. Приятный характер и достойное поведение могут сделать из самой непривлекательной девушки красавицу... Отвлекся, да? Вот что я хотел сказать тебе: парням девичья красота ударяет в голову, как вино. И они совсем не задумываются о том, какой у девушки характер, как она ведет себя. Нет, разумеется, нельзя из всего этого делать вывод, что все красотки имеют скверный характер. Нужно уметь разглядеть избранницу... А когда разглядел, изучил, полюбил — тогда уже не обижай! Чего бы это тебе ни стоило — не обижай!..
— Ты давно это правило выработал или сейчас прямо на ходу импровизируешь? — спросил Кенжебай.
— Это мой всегдашний принцип, — ответил Сундет. — Изначальный.
— В таком случае, жаль. Парочка пунктов у тебя по чистой случайности выпала.
— Какие?
— Честность и ум, например.
— Ну вот!.. Значит, все мои разглагольствования ты слушал вполуха. Добрый характер — это и есть честность. А достойное поведение обуславливается наличием ума. Так или нет? Искать у девушки с неважным характером честность, а у девушки с недостойным поведением — ум, это...
— Шутки шутками, но ты, кажется, прав. Поэтому не стану спорить, — сказал Кенжебай. Затем с горячностью заговорил о том, что волновало его самого: — Знаешь, меня злит порой наше легкомыслие. Допустим, в кино или на эстраде появилась новая “звезда”. Мы смотрим на нее, раскрываем от удивления рот, закатываем глаза. Захлебываемся от восторга: луноликая Такая-то, неотразимая Такая-то... И за что только боготворим их? За внешние качества? А почему мы не превозносим наших подруг, ведущих тихую, как озерная вода, жизнь, не кричащих с помоста о своей честности и чистоте, о ласковости и нежности, которые не выставляют на всеобщее обозрение свои чувства и переживания?
Сундет поддержал его. Так, за разговорами, и не заметили они наступления вечера.
12
Под конец дня Сундет совершенно изнемог: едва успел приложиться головой к подушке, как тут же захрапел. Беспокоясь за изрядно выпившего друга, Кенжебай упросил Сундета заночевать у него.
Сам же он никак не мог заснуть. Когда Сундет только готовился ко сну, он задал ему вопрос:
— Слушай, а дедушка Егинбай еще жив?
— Жив-жив... Куда он денется. Крепкий старик — помирать не думает, — пробурчал в ответ Сундет.
Кенжебай обрадовался. В этих краях Егинбай был единственным человеком, умеющим изготовлять домбры и струны к ним. Даже тот красный инструмент, некогда сработанный им, несмотря на изношенный вид, еще хранил лучшие свои качества. Просто здорово, что старик жив и в добром здравии. Значит, можно будет наведаться к нему завтра за струнами.
Радуясь этому, он лежал и мысленно представлял, какие чудесные звуки польются из его обновленной домбры. Потом вдруг одернул себя, решив, что предаваться мечтам — пустая трата времени, и задумался над тем, что собирался он поведать струнам. Стал сливать в единую композицию разрозненные мелодии.
Луна освещала землю своим легким молочным светом. Кенжебай лежал на спине, глядя в небо. Беспокойные мысли окончательно отогнали сон, наполнив душу волнующими переживаниями. И вот, в унисон с ними, откуда-то из глубины сознания стали всплывать звуки. Сталкиваясь между собой, они превращались в стройную мелодию, которая то бурно вздымалась, как морская волна, то покачивалась и мелко вздрагивала, как вода в заводи. Отдавшись их власти, Кенжебай долго пребывал еще в этом загадочном состоянии.
Но в созданный его воображением диковинный мир звуков неожиданно вторгся резкий шум. Кенжебай вскочил на ноги и замер, уставясь на чердак, откуда шум доносился. Все свидетельствовало о том, что борьба там шла не на жизнь, а на смерть. “Голуби!.. Дикая кошка!..” — молнией сверкнула мысль. И он бросился к чердаку.
Едва успел завернуть за угол дома, как тут же столкнулся с пушистым зверем, держащим в зубах окровавленного голубя. Судя по комплекции, перед ним был кот. Их разделяло небольшое расстояние, но оба замерли. Кенжебай, продолжая неотрывно глядеть на хищника, медленно присел и провел по земле рукой в надежде отыскать что-нибудь. Этот слепой поиск ни к чему не привел, и тогда он, не выпуская зверя из поля зрения, скосил глаза в сторону. Поодаль валялась деревянная спица от тележного колеса. Едва потянулся, чтобы взять ее, как кот, словно ждущий этого момента, развернулся и бросился прочь. Кенжебай со спицей в руках погнался за ним. Заметил кота сидящим под кустом чия — тот с урчанием раздирал на куски свою жертву. Заметив человека, зверь поднял голову, облизнулся и с жадностью оглянулся по сторонам. Протяжным, противно-плаксивым голосом мяукнул несколько раз, будто жалуясь: “Ма-ло!.. Разве этим будешь сыт? Так, на один зубок!..”
Кенжебая охватило волнение: в мяуканье кота он уловил сходство с плаксивым мотивом, терзавшим его последнее время. Вот же она, та самая мелодия, которую он так и не смог извлечь из старых, изношенных струн домбры! Услышанные звуки, казалось, прояснили образ, тускло мерцающий перед глазами.
И вдруг Кенжебаю в голову пришла неожиданная идея: “У всякой домбры струны — из овечьей кишки. Но для моей цели они не годятся. Злодейство нужно изобразить с помощью струн, сделанных из самого злодея!”
Пятясь, дошел до угла. Бросил на землю спицу и побежал в дом. Включил свет в сенях, вошел в чулан, сорвал со стены ружье и, заряжая его на ходу, выскочил назад.
“Вот он — Злодей! Самый настоящий, кровожадный злодей!” — бормотал Кенжебай. Вспомнилась красношейка, ее рассыпанные по траве перья, жадный, рыскающий взгляд кошки, ее разинутая пасть и чудовищное “мяу!” Пожалуй, в прошлый раз он расправился всего лишь с мелкими хищницами, промышлявшими охотой на мышей. Жили в кошаре и не подозревали, что рядом, на чердаке, водятся беззащитные голуби, иначе бы от птиц давно ничего не осталось. Настоящий злодей — тот, теперешний. Это он привык кормиться свежей кровью...
Кенжебай торопливо обошел сенной сарай, выглянул за угол. Кот, похоже, разделался с голубем. Пригнувшись, он обнюхивал землю, вылизывая остатки пролитой крови. Потом снова поднял голову и противно мяукнул жалобным голосом: “Ма-ло!.. Разве этим будешь сыт? Так, на один зу-бок!”
И тут грянул выстрел. Кот, завизжав в последний раз, упал на том же месте, где и сидел. Кенжебай, перед тем как выстрелить, долго целился, выжидая удобный момент, когда зверь повернется к нему спиной. Боялся, чтобы дробинки не повредили кишки. Теперь кот был неподвижен.
Немного погодя показался Сундет, разбуженный внезапным выстрелом. Не обнаружив рядом с собой Кенжебая, он с криком побежал искать его. Успокоился только тогда, когда увидел друга у сенного сарая.
— Эй, что ты тут делаешь? Своим выстрелом ты чуть не вышиб из меня мозги! — пожаловался он. — Так ведь и спятить недолго!
— Но не спятил же! — рассмеялся Кенжебай. Расправившись с котом, он словно бы обрел прежнюю веселость.
— Это еще не известно. По крайней мере, понять что-нибудь я не способен.
— Пуглив ты, однако! Каким в детстве был, таким и сейчас остался.
— Да, испугался я здорово! Особенно когда увидел, что тебя нет рядом. Откуда мне знать, что ты встаешь среди ночи, чтобы поохотиться на кошек!
— Ну да, ты, конечно, первым делом решил, что я застрелился. Нет, дорогой мой, если ты считаешь меня слабаком, то глубоко ошибаешься. Я еще поживу. Докажу всем, что ничем не хуже других, что не подлец, не негодяй какой-нибудь! — сказал Кенжебай и хлопнул Сундета ладонью по голой спине.
— Ладно, а эту свою добычу ты кому посвящаешь? — спросил Сундет, указывая на растянувшегося во весь рост кота.
Кенжебай не стал излагать подробностей. Да он бы сейчас и не смог ничего объяснить вразумительно, а Сундет со своей больной головой — понять объяснений. Ограничился тем, что поделился своей идеей поставить на домбру струны из кошачьей кишки.
— Завтра повезешь меня в Егиндикуль к дедушке Егинбаю, — заключил он.
— Повезти-то повезу, но ты не найдешь его там, — отозвался Сундет. — Старик косит сено на берегу Калдыгайты. Уезжает утром, возвращается вечером, с полной телегой. Может, лучше его самого сюда привезти? Сейчас он косит где-то в районе Каракуги. А что? Утром похмелимся — и за ним. Хороший дед. Веселый дед. Добрый. Попросим — все сделает.
— Ну, хорошо. Пусть будет по-твоему, — согласился Кенжебай. — Только вот на опохмелку ничего, по-видимому, не осталось.
— Да, жаль! — вздохнул Сундет.
— Я в свое время и сам был не дурак выпить. Поздновато понял свою ошибку. Но ты, однако, пьешь больше моего, — усмехнулся Кенжебай.
— И то правда, нужно бросать, — не стал возражать. Сундет. — Раньше такого не было, в последнее время пристрастился. Ничего, дней через пять начнется уборка, все учителя сядут за штурвалы, и тогда будет не до водки. Ну а после, в течение учебного года, я ее и в рот не возьму.
— Поверим на слово, — сказал Кенжебай.
Они улеглись на тахту и на этот раз заснули почти одновременно.
13
Егинбая нашли в тальнике, на берегу Калдыгайты. Правда, не сразу, а путем долгих расспросов. Старик, как оказалось, находился в дальнем конце покоса. Еще не дойдя до него, Кенжебай и Сундет услышали характерное названивание косы о точильный брусок и вскоре вышли прямехонько на Егинбая. Старик, засучив рукава и лихо заломив шляпу, чудом державшуюся на самой макушке, трудился в поте лица. Кенжебая признал сразу.
— Эй, алмаатинец, как поживаешь? — крикнул он издалека. И, как был — с косой и точилом в руках, шагнул навстречу.
Поздоровались, разговорились. Видя доброжелательность старика, Кенжебай корил себя за то, что пришел к нему по делу, а не просто поприветствовать уважаемого человека. Да если б не домбра, он бы вообще не поинтересовался, жив старик или нет.
Задумка Кенжебая показалась Егинбаю стоящей.
— Молодец, что додумался. В прежние времена домбристы, говорят, так расхваливали струны из кошачьих кишок, такое приписывали им великолепное звучание, что даже достойных слов не находили для сравнения. А нынешние знаменитости овечьи да козьи струны вообще считают недостойными их великого искусства. Покупают в магазине рыболовную леску и играют на ней. Не рвется, не знает износа — и ладно, — покритиковал он современных музыкантов.
— Это не простая кошка, а дикая, — заметил Сундет.
— Что еще за дикая?
— А вот сами и увидите. То ли переселилась откуда, то ли подбросил кто, только обнаружил ее Кенжебай в окрестностях Жашитала.
— Ну и ну! — удивился старик. Потом, повернувшись к Кенжебаю, проговорил: — Раз специально за мной приехали, везите. Да, а посолить-то их догадались?
— Что посолить?
— Кишки, конечно. Так всегда делается: достают их из брюха и опускают в соленую воду. Тогда струны получаются крепкими и не рвутся. А что, не знали? — Старик рассмеялся.
— Откуда нам знать... Занесли в коровник и там бросили... И потом, резать кота как-то того... — растерянно пробормотал Сундет.
Старик догадался, что ни Сундет, и домашнюю-то скотину закалывающий с помощью других, ни тем более Кенжебай и не думали браться за нож, не то чтоб доставать кишки.
— Эх вы, интеллигентики, интеллигентики! — И Егинбай, покачивая головой, направился за своим пиджаком, висевшим на дереве.
Прибыв на место, старик живо взялся за дело: разрезал брюхо коту, достал кишки, опустил их в тазик с соленой водой. Посидев в тенечке, попив чаю, поговорив с “алмаатинцем” о том о сем, через два часа он вытащил их обратно. И пояснил: “Козьи кишки держал бы дольше, а для кошачьих — в самый раз”. Затем один конец завязал ниткой, приставил к нему тонкий прутик и стал выворачивать кишку наизнанку. Потом пропустил между двумя зачищенными стебельками чия, чтобы снять с кишок жировую пленку. Когда же пленка была снята, привязал один конец к веретену и стал скручивать и наматывать кишку так, как обычно прядут шерсть. После этого Егинбай велел Кенжебаю прибить гвоздь к жердинке, выступающей из-под кровли коровника, и привязал к нему один конец скрученной струны. Размотал ее постепенно и там, где она кончилась, попросил вбить другой гвоздь, на котором и закрепил второй конец упруго натянутой струны.
— Пусть до завтра побудет так. Потом, освободив один конец, намотай на ладонь. Только осторожно, не порви, — учил он Кенжебая.
Внимательно следившие за всеми манипуляциями старика Сундет и Кенжебай пришли в восторг от его искусства. Но Егинбай, как бы в ответ на их восхищение, произнес с усмешкой:
— Эх вы, интеллигентики! Да ну вас в одно место!.. Говорить-то вы мастера, а вот делать ничего не умеете.
Помыв руки, Егинбай положил щепотку насыбая за губу и сел в люльку мотоцикла. Попрощавшись с ним и с Сундетом, Кенжебай снова остался один.
Утренняя поездка к Калдыгайты в поисках старика, сам процесс изготовления струны отвлекли его от дум. Но сейчас прежние видения вновь возвращались к нему, ввергая в пучину беспокойства. Единственное, на что был способен Кенжебай в данную минуту, — это растянуться на тахте и отдаться во власть обуревавших его чувств. “Да, этот вот мотив раскрывает облик Злодея во всей полноте. Его-то и надо положить в основу кюя. Все остальные будут впадать в него или вытекать — подобно ручейкам... Перекликаться с ним. Для этого в первую очередь нужно все вчерашние отрывки привести в систему, выстроить их относительно главного лейтмотива, отобрать лучшие, поискать новые...”
Приведя в порядок свои мысли, Кенжебай повеселел. Встал, походил по двору. Вспомнив о голубях, бросил им горсть проса. Вскипятил чайник, напился чаю, после чего вошел в дом и поставил на радиолу пластинку с записями фортепьянных пьес Иоганна Штрауса. Лег на кошму и прислушался к задорно звучащей, жизнерадостной мелодии.
Взгляд его был устремлен на потолок тонущей в полумраке комнаты, и спустя некоторое время Кенжебай понял, что всякие посторонние звуки только мешают его собственным раздумьям. Выключив радиолу, он вышел из дома. Извлек из кармана ручку и нотную тетрадь, присел на край тахты и стал перекладывать на ноты только что проснувшиеся в его душе звуки.
Избавившись от них, он положил голову на подушку и несколько минут лежал, пребывая в состоянии полной отрешенности. И, словно бы против его воли, рука сама потянулась к изголовью, достала серый блокнот, и Кенжебаю ничего не оставалось, как углубиться в чтение. Листки блокнота вернули его в первые дни после свадьбы, к счастливой жизни под одной крышей, к прогулкам по усыпанным желтыми листьями аллеям...
* * *
— Душа моя!
— Это я, что ли?
— Ты! Только ты!
— Скажи: “До самой смерти буду говорить так...”
— Давай лучше не будем умирать!
— Нет, скажи: “До самой смерти буду говорить так...”
— Буду.
— Нет, милая моя, повтори слово в слово.
— Хорошо. До самой смерти буду говорить: “Душа моя!” А ты будешь меня до самой смерти называть “милая моя”?
— Да.
— Нет, слово в слово!
И я повторил — слово в слово.
* * *
— Я буду ежедневно звонить тебе после обеда.
— Почему?
— Потому что к концу работы ты устаешь...
* * *
— Давай договоримся умирать вместе, хорошо?
— Хорошо, милая моя. Договорились.
— Как, прямо сейчас?!
— Нет, не сейчас. Потом. Когда я стану стариком, а ты — старушкой.
* * *
— Я тебя тоже люблю. Ты мне говоришь: “У тебя красивые глаза”, “У тебя красивые брови...”
* * *
— Я же взглядом задала тебе вопрос, неужели не понял?
— Когда?
— Сейчас, только что? Ну-ка, угадай, о чем я спрашивала?
— Не знаю. Скажи сама.
— Я спрашивала: “Идет ли мне сидеть с ребенком на руках?..”
* * *
— Во сне я скакал на необъезженном коне, — сказал я.
— Значит, у тебя родится сын! — улыбнулась Нурлытай.
— У меня?!
— Нет, у нас двоих!..
* * *
“Уважаемый товарищ Рамазанов!
Все ли у вас в порядке? Не болеете ли? Вот и хорошо, я только этого и хочу, чтобы болезни обходили вас стороной.
Какие еще есть новости? Про обещание вовремя возвращаться с работы вы, конечно, забыли? В таком случае, я разберусь с тобой, милый, не далее как сегодня вечером.
Почему не приходишь пораньше? Скажи, бывают ли у тебя на работе такие моменты, когда ты совсем-совсем забываешь обо мне? Отвечай подробно — когда, как, почему?
Ну, приходи же поскорее! Придешь и поцелуешь меня восемьдесят восемь раз!
Очень хотелось тебе позвонить. Однако сдержалась, помня о том, что у тебя нет времени на телефонную болтовню. Знаю, как всегда скажешь: “Но ведь это же так и есть!” Да, так и есть. Только вот мне не терпится увидеть тебя поскорее! Как же быть?..
Вспомнила, что утром ты был какой-то невеселый. Почему?
Ты мой самый дорогой, самый бесценный друг, да? Ты — чуткий, участливый товарищ, да? Мне кажется, что ты для меня значишь больше, чем просто муж. Кто же ты мне в таком случае?
Обязательно постарайся найти ответ.
А теперь я пошла в магазин”.
* * *
— Тебе понравилась песня, которую я спела?
— Чудесная песня!
— Это ты чудесный. И красивый.
— Нет, это ты такая, Нурлытай.
— Ты — это же я.
— Правда?
— Да. Ты — это я. Я — это ты. На всем свете только ты да я!..
* * *
Вошла из прихожей в комнату. Улыбается. Прячет руки за спиной.
— Кенжебай, угадай, в какой руке?
— В правой.
— Подумай хорошенько.
— В правой.
— Ну, еще подумай.
— В... левой.
Нурлытай, улыбаясь, подошла поближе.
— Спрашиваю в последний раз...
— В правой, — не задумываясь выпалил я.
Она вытянула руки вперед: в правой — нож, в левой — ложка.
— И что это значит?
— Догадайся сам, — рассмеялась она и ушла на кухню готовить ужин.
А мне с самого начала было ясно: Нурлытай выясняла, сын у нас родится или дочь...
На этом записи в блокноте кончались. Скользнул глазами по последней фразе и отбросил его в сторону. Полежал, глядя в одну точку. Потом снова потянулся к блокноту, открыл на первом листе:
— Вон там — лужа!...
“Нет, лучше ни о чем не думать”, — сказал он себе и вскочил с места.
Поколебавшись немного, медленным шагом направился в сторону Калдыгайты.
14
До реки добрался, когда солнце клонилось к закату. Остановился на берегу, огляделся. Песчаный брод опустел. Остались только незначительные следы, свидетельствующие о веселом дневном купании: помятые тростники, вытащенные на берег водоросли, отпечатки босых ног, обрывающиеся у самой воды. Река, словно утомленная отсиявшим днем, лежала сейчас умиротворенная, позволяя ветерку управлять своими волнами.
И маленькие волны накатывались на берег одна за другой. Будто какая-то неведомая сила заставляет их покрепче прижиматься к прибрежной полосе, но потом, словно устыдившись своих нежных чувств, они нехотя отползают назад. И кажется, что широкая полоса белого песка облизывается после каждого их налета. Песок, давно насыщенный влагой, по-прежнему изнемогает от жажды. Только некоторым песчинкам удается увязаться за волнами и скользнуть в речную глубину. Песчаный брод и в одиночестве живет своей жизнью.
Кенжебай перешел на другой берег, углубился в заросли тростника и остановился возле той заводи, где прошлый раз ловил окуней.
Вода была теплая и мягкая, как бархат. Войдя в нее, дважды обогнул вплавь заводь, энергично работая руками. Доплыв до середины, полежал на спине, отдыхая. Выбрался на берег только тогда, когда заросли прибрежного тальника стали терять свои очертания, а на небосводе начали загораться первые звездочки.
По дороге, ведущей в Жашитал, направился домой. Преодолев некоторое расстояние, сел у обочины и закурил. Ни о чем не думая, слушал, как в водоемах, будто потерявшиеся ягнята, блеют лягушки, как, пролетая тенями над головой, каркают вороны, тоже направляющиеся к Жашиталу.
Потом встал и, сойдя с дороги, пошел прямо по ссохшемуся суглинку. И чем дальше уходил, тем большее беспокойство охватывало его. Почему-то неотступно преследовало чувство, что во тьме его подкарауливают лужи и что чей-то голос должен его предупредить: “Вон там — лужа!..” Он терялся в догадках, не в силах уяснить, что же общего было между тем городским вечером и этим — в окрестностях Жашитала...
На ту свадьбу, в небольшую столовую на улице Джангильдина, он отправился вместе с Ергожой. Заметил в окружении невесты стройную и гибкую, как стебелек, смуглую девушку и захотел познакомиться с ней. Оказалось, что ее зовут Нурлытай, что учится она на одном курсе с невестой.
Потом их рассадили в разных концах зала, и Кенжебай потерял девушку из виду. Увидел только тогда, когда объявили перерыв.
Он и его приятель в те времена довольно критически относились к танцам, которые, по их мнению, состояли только в том, что партнеры вовсю кривляются, стоя друг перед другом. Сами же они вполне довольствовались ролью наблюдателей. Однако, заметив в толпе Нурлытай, Кенжебай потянул Ергожу за рукав, и они вошли в круг танцующих.
Нурлытай совсем не кривлялась, как другие. Не отставала от ритма, но и не позволяла себе чересчур вычурных движений. Ее танец представлял собой нечто среднее между вальсом и фокстротом и был, по всей вероятности, ее собственным изобретением.
На объявленный следом вальс Кенжебай решил непременно пригласить Нурлытай. Подойдя, он назвал ее по имени, и девушка зарделась, удивленная тем, что незнакомый парень в шумной свадебной многоголосице сумел расслышать ее имя. И она пошла танцевать с тем, кому суждено было стать ее супругом, не подозревая о том, что через полгода состоится другая свадьба в этой же столовой, на которой уже они будут женихом и невестой.
Когда веселье отгремело, Ергожа отправился провожать знакомых девушек, а Нурлытай ушла вместе с Кенжебаем.
В то время она почти ничего не знала о нем. Не спросила, кто он: композитор, конструктор или просто один из тех, кто любит по вечерам полеживать на диване перед телевизором. Она пошла с ним, доверившись его искренним чувствам и полностью полагаясь на его чисто человеческую порядочность.
Да... Искренность в нем тогда была, да только кончилось все весьма печально. Человеком-то он оказался ее недостойным...
Днем, когда Кенжебай перечитывал блокнот, его вдруг обожгла одна мысль. Она не давала ему покоя и по пути на Калдыгайты, и позже, когда стоял у Песчаного брода, и когда плавал в заводи... Он пытался отогнать ее от себя, но она всякий раз упорно возвращалась, пока не прояснилась окончательно. Пока не вылилась в четкую форму вопроса: “А что, если поехать к Нурлытай и попросить у нее прощения?” Услышав это словно бы со стороны, Кенжебай вздрогнул, как будто наступил на горячий уголек. “Нет-нет, нельзя! Нельзя!..” — пробормотал он. Но его второе “я”, до поры до времени уклонявшееся от битвы, и не думало отступать: “Почему нельзя?” — “Потому... Я не могу поступать так. Раз дал слово, надо держать его”. — “Но то слово вырвалось у тебя сгоряча. Зачем связывать себя им? Ты ведь жалеешь...” — “Да, жалею. Но когда-то оно казалось уместным, правильным. Кто знает, может, и теперешние мои переживания — явление временное”. — “Ты уверен в этом?” — “Пока нет, но возможно, придет и уверенность”. — “Когда?” — “Когда-нибудь”. — “Смотри, как бы не оказалось поздно. Подумай. И так уже прошло пять месяцев со дня вашей разлуки”. — “Ладно, я и сам об этом знаю. Но что же мне делать?” — “Поезжай и извинись!” — “Что, упасть в ноги? Говорить, ошибся, мол... Я дурак, я...” — “Постой! К чему эти глупые слова? Просто скажи: “Прости меня, милая моя, за обиды, которые нанес тебе. Только теперь понял...” — “Хорошо. Допустим, я так и поступлю, как ты советуешь. А она мне в ответ: не могу, мол, простить, обида моя не прошла, да и какая гарантия, что в будущем подобное не повторится? Я, дескать, лучше буду жить одна. Ну и что тогда?” — “Она никогда не скажет так”. — “ Может сказать иначе. О том, что нашла себе парня по душе, что надеется на счастье... Как быть в этом случае?” — “Нет, это тоже пустые слова. Поверь, она страдает так же, как и ты”. — “А как мне быть с моей гордостью? С мужской гордостью?” — “Ты придерживаешься ложных ценностей. Признание своих ошибок не нанесет ей урона”. — “А что скажут люди? Завтра же пойдут разговоры... В глаза и за глаза все будут смеяться надо мной”. — “Не все. Только сплетники и глупцы”. — “Может, лучше написать ей письмо? Она всегда хотела жить в селе, так и я теперь живу в селе. Скажу, давай помиримся и начнем новую жизнь”. — “Что ж, неплохая идея”. — “Вот только как я произнесу слово “прости”?” — “Ну, разве это такая сложная проблема?” — “Нет, не смогу! Язык не повернется. Три раза повторял: разведусь, разведусь, разведусь... Все помню до мелочей. Даже интонацию собственного голоса помню. Говорил, что не отступлюсь от своего. И этого не забыл... Да, жалею. Но поздно — уже ничего не изменишь. Надо иметь в себе мужество отвечать за свои поступки. И все! Ни слова больше!”
Резко оборвав цепочку своих раздумий, Кенжебай прислушался к ночной тишине и быстрым шагом направился к дому.
15
Проснувшись утром, пошел в сарай и стал перебирать хранившиеся в чемодане бумаги.
Ночью он долго промаялся без сна. То сражение, которое он вел сам с собой, всерьез обеспокоило его.
“Отчего все так произошло? Откуда все эти мучения и терзания? Из-за чего я оставил работу и приехал сюда? Почему забыл о своей главной цели?” — вот те вопросы, над которыми он тщетно бился долгие часы.
Потом пришел к выводу, что все началось тогда, когда он остался наедине с самим собою и особенно когда проявил слабость и оглянулся, поддавшись какому-то дьявольскому искушению. Уступил — и свалился в море горестей. Угодил в самую середину. И вот, уносимый в водоворот, чувствует, как в легких кончается воздух.
Все эти ощущения были знакомы ему и по прежним временам. Они были порождены расширившимися от страха глазами Орик, слезами Каншаим, полным горечи взглядом Акжибек. Это чувство не раз стучалось к нему в сердце после разлуки с Нурлытай. И до того доконало его, что он был вынужден бежать в родные места. Да, он прекрасно знал силу этого чувства, его цепкую хватку!
Но знал он и то, как бороться с ним. Едва оно переходило в атаку, как Кенжебай спешил заключить себя в броню жестокости. Тогда ни Орик, ни Каншаим, ни Акжибек не беспокоили его. Ворота его крепости были на запоре. Одна лишь Нурлытай могла открыть их...
И вот вчера ночью он решил закрыть ворота не на один, а на целых пять замков, а ключи от них забросить в такое глухое ущелье, где их и сам черт не достанет. “Чтобы порвать с прошлым, нужно уничтожить все, что напоминает о нем”, — сказал он самому себе перед тем как заснуть.
К исполнению задуманного приступил с утра. Из вороха бумаг отобрал те, что подлежали уничтожению. Тут были авторские оригиналы его песен, письма, полученные в разное время от девушек, дневники и... серый блокнот.
Все сгреб в охапку и вышел из сарая. Отыскал в траве лепешки коровьего кизяка и, сложив в кучу, развел огонь. Сразу предать огню принесенные из сарая бумаги у него не хватило духу, хотя и понимал, что отступать нельзя. Некоторое время он сидел неподвижно, уставясь на костер, потом, переборов себя, взял в руки письма, написанные разными чернилами, разными почерками.
Первым попалось на глаза письмо Орик. Развернул, стал перечитывать отдельные места.
“Кенжебай-агай!
Какой приятной и неожиданной получилась наша встреча!
...Нам понравилась ваша скромность (тут Кенжебай усмехнулся), и общительность (покачал головой). Я поначалу краснела под вашими взглядами...
...Помните, как мы ели дыню?..
...Было бы нечестно заставить вас простоять всю ночь у окна...
...там ничего не было видно, только изредка мелькали огоньки небольших поселков; они появлялись и тут же исчезали...
...собирали выброшенные волной разноцветные ракушки... ...Во-первых, агай, извините за задержку с письмом. Во-вторых, не обижайтесь, что оно такое короткое. В-третьих...”
Это было первое письмо Орик. Следующим в пачке лежало второе.
“...стоит только подумать, что нужна была я вам для разового удовольствия...
...И если уж такие, как вы, способны унизить человека... ...Ждала от вас радости, счастья, любви, но все напрасно...”
Оба письма Кенжебай бросил в огонь и с побледневшим от напряжения лицом вглядывался в него до тех пор, пока листы не превратились в пепел.
Потом взял в руки красную тетрадь — дневник Каншаим. Раскрыл ее наугад и стал перечитывать.
“25 февраля. Эту фотографию подарил мне ты сам. Мне никогда не надоедает смотреть на нее. Сказать по правде, хочу стать твоим счастьем (смешно звучит, наверно). А разве легко подарить человеку счастье? Вот если бы не я, а ты стал моим счастьем...
Тот парень зовет меня на родину. Говорит, пожить бы с тобой лет десять, а там и умереть не жалко. А я... Мои глаза никого, кроме тебя, не замечают. А если и замечают, то смотрят вскользь. И я никакого чувства при этом не испытываю.
Что было бы, если б все любили так, как я? Но наши с тобой отношения по-прежнему туманны.
Иногда мне хочется подойти к тебе и выложить начистоту все, что мучает меня. Однако разве могу не посчитаться я со своей изначальной гордостью? Всю жизнь буду ждать тебя безмолвно. Не питая никаких надежд. Какое это мучение — ждать безмолвно и безнадежно целую вечность! Как чрезмерно тяжела подобная участь! Но понять меня могут только те, кто умеет любить по-настоящему. А таким парням, как мой земляк, не хочу приносить в жертву свои чувства. Не только чувств — простых слов для него жалко. Мне кажется преступлением любить тебя и улыбаться другим...
14 марта. Устала так, что едва притащилась домой. Сидела и думала о тебе. Гадала, когда вернешься. И тут кто-то постучал в дверь. Рассердилась, что нарушили мой покой, вспугнули мои мысли. Открываю — стоишь ты!.. От неожиданности потеряла дар речи. Будто молнией меня ударило. Ведь только сейчас собиралась открыть дневник и поговорить с тобой на бумаге.
Боже мой, даже...”
Красную тетрадь Кенжебай разорвал на две половинки и тоже кинул в огонь. На этот раз даже не стал смотреть, как вспыхнуло пламя.
Торопливо взял в руки следующий листок. Это было письмо Акжибек.
“Агатай! Что вы скажете, когда прочтете все до конца?..
...Наверно, в жизни моей печалей больше, чем радостей... И все же я хочу рассказать вам свою историю. О ней не знают ни родственники, ни друзья — рассказать им обо всем у меня никогда не хватит смелости. Только с вами я собираюсь поделиться своей тайной. Знаю, что рано или поздно она раскроется, и каково мне будет тогда смотреть вам в глаза!
...Раньше я никогда не пила, а тут дала себя уговорить и выпила несколько бокалов шампанского. Решила, ничего страшного не случится. Что было дальше — не помню... Очнулась спустя некоторое время — разбитая, растерянная... Так и осталась сидеть. Надо ли вам, агатай, говорить...
...Вот, агай, я ничего не утаила... Узнав о ваших чувствах ко мне, не захотела обманывать. Дала себе слово даже и не пытаться разжалобить вас своими слезами, просить сочувствия...”
Дальше Кенжебай читать не стал — бросил в огонь.
А вот и письмо Нурлытай, присланное ему в Джезказган.
“Кенжебай, милый мой!
Сейчас поздний вечер. Закончив дела по дому, села за письмо. Только вот не знаю, о чем писать...
...Ну что сказать... Обидного и неприятного я услышала от тебя много...
...Я тебя прошу, умоляю — не произноси никогда слов, оскорбляющих мое достоинство! Не приписывай мне того, о чем я даже во сне не помышляю! Не попрекай меня без всякой на то причины. Милый мой Кенжебай! Возможно, твоя жестокость объясняется твоей любовью ко мне. Но пойми же, ревность не принесет нам счастья. Постарайся понять. Ведь мы оба хотим дружной, безоблачной жизни, верно?..”
И это письмо отправилось в огонь следом за другими.
Когда же очередь дошла до серого блокнота, то решимость покинула Кенжебая. “Нет, его я не порву, — пробормотал он, — и тем более не сожгу. Он станет моим талисманом. Буду извлекать его на свет, но не иначе как в годовщину свадьбы. Значит, до шестого ноября больше к блокноту не притронусь. Клянусь в этом”.
С авторскими экземплярами песен было гораздо проще. Кенжебай презрительно окинул их взором и, не утруждая себя даже беглым просмотром, швырнул все в огонь.
Ему казалось, что в горячем пламени высохли все слезы, изводившие его душу тревогой, что превратились в золу слова, вносящие смятение в его мысли, что песни, порождение его бестолковой жизни, легким дымом уносятся в небеса. Итак, с памятью о прошлом было покончено.
Только серый блокнот Кенжебай отнес назад — завернул в белую бумагу, перевязал крест-накрест шпагатом и положил на дно чемодана.
Выйдя из сарая, мельком глянул на чадящий, потухающий костер. Потом, подойдя к тахте и растянувшись на ней, долго лежал, чувствуя в теле приятную усталость, словно тяжелый груз наконец-то свалился с его плеч.
От неожиданно подкравшегося к нему сна очнулся уже под вечер. Пора было заняться струной, над которой мастерски поработал вчера дедушка Егинбай. Освободив один конец растянутой на двух гвоздях струны, он осторожно намотал ее на руку, как и советовал старик.
Настало время проверить звучание инструмента. Кенжебай прижал пальцем левой руки один из нижних ладов на гладкой плоскости грифа, коснулся струны — и та зазвучала, да так, что показалось, будто мелодия, прежде подобная жеребенку со спутанными ногами, неожиданно вырвалась на свободу. Подкручивая колки, энергичными щипками он пробовал каждую струну в отдельности, и с каждым новым щипком на душе становилось все тревожнее. Издаваемые домброй звуки производили поистине ужасающее впечатление. Они как бы воскрешали в памяти образ отправившегося в преисподнюю злодея.
Пораженный таким началом, Кенжебай замер. Новый прилив вдохновения заставил его опять взять в руки домбру, и он с удвоенной энергией заиграл ту самую мелодию, которую считал лейтмотивом всего произведения. Путем неоднократных повторов добился наконец безукоризненного звучания. Цель была достигнута: плаксивые излияния злодея никого не могли оставить безучастным.
Теперь Кенжебай не сомневался в том, что замысел его нашел свое воплощение. Достал из кармана тетрадь, пробежал глазами записанные мелодии и снова потянулся к домбре.
Нерешительность его можно было понять. Главная трудность заключалась как раз в том, чтобы отдельные мелодии органично вплелись в лейтмотив, не теряя при этом самостоятельности звучания. Только спустя некоторое время, основательно намучившись, он понял, что рассчитывать на то, чтобы упорядочить все за сегодняшний день, явно не приходится. Пожалуй, будет лучше, если пока каждая часть прозвучит сама по себе, без связи с остальными. А дальше будет видно.
И стоило только Кенжебаю прикоснуться к струнам, как запертые в его душе мелодии дружно вырвались наружу.
Стремительными потоками неслись они из нутра домбры, зачаровывая своим неистовством. В этот момент Кенжебай чувствовал себя то землепроходцем, проникшим в гущу девственных лесов, то закоренелым бродягой, который, впервые очутившись в незнакомом городе, с удивлением озирается по сторонам. Эти картины возникали в его сознании как бы параллельно игре и совсем не мешали развитию мелодий. Потом пестрота их увлекла настолько, что поглотила все внимание, и Кенжебаю стало казаться, будто он уже не существо из плоти и крови, а некое чудовище, созданное из звуков.
И вдруг где-то поблизости, но слабо и не совсем внятно, послышалось:
— Мя-а-у!..
Кенжебай застыл удивленно, словно размышляя, уж не его ли домбра издала этот похожий на кошачье мяуканье звук.
— Мя-а-у!.. — четко и внятно донеслось из зарослей травы. Кенжебай обернулся и в свете выплывшей из-за туч луны увидел пару горящих зеленым огнем точек. И сразу же похолодело на сердце.
— Мя-а-у! Мя-а-у! — протяжно выводила кошка. А ему слышалось:
— Это же любимый мой плачет!
“Что за напасть такая? Разве я не уничтожил их всех до единой? А может, эта тварь и вправду ищет свою пару — того, убитого мною злодея? Но как она узнала, что в струнах домбры звучит его голос?! — Кенжебай со страхом посмотрел на заросли травы. — А что, если это... дьявол, о котором часто поговаривают старики? Вполне возможно... Смотрит не отрываясь... Разве простая кошка станет так смотреть на человека? — Кенжебай застыл в оцепенении, не зная, что делать: броситься на кошку или, наоборот, убежать и запереться в доме. — Если она не дьявол, откуда ей тогда известно о смерти кота? Значит, и тот был дьяволом? А может, все эти пятнистые твари и есть дьявольское отродье? Место подходящее, дом без хозяина стоит... Им только того и надо...”
Пронзительное отчаянное мяуканье вспугнуло его мысли. На этот раз голос походил на человеческий вопль. У Кенжебая лоб покрылся холодной испариной. Он не мигая уставился в горящие зеленые глаза, потом перевел взгляд на струны домбры, и неожиданно сознание его прояснилось:
— Какой я глупец! Это же никакой не дьявол, а обыкновенная дикая кошка! Ее приманило сюда звучанье струн, сделанных из кишок ее супруга-злодея!
Опомнившись, Кенжебай кинулся к хищнице. Та, пятясь, отступила, а потом, увидев, что человек собирается напасть на нее, побежала к сенному сараю. На бегу несколько раз подпрыгнула так, что чуть было не перевернулась через голову, но быстро обрела равновесие и оглянулась на преследователя. Ее яркие зеленые глаза напомнили две поставленные на ребро пуговицы. Пока Кенжебай замахивался, изогнутое дугой тело распрямилось и кошка исчезла в кустах.
Он постоял, прислушиваясь к шорохам, потом вернулся к дому, сел на тахту и надолго замер в нерешительности, не зная, плакать ему или смеяться.
16
Проснулся, когда солнце уже начало пригревать. Вспомнил приключившуюся с ним странную историю, и опять им овладело двойственное чувство: то ли она и в самом деле имела место, то ли была плодом воображения? В последнее время он что-то частенько сталкивается с такими вот загадочными явлениями, о которых и не подозревал раньше. Невероятным образом смешивались в его сознании прошлое, настоящее и будущее, границы между действительностью и вымыслом обозначались едва различимой линией.
За завтраком раскрыл нотную тетрадь и от начала до конца просмотрел все записи. К нему пришла уверенность, что настал момент, когда все нужно привести в систему, гармонично соединить между собой отдельные мелодии, после чего произведение приобретет законченный характер. Учащенно застучало сердце, увлажнились глаза. Его душа, вчера пребывавшая в печали, не отличавшая день от ночи, сегодня, напрочь забыв о прежних заботах, уносилась ввысь, окрыленная радостью.
Не выдержав, Кенжебай рывком поднялся с места. Ему хотелось смеяться, хохотать во все горло. Хотелось взбудоражить степь громким криком. Бежать со всех ног от своего одинокого жилища в Егиндикуль. И единственными свидетелями его нетерпения и восторга были удивленно поглядывающие голуби.
Ему едва удалось утихомирить свои чувства. Пометавшись бесцельно взад-вперед, выкурив несколько сигарет, он снова взобрался на тахту. Рука опять замелькала над тетрадью, соединяя воедино поспешно набросанные музыкальные фразы, вплетая их в общую тональность. В принесенную из сарая новую тетрадь Кенжебай, растянувшись на подстильке, брошенном поверх кошмы, стал все переписывать набело.
Это заняло немало времени. Основная линия, кажется, вобрала наконец в себя отдельные мотивы. Кюй приобретал плавное звучание, мелодии вливались в лейтмотив естественно, без грубых стыков и зазоров. К вечеру работа была завершена. Почувствовав, как у него вдруг потемнело в глазах, Кенжебай откинулся на подушку. Долго лежал, не в силах побороть овладевшую всем телом усталость. Потом набрал из колодца воды и, вытолкав из ведра лягушек, с наслаждением напился. Оставшуюся воду вылил на голову и сразу почувствовал себя значительно бодрее.
И снова домбра оказалась в его руках. Не спеша сыграл весь кюй от первой до последней ноты, изредка заглядывая в тетрадь. Под его пальцами мелодия изменялась, оживала, приобретала мягкость и серебристость звучания.
Сыграл еще раз — уже побыстрее, поэнергичнее. Когда стал играть в третий раз, сумерки сгустились настолько, что нотные знаки в тетради слились в единое пятно. Впрочем, Кенжебаю уже незачем было заглядывать туда — запомнившаяся мелодия и без того лилась живо и непринужденно. Полое нутро домбры исторгало из себя неожиданные и непривычные аккорды, наполняя ими всю округу.
...Вот появляется Злодей со своим леденящим душу мяуканьем. Вот задрожавшая от страха Жертва взмывает в высоту. Он устремляется за ней, но, не достав, падает вниз. И плачет от досады, скребя когтями землю.
Вот Злодей решает пойти на хитрость. Принимает облик тихого, безобидного существа, которое само нуждается в помощи и защите. Жертва, удивляясь, смотрит с высоты на странное превращение.
Нет, Злодей не отказывается от своих намерений. Но злобное мяуканье сменяется убаюкивающими, усыпляющими бдительность звуками. Однако со временем и они делаются оживленнее. Злодей продолжает осуществлять задуманное. Звуки кюя напоминают позвякиванье серьги, поблескивание бриллианта. Злодей то распластается на земле, то поднимет голову, и с каждым разом все больше светлеет, все больше ласкается. Удивленная Жертва садится неподалеку, смотрит с недоверием, отчужденно. Мяуканье делается все напористее.
Злодей решается ради своей цели на коварство. Плачет взахлеб, как обиженная сирота, жалуется на свою несчастную долю. Потом приникает к земле и бьется в конвульсиях, будто находится при смерти. Жертва, забыв обо всем, кидается к нему, хочет помочь. Но вот мяуканье делается жестче, как бы намекая на близость развязки, и нутро домбры наполняется трагическими нотками.
Убедившись, что Жертве не ускользнуть, Злодей отбрасывает маску беззащитности. С противным до отвращения мяуканьем он прыгает на нее. Но, всецело занятый своими помыслами, Злодей не замечает наблюдающую за ним Справедливость. И вот он уже подхвачен на лету, поднят высоко над землей и сброшен в глубокую пропасть. Начинается настоящая, а не притворная агония. И прерывисто, словно затухая, звучит его предсмертное:
— Мяу... мяу... мяу... мяу...
Таково было в общих чертах намеченное Кенжебаем содержание кюя.
Пытаясь придать более естественный оттенок заключительным аккордам, Кенжебай вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд, направленный в спину, и резко обернулся. Шагах в десяти от него светились два зеленых глаза.
— Мя-а-яу!.. — протяжно прозвучало из темноты, и это мяуканье точь-в-точь повторяло только что воспроизведенные домброй звуки.
Кенжебай вздрогнул как от удара молнии.
— Разве Злодей не получил свое? Я же своими ушами слышал его предсмертные стоны! — произнес он, не отводя тяжелого взгляда от неподвижных, отвратительно зеленых глаз. В нем еще продолжал звучать кюй, и сюжет, положенный в его основу, казался ему реальнее самой жизни. По крайней мере, провести сейчас границу между ними он был не в состоянии.
— Мя-а-у... — словно выговорила кошка. — Это же любимый мой плачет!..
И Кенжебай вдруг понял, что вчерашняя история повторяется.
“Нет, Злодей еще, оказывается, не полностью уничтожен! Выходит, я похоронил его раньше времени”, — подумал он, еле сдерживая приступ гнева.
— Мя-а-у... Это же любимый мой плачет!
Кенжебай осторожно отложил домбру.
— Ах, так это твой любимый плачет? Проклятье! Подожди немного... Потерпи! Сейчас ты встретишься с ним. Дай только сходить в чулан... Сиди, ни о чем не думай, не шевелись... — С этим бормотаньем и отправился Кенжебай за ружьем.
В чулане он света включать не стал, побоялся, что сидящая рядом с домом кошка всполошится. Ружье отыскал на ощупь, а вот с патронами вышла заминка. Пришлось чиркнуть спичкой, а огонек прикрыть ладонью. Обнаружив наконец патроны, он одним зарядил ружье, а другой засунул в карман и на цыпочках пошел к выходу.
Но, как оказалось, кошки и след простыл. Удивленный и огорченный, долго всматривался в темноту, пока вкрадчивое мяуканье не выдало в конце концов местонахождение зверя.
“Это же любимый мой пла-чет!” — стонала кошка где-то за коровником.
Кенжебай решил обойти коровник слева, чтобы помешать ей забежать в сенник или уйти в кошару. Заворачивая за угол, увидел, что кошка поспешно направляется к островкам чия. При свете луны можно было разглядеть ее сытые, округлившиеся бока.
Она остановилась у ближнего куста и сверкнула глазами в сторону Кенжебая, бегущего следом за ней. Их разделяло шагов шестьдесят, и поэтому он боялся промахнуться, стреляя дробью с такого расстояния. Нагибаясь как можно ниже, прячась за кустами, Кенжебай старался подкрасться к кошке поближе.
— Посиди, посиди... Сейчас...
— Мя-а-у! — плаксиво произнесла она. — Милый мой — ау!..
— Говорю же, потерпи! Не спеши. Дай только сделать мне “пах-пах”, и тогда... Тогда ты увидишь, как прямо над тобой разверзнется небо и появится белая-белая дорожка. В конце ее будет ждать тебя твой любимый...
Подкравшись к зарослям чия, Кенжебай выпрямился, держа ружье наизготове. И снова негодяйка ускользнула: то и дело оглядываясь и поблескивая при этом зелеными глазами, она уходила к следующему островку. Похоже, эта кошка никогда не даст догнать себя, если не маскироваться как следует. И Кенжебай решил дальше передвигаться ползком.
Не спуская глаз с куста, возле которого хоронилась кошка, он пополз по зарослям полыни. Через некоторое время приподнял голову. Кошка сидела примерно в тридцати шагах от него, но, заметив человека, пошла прочь. Кенжебай понял, что допустил оплошность. Кляня себя за опрометчивость, пополз дальше.
Трава больно царапала колени, локти, но он, не обращая внимания на это, с удвоенной энергией двигался сквозь кусты полыни, которые уже превратились в непролазные заросли. Ремень от закинутого за спину ружья сдавливал шею, и Кенжебай остановился, чтобы перевести дыхание. Пригнув голову, глянул вперед.
— Мя-а-у!
Самой кошки, сколько ни всматривался в темноту, увидеть так и не смог, но по ее мяуканью догадался, что направление выбрал верное. И тут ему в голову пришла мысль — дерзкая, даже несколько абсурдная: “А что, если на ее зов ответить тем же? Если мое “мяу” будет ничем не хуже, то она, вполне возможно, и приблизится ко мне”. Он откашлялся и мяукнул по-кошачьи, но первая проба получилась явно неудачной. Хриплый голос звучал отпугивающе. Кенжебай прочистил горло и мяукнул трижды подряд. Последние звуки удовлетворили, похоже, не только его.
— Мя-а-у! — донеслось из темноты.
— Мяу... — ответил Кенжебай. — Мяу... Мяу...
На этот раз кошка не отозвалась.
Он прополз несколько десятков метров, снова посмотрел вперед и даже вздрогнул от неожиданности: сидевшая в двух шагах от него кошка бросилась прочь.
Разозлившись, что все его старания пропали даром, Кенжебай вскочил на ноги. Теперь ему терять было нечего, и он, не разбирая дороги, кинулся следом за беглянкой. Но стоило той остановиться, как Кенжебай вновь припал к земле.
Полз, с трудом переводя дух, и в конце концов почувствовал, что силы его на исходе. Несколько минут полежал, уткнувшись в траву, и пополз дальше. Заросли полыни кончились, теперь под ним был суглинок, поросший молочаем. Пристально вглядевшись вперед, он заметил под ветвистым кустом, на значительном расстоянии от себя, два зеленых глаза, похожих издали на заночевавших на ветке бабочек. В том, что это кошка, Кенжебай нисколько не сомневался. Выйдя из терпения, он решил тут же покончить с ней и потихоньку стал пододвигать к себе лежавшее рядом ружье.
Прицелившись, Кенжебай прочистил горло и, смягчив голос, постарался как можно противнее выдавить из себя:
— Мя-а-у...
Две застывшие под кустом бабочки подлетели вверх, и в ответ послышалось плаксивое:
— Мя-а-у!
“Она услышала меня! Откликнулась! — обрадовался Кенжебай. — Жаль, что я не понимаю кошачьего языка. А вдруг она сказала: не верю, мол, что ты мой супруг, да и голос у тебя совсем другой. А может, и так: “Не обманешь меня. Ты — мой враг. Где прячешься?” Но если она догадывается, что я ее враг, то почему не бежит со всех ног? Скорее всего, она действительно не знает, можно мне верить или нет. Значит, надо постараться мяукать подостовернее. Надо вложить в свой голос определенную мысль...”
— Мя-а-у! — произнес он, а сам в этот момент подумал: “Подойди сюда, милашка! Ну же, смелее!”, и снова повторил: — Мя-а-у! — вкладывая в свое мяуканье такой примерно смысл: “Я же твой супруг. Неужели не узнала?” — Мя-а-у! — “ Я так соскучился по тебе!” — Мяу!..
— Мя-а-у! — раздалось в ответ.
— Мя-а-у! — не замедлил отозваться Кенжебай.
— Мя-а-у!..
— Мя-а-у!..
И тут он увидел, что две зеленые бабочки запорхали, приближаясь к нему. Решив удостовериться, что глаза его не обманывают, Кенжебай, снедаемый нетерпением, резко поднял голову.
— Мя-а-у! — позвала дикая кошка и при виде человека остановилась.
— Мя-а-у! — ответил ей Кенжебай — теперь он уже сидел на земле.
— Мя-а-у!..
— Мя-а-у!..
Кенжебай словно забыл, зачем он затеял всю эту игру с кошкой. Даже на ружье не взглянул ни разу. Казалось, его увлек сам процесс, мелодичность собственного голоса. Войдя в азарт, он мяукал со все большим увлечением. И если бы все это происходило не при лунном, а при солнечном свете, то со стороны вполне можно было бы заметить, как заблестели от безотчетного наслаждения его глаза...
И вдруг кошка бросилась от него: видно, Кенжебай перестарался. Поняв свою оплошность, он устремился следом. На этот раз кошка почему-то изменила направление и бежала не в сторону степи, а, наоборот, к дому.
Добравшись до ближайшего куста чия, она оглянулась на своего преследователя. “Эх, — прошептал Кенжебай, — зря упустил свой шанс. Одним выстрелом уложил бы наповал!”
Стараясь не шуметь, он пополз вперед. И тут чей-то тихий голос позвал его:
— Кенжебай!
Он испуганно поднял голову, и кошка, словно только и ждала этого момента, пулей сорвалась с места.
“Ну и хитрющая! — подумал Кенжебай. — Я тут мяукаю на все лады, чтобы приманить ее, а она взяла да по-человечьи заговорила! Нет, милая моя, нет тебе спасения: куда ни пойдешь — я всюду следом, не отставая...” — И, вскочив на ноги, Кенжебай побежал за кошкой.
Потом снова упал на землю, учащенно дыша. Падая, успел заметить, что и беглянка остановилась. От беспорядочной погони, от ползанья у Кенжебая в ушах стоял шум, а в висках, да и во всей голове, словно стучали молоточки. Временами темная пелена заслоняла от его взора залитые лунным светом окрестности и свинцовая тяжесть во всем теле не давала подняться. Собравшись с силами, он хотел было ползти дальше, но тут кошка снова неожиданно произнесла человеческим голосом:
— Кен-же-бай!..
Он вздрогнул, но быстро взял себя в руки и, скрипя зубами, прошептал:
— Вот злодейка проклятая! Этот номер у тебя не пройдет! Не поддамся на колдовство.
— Кенжебай! Кенжебай! — Теперь уже в голосе явственно проступила просительная интонация.
Он прижался к земле. “Нашла дурака! Можешь сколько угодно прикидываться!”
— Мя-а-у! — произнесла вдруг кошка. Наверно, потеряв надежду, она снова перешла на свой язык.
— Мя-а-у! — в тон ей ответил Кенжебай, подумав при этом: “Иди-ка сюда, вот он я, видишь?” — Мя-а-у!... — “Да ты хоть на глаза мне покажись...
— Мя-а-у!
Сомнений не было: кошка, откликаясь на его зов, снова приближалась к нему. Довольный Кенжебай беззвучно рассмеялся. Как-никак, он все-таки обхитрил ее, не поддался на колдовской обман.
— Мя-а-у! — жалобно мяукнула кошка. Казалось, она где-то совсем неподалеку и теперь прислушивается.
— Мя-а-у! Мя-а-у! — поспешно отозвался Кенжебай, стараясь придать своему голосу оттенки помягче, поплаксивее.
На некоторое время установилась полная тишина, и вдруг кошка, подойдя почти вплотную, позвала:
— Кенжебай!..
И не громко, как прежде, а шепотом.
Он вздрогнул и вжался в землю. “Нет, не обманешь! Не обманешь!”
— Кенжебай, это же я! Подними голову, посмотри!..
“Черта с два, злодейка проклятая! Нечистая сила! Прочь! Все равно не поддамся! Я тебя не слышу. Не слышу!..”
Лбом упираясь в ружейный приклад, он зажал ладонями уши и продолжал лежать неподвижно. И тут случилось нечто неожиданное: чья-то теплая, мягкая рука дотронулась до него и обвилась вокруг шеи. Кенжебай закричал от ужаса, схватил ружье, но, открыв глаза, увидел рядом с собой красивое женское лицо, залитое лунным светом. Увидел и замер, признав в знакомых чертах свою Нурлытай.
У него задрожали руки, подбородок, и он, как подкошенный, упал в ноги жены.
— Пожалуйста, Кенжебай, не плачь, не плачь. Прошу тебя, не плачь! — просила Нурлытай, сама заливаясь слезами.
— Милая моя, неужели это ты? Неужели это не сон? — повторял Кенжебай, рыдая.
— Я так испугалась. Что ты здесь делаешь? — спросила Нурлытай всхлипывая.
— Ловил кошку... Дикую... Потом все расскажу... — ответил Кенжебай зацеловывая ее.
Из темноты послышался мужской голос:
— Эй, куда вы все подевались?
Это был Сагидулла. Оценив обстановку, он не стал подходить близко, а остановился на некотором расстоянии.
— Может, все-таки пойдем домой? Что же здесь, в глухой степи, сидеть-то? Мать беспокоится... Отец тоже... Эй, Кенжебай, что с тобой происходит? Прекрати реветь! И не стыдно тебе, мужику? Собирайтесь, пошли! Кенжебай, Нурлытай, слышите?..
В ночной тишине его голос, казалось, взбудоражил всю округу. Но те, к кому относились его слова, не обращали на них никакого внимания.
— Ну и ну! — Сагидулла, подбоченясь, смотрел на них с нескрываемым удивлением. Затем, будто приняв срочное решение, сказал: — В таком случае, поступайте как знаете. Я поеду — сдерну Сундета и Калампыр с постели и привезу сюда. А вот уж насчет чая придется вам побеспокоиться.
Быстрыми шагами Сагидулла направился к дороге.
— Эй, пузатого Кусаина тоже прихвати! — весело крикнул вслед ему Кенжебай, поднимаясь во весь рост.
Нурлытай улыбалась, хотя слезы по-прежнему стояли в ее глазах.
— Пойдем ли мы в гору Есенаман? — спрашивает она нежно обнимая мужа.
— А как же!
— А в Аккум?
— Обязательно!
— А когда искупаемся в речке Калдыгайты?
— Завтра же утром!..
При свете луны они вытирали друг другу мокрые лица...
Спустя некоторое время у дома, все окна которого светились в ночи, послышался шум заработавшего мотора. Машина Сагидуллы медленно сдвинулась с места и, постепенно набирая скорость, скользя по обочинам лучами фар, помчалась в сторону Егиндикуля. Вскоре она исчезла из поля зрения, затерявшись на пересеченной местности.
А из трубы земляного очага во дворе дома замелькали языки пламени.
1980.
Перевод Лидии СТЕПАНОВОЙ.
Пікірлер (0)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Волейбол ойыны
- Күн сияқты күлімдейтін жандар
- Кітап оқудың адамға пайдасы
- K-drama фанаттары: әлеуметтік желідегі қауымдастықтар мен трендтер
- Стрессті азайту жолдары
- Қоғамдағы өзекті мәселе – суицид
- Цифрландыру адам өмірін қалай жеңілдетті?
- Фильмдердің адам психологиясына әсері
- Ажырасу казіргі проблема
- Жастар арасындағы әлеуметтік желіге тәуелділік
- Алматының ауасы дабыл қағуда
- Ақпарат көп, бірақ ақыл аз: XXI ғасыр парадоксы
- Уақыт бар, үлгерім жоқ
- Мұхтар Мағауин — ел есінде
- Алаш аманаты
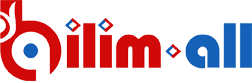


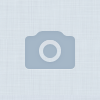
- Хилон
- Платон
- Илон Маск
- Фирдауси
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі