Моя мать
― Ну, давай, мой озорник, вставай! Дел невпроворот ― сон как рукой снимет. Вещи валяются где попало. Огонь в очаге вот-вот погаснет. Дрова нужно занести, и теленок до сих пор на привязи… А я выйду пораньше ― наша арба уже подъехала. Ну, мой хороший, я пошла, а ты будь со своими вещами поаккуратнее…
Шла трудная послевоенная пора. Торопливо наговорив кучу подобных поручений, моя мать уходит из дому. Для меня такое пробуждение не было неожиданным ― давно привык. Рутинное начало дня, ставшее усвоенной с малых лет традицией, привычной и для слуха. Возможно, по этой причине о всех «трудах», возлагаемых на меня матерью, я слушаю лежа, накрывшись с головой и спрятав лицо в теплом одеяле, будто бы никак не могу прервать свой сладкий сон. Да и будит она так, словно укачивает, и мне потом еще долго хочется лежать в томной дреме.
Что касается матери, спешку она обратила в свою ежедневную привычку. Вечно торопится, как будто без нее колхозная работа остановится. Ее суетливость не знает границ особенно в те дни, когда она печет хлеб или затевает стирку. Оставив второпях дом неприбранным, мама убегает, хватая на ходу рукавицы, нож или что-то другое, необходимое для работы. Уходит засветло, в ту пору, когда во время уразы принято открывать постный день, а по дороге непременно спотыкается о какое-нибудь ведро или медный кувшин, создавая невообразимый шум.
В принципе, я никогда в жизни не видел, чтобы она выходила из дому спокойно, беззаботно шагая вразвалочку. Мать всегда спешит как на пожар. Вот и сейчас, повязав на ходу платок, волоча по земле кетмень и лопату, она направилась к подвозившей работниц арбе, которая поджидает ее на той стороне трассы.
Похоже, забыла дома пояс, обычно затягиваемый на талии, потому как дующий в лицо ветерок с легкостью задрал ей платье и обнажил ноги. «Я скорая на подъем», ― говорит часто мать, вот, видимо, и забыла второпях…
Вся эта спешка и суета сменяется в ней покоем лишь тогда, когда она усядется наконец на телегу и, подставив лицо ласковому ветру, отправится в путь к месту работы. А если так, разве придет ей в голову мысль, что можно возвратиться за забытой вещью?!
Находиться среди подруг с повязанными на лбах платками, чьи лица покрыл густой, темный загар, и вместе с ними, обливаясь на солнце потом, не зная устали, очищать от ботвы грязную свеклу ― это для моей матери истинное наслаждение жизнью…
Светлая моя, она и сейчас такая. Когда мама, скинув старый бешмет и засучив рукава, приступает к горячей работе, вся невольно преображается, как вдохновенный акын, к которому пришло озарение; напоминающая паутину сетка морщин почти разглаживается, а загорелое лицо начинает искриться каким-то воодушевленным светом.
Хотя и настигла ее старость, она не собирается с нею мириться, не покоряется ей; уже одна ее энергичная походка ― плод неистощимого удовольствия, которое она испытывает в любой работе. Да, эта влюбленность в дело впиталась в кровь моей матери с юных лет и с годами, когда она повзрослела и стала сознательной, только усилилась. У меня нет ни малейших сомнений в ее великой, не поддающейся измерению любви к труду, ведь всю свою жизнь она честно и неутомимо работала. По сути, мне думается, эта ее любовь к кипучей жизнедеятельности ― святая.
…Вот она, заслонившись ладонью от слабеньких лучей поднявшегося над невысокими холмами утреннего солнца, стоит у края выделенной для нее свекольной кучи. На листьях свеклы, как поблескивающий в ее глазах огонек жаркого вдохновения, посверкивают жемчужины утренней росы, начинающей испаряться под мягкими лучами. Ощущать это знакомое испарение, исходящее запахом ботвы, ― это тоже ни с чем не сравнимое для нее удовольствие.
Скинув верхнюю одежду, мать присаживается рядом с кучей только вчера собранной свеклы. Чтобы приноровиться и не погасить первоначальный темп, она сперва обозревает взглядом предстоящий объем труда. «Глаза боятся ― руки делают. Ну, с богом! Бисмилля!..» И приступает к работе. Без перерывов до позднего вечера…
Нет, пожалуй, я немного отступлю: пусть мой рассказ начнется с более ранней поры.
…События, о которых пойдет речь, происходили в последние годы Отечественной войны. Тяжелое для страны время, пора испытаний и всеобщей нужды. Мы тогда жили в глухом уголке, в небольшом, расположенном на отшибе колхозе «Кербулак». Все тяготы военного лихолетья в тылу легли на плечи согбенных стариков и неокрепших подростков. А молодые женщины, оставшиеся без сражавшихся на фронте мужей, стали главной опорой аула: любая тяжелая работа проходила через их трудолюбивые руки.
В ту пору я каждый вечер не засыпал до половины второго ночи в ожидании возвращения матери с работы. В доме холодно, я сижу в одиночестве. Снаружи завывает пронизывающий до костей, холодный осенний ветер. Под ложечкой сосет, в глазах темно от голода, я жду мать и пугливо прислушиваюсь к каждому резкому звуку. В доме нет, на худой конец, даже пары горсточек муки, а мне так хочется поесть хлеба.
После долгого ожидания с шумом раскрывается наружная дверь, и в дом входит мать.
― Сердечко мое сладенькое, ты до сих пор меня ждешь?
Ее ноги исполосованы темно-красными, как спелая вишня, кровоточащими царапинами. Привычная картина ― в дни полива на полях схватывается тонкий осенний ледок, который безжалостно режет оголенные икры, покрывая их кровавой решеткой царапин.
― Найди мне хлеб, я хочу хлеба покушать!
― Жеребенок мой, какой еще хлеб… Лишь бы всевышний не поскупился для тебя на здоровье, даже если пошлет нам одна воду. Вот победим Германию…
― Я голодный, хочу хлеба поесть, хлеб хочу!
Мать, заметив, что я начинаю злиться, а глаза у меня темнеют, хотела успокоить, обняв и прижав к себе.
― Не надо! Мне от тебя ничего не нужно, только хлеб найди!
― Озорник мой, да где же я тебе найду то, чего нет?!
― Хлеб хочу… хлеб, хлеб, хлеб!..
― Как же я люблю твои блестящие глазки! Ты так сильно проголодался?
Я пулей вскочил, оттолкнул стоявшую перед дверью мать и выбежал на улицу.
Темно, ни зги не видно. Злой студеный ветер тут же обвился вокруг моего лица, ног и, подталкивая в спину, стал гнать вперед. Хотя я и сам толком не понял, зачем выскочил из дому и куда теперь направлюсь, все же сорвался с места и побежал, как будто принял какое-то твердое решение.
Неожиданно нога обо что-то споткнулась, и я упал навзничь. Однако даже не попытался встать, и ни одна слезинка не выкатилась из моих глаз. Под короткую рубашку пробирался холодный ветер, но я лежал на морозной земле, пока спина окончательно не заледенела.
Спустя немного времени послышался вперемешку с рыданиями отчаянный зов матери, выбежавшей на мои поиски. Я только крепче стиснул зубы и молча лежал, пока она не наткнулась прямо на меня.
Вернувшись домой, мы не проронили ни звука. Съежившись от холода, улеглись в постель. Мать даже слова не сказала, молча лежала рядом, поглаживая ладонью мои взъерошенные волосы. Будто злясь на кого-то, я беззвучно лежал с крепко сжатыми зубами и под горячими материнскими слезами, капавшими на затылок, незаметно уснул…
Когда позднее, став уже взрослым мужчиной, я размышлял об этом случае, понял, что это и есть по сути мое детство. Возможно, безрадостная, голодная пора моего раннего детства ― это и мои отданные фронту кровь и пот. А жестокие страдания, причиненные мной невинной матери, от которой я требовал то, чего нет, ― это, наверно, мое проклятие войне.
Но как же я восхищен своей мамой ― никогда не смогу забыть проявленную ею в тот раз выдержку. Наутро, как только встала, она заговорила со мной так ласково, будто ночью ничего не произошло, и так беззаботно, словно все в доме сыты и довольны:
― Мои ненаглядные темные глазки, тополек мой единственный, родной мой, вставай! А я тебе кашку из жареного толокна сварила, ― радостно объявила она и крепко-крепко меня расцеловала...
По-видимому, она всегда боялась, что мое и без того раненное детское сердечко будет страдать, во всяком случае, в дни нужды и тяжких страданий она ни разу, ни на одну из моих выходок не выказала обиды, ни одну из моих шалостей не встретила сердито нахмуренными бровями. Что бы ни случилось, на ее обветренном загорелом лице я видел лишь ласковый и теплый свет, напоминающий мягкие лучи восходящего солнца.
Считая меня равным себе человеком, она часто советовалась со мной, спрашивая: «Как ты думаешь, а если мы с тобой вот так сделаем?..» Кроме того, по-настоящему одаривая меня своим неунывающим жизнелюбием, мудро поучала: «Настанут и для нас светлые дни, просто надо чуточку потерпеть».
…Словно голодный волк, задравший овцу, я набрасываюсь на скудный завтрак и, обжигая пищевод, жадно глотаю горячую толкушку на дне миски.
Вероятно, эта картина камнем ложится на сердце матери ― она застыла, впившись глазами в одну точку, как будто молча проклинает войну, которая довела людей до такого состояния. Спустя минуту, опомнившись, она взлетает с места и, перевязав набухшие, воспаленные икры, спешно собирается на работу.
― Зачем ты выходишь на полив, снова ведь ноги в кровь изранишь?
― А что же делать, сынок, разве сейчас время выбирать работу? Когда ваши отцы проливают кровь, и нам негоже от дел отлынивать. Если придет мир, за один день все не переменится, думаешь, все так просто?
* * *
Прошла уже целая неделя, как я не видел мать. Когда начинается сбор урожая, голову некогда повернуть, так что в последующие дни работа в колхозе из-за своей неотложности стала круглосуточной. Женщины-свекловоды вообще не возвращались с поля, забыв о том, что у них есть дом. Неутомимо трудились весь день, весь вечер и даже часть ночи под тусклым, сероватым светом луны. Вздремнув несколько часов в сооруженных на краю поля шалашах, они в кромешной темноте, задолго перед осенним рассветом, в непривычный для человека час, снова стекались к месту работы.
«Смотрите, чтобы свекла под снегом не осталась!» ― призывали часто наезжающие районные руководители, и женщины без передышки, не жалея себя, работали, то ли опасаясь гнева начальства, то ли в искреннем порыве, поскольку воистину сердцем ощущали нависшую над страной беду. Все они были зрелыми, выносливыми и сильными. Но даже немощные аульные старухи с дрожащими руками старались, чем могли, оказать посильную помощь: если у какой-то из женщин некому было позаботиться об оставшемся без присмотра хозяйстве, они спешили туда, выдаивая одну-две овцы либо коз, а молоко, чтобы не испортилось без хозяйки, кипятили или заквашивали.
…Я крепко спал, даже не помню, как проснулся, но разбудила меня суета в передней. Уже встало серое утро. Судя по тому, что по окну бегут струйки воды, на улице льет дождь. «Как здорово, наверное, апа в такой ненастный день останется дома!» ― мелькнуло у меня в голове.
Из другой комнаты донеслись незнакомые голоса каких-то чужих людей:
― Значит, положение у вас неплохое… А малыши не голодают, сколько у вас детей?
― Один у меня озорник, если все сложится благополучно, он уже скоро совсем взрослым станет. Думаете, будет жаловаться на трудности ― ни за что, он ведь у меня джигит!..
― Это хорошо, тем не менее, чтобы не голодал, мы хотим помочь ― чем можем на сегодня. Вот, решили распределить между семьями, где есть маленькие дети, небольшие запасы пшеницы, что остались в амбарах, поэтому и обходим дома ― хотим составить поименный список. Это всё ради наших солдат, отцов, воюющих на фронте, ради их детей ― будущего аула. Так что немного попозже приходите в контору.
― Единственного ребенка мы как-нибудь и сами сумеем поднять. В ауле немало многодетных семей, лучше, если вы больше внимания уделите им.
― С вашей стороны мудро, но все равно заходите в контору ― посоветуемся, обсудим ваше предложение. Осталось немного потерпеть, совсем чуть-чуть ― фашистам скоро придет конец, ― сказали напоследок незнакомцы и удалились.
Я молча лежал и думал: «Кто же это был? Какие хорошие люди!»
В комнату вошла мать.
― Апа, а кто эти люди?
― Представители районной власти, прибыли разузнать положение в ауле. Говорят, немцы терпят поражение. Наверное, и отец твой скоро вернется, ― ответила она, целуя меня в щеку.
* * *
Иногда через месяц, иногда через неделю аул будоражит быстро разлетающаяся печальная весть. «О, несчастный мой супруг, ты был храбрым как лев, отчего ты покинул нас в расцвете молодости!» ― эти горькие крики разрывают людям сердце. Если для меня это просто означает, что в чей-то дом принесли похоронку, извещавшую о смерти близкого, то моя мать, естественно, воспринимает новость гораздо острее: задыхаясь от жгучих слез, она плачет в передней и сквозь всхлипывания нашептывает: «Эх, ну что за жизнь!.. Да будь ты проклят, вероломный Гитлер! И когда только насытится твоя змеиная утроба… сколько молодых парней уже поглотил!..»
В мирные дни, когда аул не терзает новое горе, она тоже пребывает в тревожном беспокойстве: шарахается от каждого шороха, будто кто-то ее преследует, испуганным взглядом провожает любого путника, спешащего к аулу, а глаза ее сразу влажнеют от слез, поблескивающих точно осколки стекла.
Во время работы она не так чувствительна, однако, когда руки не заняты, не может места себе найти. «Ты лежи, а я пойду чистить хлев», ― говорит она мне, снова убегая по колхозным нуждам, потому что не в силах усидеть дома и старается чем-то себя занять, чтобы заглушить непонятный страх. Чуть что ― мчится туда, где в этот момент требуются руки.
Если в аул неожиданно нагрянет кто-нибудь из наших близких родственников и примется ее искать, односельчане, поминая мать, посмеиваются: «Ой, да ну ее, разве она когда-нибудь сидит дома?! Ермек ведь рождена труженицей, так что ищите ее где-нибудь на колхозной работе»…
Свет материнской надежды лился и лился, без конца и без краю. Прошли ранившие каждого военные годы, принесшие людям столько бед и тяжких испытаний. На улицах аула, рассеяв тучи горя, заиграл огонь мирной жизни. Однако мой отец так и не вернулся.
Разве легко это было пережить моей матери, ведь угас ее светоч, ее путеводная звезда?! Когда без вести пропадает самый дорогой и близкий тебе человек, который, пусть и находился вдали от дома, но был его опорой и надеждой, чье сердце выдержит?! Однако моя мать не вынесла на люди душевных тайн, не выставила напоказ хранившуюся в сердце большую любовь и молчаливую боль, а погасила все в себе….
Вот, всю округу накрыла черная тень; луна, которая была видна лишь наполовину, стала полнее и засияла ярче. Близится вечер. Где-то вдалеке слышится с арбы песня. Это женщины-свекловоды возвращаются с работы.
Моя дорогая, моя удивительная мама, это, конечно, не ты сидишь и поешь на арбе, кто бы то ни был, они уже намного моложе тебя. Но льется трудовая песня ― гимн твоей безбрежной души и огромного сердца. В ласковых переливах этого горячего голоса я слышу тебя, и передо мной встает твой милый образ простой колхозной труженицы. Ты ― настоящий великан, ведь в мирном покое и богатстве, в благополучии и счастии, которые пришли в аул, ― во всем лежит и твой вклад, многое заработано именно твоими трудовыми руками.
Твою голову украсила серебристая седина, твое лицо избороздили узоры морщин. Все эти бесчисленные черточки на твоем лице сродни разветвленной сети множества оросительных каналов, дарующих Великой степи жизнь.
О, моя золотая мать, моя неутомимая, неистощимая, моя драгоценная мама, пусть твой путь устелет яркий ковер тюльпанов и озарит жизнерадостный свет утреннего солнца!..
Пікірлер (1)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Қаржылық сауаттылық-табысты өмір кепілі
- Экранға байланған болашақ: цифрлық есірткімен күрес неге нәтижесіз?
- Әл желінің әлегі
- Әл желінің әлегі
- Цифрлық дәуірдегі кітап оқудың маңызы
- Испаниядағы пойыз апаты: қауіпсіздік жүйесінің сынға алынуына не себеп?
- Гендерлік теңдік: ерлер мен әйелдердің құқығы тең болу қажет пе?
- Виртуалды әлемнің «тұтқындары»: Экранға байланған болашақ несімен қауіпті?
- Қазақстандық білім беру жүйесі мен халықаралық стандарттар арасындағы алшақтық
- Айғыркісі
- Жетістік жолындағы сенімді серік – Forbes журналы
- Табиғаттың үнін таспаға түсірген тұлға – Дастан Мұхамедрахым
- Поэзия пайғамбары Мұқағали Мақатаевқа – 95 жыл
- Жастар арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыру
- Жастар арасындағы құқықтық мәдениет
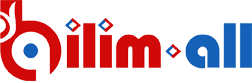


- Конфуций
- Конфуций
- Эдвард Дж. Стиглиц
- Нельсон Мандела
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі