Повесть моего отца
Эти повести отцом были сочинены еще до моего рождения. В те годы он письменно состязался с каким-то ходжой, поэтом. Видимо, эти повести должным образом были оценены слушателями. Будучи уже стариком, отец по просьбе своих сверстников иногда декламировал (припевал) их. Как правило, круг слушателей был ограниченным, и мне, малышу-несмышленышу, удалось прослушать эти повести всего лишь два раза. Когда я вырос, отец ни разу не повторил их. По этой причине мне очень трудно восстановить в памяти подробный текст повестей; в памяти сохранились лишь отдельные дословные обрывки. Но сюжетные линии я хорошо запомнил. Подозреваю, что сюжеты, по всей вероятности, отцом был заимствованы из восточных (арабских) рассказов и вольно пересказаны им. Тем не менее повести для меня являются одним фактом из отцовского творческого наследия, и поэтому я решил их изложить в форме конспекта, как они мне запомнились.
Обычно отец начинал так.
В поисках пищи птицы перелетают из края в край. В поисках пищи звери рыщут по лесным чащам, по степным просторам, нападая друг на друга.
Если ты меня не съешь, говорят они, то я тебя съем. Жестока судьба всех живых. Они живут, чтобы, охотясь за другими, наполнить себе животы или, пав жертвою, самим наполнить животы другим.
И люди с давних пор уподобились зверям. Им мало даров щедрой природы; подобно зверям, они стали отнимать друг у друга еду, причинять друг другу зло.
В поисках пропитания бедные люди унижаются перед богатыми, заменяя им безмолвную, безропотную скотину или странствуют из страны в страну, в кровь разбивая себе пятки.
То, что бедному мечта несбыточная, богатому баловню судьбы лишь потеха и забава. Желание богатеть и богатеть омрачило разум людской и испортило братство между людьми. Человек по-настоящему оценивает счастье лишь тогда, когда он теряет его. Человек начинает ценить близких при разлуке и в беде.
Расстояние или сближает любящих, или навсегда разлучает, если их любовь была притворной. Человек ненасытен. Ему нужна новизна за новизною, обновка за обновкою. Поэтому он, купаясь в бассейне счастья, насладившись им, всегда придумывает горе.
О, собравшиеся стар и млад, мы все грешны пред Всевышним. Мы все из утробы греховной нашей праматери Евы, на которую гневался сам Бог и вместе с мужем ее Адамом выгнал их из рая. Тому были причиною дух нечистый, соблазн жены и слабость мужа, увидевшего запретный плод дерева. И с тех пор помутненный разум человека превратился в раба живота своего. Грех в том, что все запретное у нас, у грешных, кажется слаще всего. В этом наш грех тяжкий перед Богом. Человек представляет из себя мешок, наполненный калом, и он воняет пуще кала, когда умрет.
О, собравшиеся стар и млад, обратите свой слух сказу моему. Я расскажу вам о злодеях и злодейках из рода человеческого, которые, как всяк, носили золотую оболочку, скрывая под ее блеском зловоние и гниль.
Назвал я повесть первую свою Кара кулом (Черным рабом), по прозвищу одного из своих персонажей, как то соответствует темным делам грешных людей.
Слушайте же мой сказ из прошлого.
Кара кул
Шел по просторной степи одинокий путник-скиталец, гонимый судьбою из страны в страну.
Широк наш мир на глаз. Куда ни посмотришь, он бескраен и бесконечен. Поживешь в нем и убедишься, что он узок и тесен. В нем и в той короткой жизни, которой наделил человека Бог, многие из рода людского не находят себе достойного места и простора для себя. Многим жизнь делается теснее самой узкой могилы, и он в муках проводит свой век, а многие покидают мир сей еще младыми, не осознав ни своего рождения, ни своей молодости, и зачем он вообще родился; они приходят в жизнь и уходят из нее, как плод несозревший, как выкидыш из утробы. А те, кому удается дольше прожить днями, годами, страдают от всех невзгод, унижений и, как оковы, на себе несут тяжесть, утешая себя, что они все-таки живы. Жизнь их до того насыщена заботою, что им некогда разобраться в сущности жизни; дабы только живот наполнить свой... Недаром мудрые говорили: «Рождайся, страдай и умирай в том твоя суть, тварь Божья».
Нас не спрашивают — хотим ли мы родиться, нас не спрашивают — хотим ли мы страдать, нас не спрашивают хотим ли мы умирать. Мы — игрушка в руках судьбы нашей. Нас она гонит, как перекати-поле, из края в край, нас она бросает из холода в жар, из жара в холод, то поднимает на вершину гор высоких, то бросает в пропасть. Такова воля Божья.
Надейтесь на лучшее, наставляют нас мудрые, чтобы, надеясь на это лучшее, мы были ему покорны и преданы, как верные рабы. На наши роптания, чтобы заглушить наш протест, наставляют нас: надейтесь на благо на том свете. Кому отказано в благе на этом свете, тому приготовлены все благости всех восьми раев на том свете.
Страшат нас еще судным днем. Ведь судьями наполнен весь этот свет. И судных дней и здесь немало. Нас страшат переправою более узкой, чем толщина волоса. Ведь и здесь хватает узких теснин. Нас страшат семью адами. Ведь и здесь много непревзойденных семисот адищ.
Что нам дорога и наша мечта, которая на этом свете нам представляется раем на том свете? Все страшилища этого света нам представляют как ад кромешный на том свете.
Итак, шел по степи просторной — тесной — одинокий путник из дальних стран, гонимый судьбою из края в край в поисках пищи; на радость он отвык рассчитывать, день за днем, неделя за неделею все приближаясь к могиле. Годы проходили годами. И пусть проходят они.
В знойном мираже он увидел вдали две черные точки. Обрадовался бедный. Ускорил он свой шаг, как бродячая лодка в открытом океане от потерпевшего беду корабля, носимая дикою волною по морским просторам. Завидев черную точку на морском горизонте, усердно гребет веслами усталый человек, как бы стараясь на миг сократить расстояние от себя до горизонта и спастись от вольности стихии морской, швыряющей его от вершин волн на вершины волн, как игрушку... Расстояние все сокращалось и сокращалось, обещая путнику спасение, счастье встречи с собратом — человеком. Он приложил руки к глазам, прищурил и напряг взгляд и различил, что впереди него шли люди. Безмерно обрадовался путник одинокий, и еще более ускорил он свой шаг. Люди, братья! Ой, вы, подождите меня! Я хочу услышать речь человеческую! Люди, братья! Родные! Подождите меня! — кричал он, ускоряя шаги свои. Вот еще немного, и я услышу человеческую речь, я теперь не одинок, у меня будут спутники, такие же человеки, как я! Быстрей! Быстрей, ноги мои, шагайте к родным! Быстрей и быстрей несите вы меня к моим родичам людским! — покрикивал он на самого себя... Догнал он, окрыленный надеждой людского братства, двух путников. Поклонился им до самой земли и пожелал им он мира и счастливого пути.
Шли они втроем долго. Путь был для них томителен. Двое из путников были млады, а один стар. Путь долгий, путь нудный, как яд, отравлял их. Двое молодых от скуки начали подшучивать над старцем, забавляться над ним. Переглянулись молодые, и один из них многозначительно и уважительно обратился к путникам своим:
— Да, отец, да, мой друг, чтобы сократить этот длинный, как бесконечность, путь и время, которое ползет червяком, пусть каждый из нас расскажет из своей жизни самую примечательную историю, которая занимала бы нас и отвлекла на время от всех невзгод пути.
— Да, мой друг, я согласен с тобой, — подхватил другой молодой, — это будет самым лучшим способом переносить трудности пути нашего. Чем интересней будет рассказ, тем легче станет наш путь, и превратится он в прогулку, и мы, увлеченные приключением, не заметим, как пролетит время, как наши усталые ноги отмерят многие расстояния.
Но у меня при этом одно условие, — прервал его первый молодой. — Если кто-нибудь из нас не выполнит это условие, или его рассказы не позабавят нас, того следует оседлать и по очереди на нем ехать.
Согласен! воскликнул другой молодой.
И они, не спрашивая согласия старика, начали состязание в словах.
— Как видите, начал первый молодой, — я высок и с троен, как тополь. Я внебрачный сын своей матери. Я не знаю, кто мой отец, но хорошо знаю, кто моя мать. Мать моя была красивой женщиной: красива, стройна и высока.
— Грешный ты, молодой, грешный ты человек! Разве можно о матерях говорить так? — прервал его старик.
— Не мешайте ему! — прикрикнул на старика другой молодой. — Пусть он займет нас своим рассказом. Дойдет и до вас черед. Не спешите, старец!
— Итак, я сын внебрачный. Отца не знаю. Безроден я. Кто-то потешался своим озорством, и я получился от греха сего.
— А матушка ваша не сказывала, — не выдержал старик, — кто ваш отец?
— Нет, — ответил молодой, — нет. Никогда не сказывала. Думаю, что бедняжка сама не знала, кто мой отец...
— Не мешайте человеку рассказывать! — крикнул на старика другой молодой.
— Ваши волнения излишни. Он сам расскажет, как это было.
— Думаю, что она сама не знала, кто мой отец. Я был в Египте, в Багдаде, в Дели, в Иерусалиме, в Бухаре, в Тегеране, в Хорезме... Навещал я дома, где женщины принимают гостей за злато. Случилось мне в Тавризе, в таком доме, встретить красавицу, как две капли воды похожую на мою мать. Когда я вошел к ней в комнату, она была в цветастом халате, в каком я помню свою мать всю жизнь в домашней обстановке. Чуть вьющиеся черные волосы густой мерлушкой были зачесаны назад волнисто и большим узлом, в два кулака, были скручены змеей на затылке, как у моей матери. Широкий и гладкий лоб завершался дугою густых черных бровей, как у моей матери...
Сур мерген
Второе мое повествование содержит в себе мораль: да раскается тот, кто ненасытен.
Еще во времена святого Мусы (Моисея) жил-был охотник, прозванный народом Сур мерген — Бледноликий охотник.
О, Создатель, помоги мне ясно и кратко выразить мои мысли!
И поклонялся тот Сур мерген, прежде всего, Всевышнему. Сур мерген превзошел всех охотников того времени; он не знал промаха. Никогда ни одна его стрела не пролетала мимо цели.
Как-то, поднявшись с ранней зарею, задумал Сур мерген поохотиться за дикими козами (киік, по-казахски).
Вот идет он к подножию гор и думает: «Не пропущу ни одну козу. Дай Бог, только лишь бы дикая коза пробежала мимо меня — она будет сражена моей стрелой».
Идет Сур мерген в поисках диких коз. И вот мчатся гуртом множество диких коз.
Сур мерген быстро присел на правое колено, прищурив зоркий глаз, натянул тетиву лука — и к стаду, разрезая воздух, полетела его стрела. Одна из коз, пронзенная его стрелою, свалилась на бок и осталась лежать неподвижной. Остальные козы гурьбой, как морской прибой, помчались к горам.
Сур мерген с удовольствием охотника ножом перерезал горло убитой козы и кровь на ноже вытер о подол своего халата.
Неподалеку от того места росла небольшая роща. Она росла густо, и кудрявые ветви переплетались на вершинах деревьев. Эта роща на склоне гор чернела, как кокетливая родинка на щеках красавицы. Зоркий глаз Сур мергена не мог не заметить эту рощу. Он направился к ней.
Та роща была обиталищем диких свиней. Туда потянула Сур мергена нечистая сила жадности и азарта.
Не довольствуясь подстреленной козой, несчастный подкрался к опушке рощи и увидел там огромное животное, отчего у него загорелись глаза, и закипел в нем азарт.
Он задумал напасть на дикую свинью. Он был во власти злого духа, подстрекавшего его. Страшны были скрещенные кривые клыки зверя, подобные двум скрещенным саблям острым.
«Бог в помощь, пронзю и этого кабана, подобного неуклюжему и разленившемуся бугаю, — подумал Сур мерген. — Получу удовольствие, наслаждение азартом охоты. Мне нельзя пропустить живым встреченного зверя».
Так решился Сур мерген поохотиться на кабана.
В то время в тех краях отдельными станами проживали русские, и Сур мерген надеялся продать свою добычу им.
Вот Сур мерген, забыв всякую осторожность, уверенный в удаче, очень близко приблизился к кабану. Прищурив глаз и натянув тетиву, он пустил стрелу прямо в лоб кабана. Вонзилась стрела в жирную шею зверя. Взбешенный раной кабан бросился на охотника так стремительно, что Сур мерген не успел отскочить в сторону. Кабан своими острыми клыками распорол живот Сур мергена и, сделав несколько шагов, упал замертво.
Вот лежат мертвыми и кабан, и охотник, и коза. Смерть их застала на одном месте.
Почуяв запах их крови, появился волк, рыскавший в поисках пищи в этой ложбине горных отрогов. Подходит волк и видит трех лежащих. Пригляделся — все трое лежат бездыханно, мертвые. Задумался волк — с кого бы начать? В раздумье волк огляделся по сторонам, как бы советуясь с окрестностью, увидел лежащий в стороне сыромятный ремень, стянувший лук. «Начнука я с ремня, пока он не засох. А эти трое мертвых никуда не денутся». И принялся волк грызть ремень, решив, что ремень вкуснее всего. То был с силою согнутый лук. Но волк, доверившись воле Божьей, не оставил ремень и продолжал усердно грызть его, приговаривая: «Съем ремень на легкую закуску, а то еще засохнет, а эти трое надолго займут меня». И вот волк перегрыз ремень. Согнутый лук распрямился под ним и хлестнул одним концом по волчьей морде. Из носа волка брызнула кровь. Ошеломленному волку теперь стало не до ремня. Тут пришел и волку конец — вместе с кровью вышел и дух его.
* * *
О, джигиты, не будьте алчны! Злые намерения не приводят к добру. На том месте пали жертвой необузданной алчности охотника и дикая коза, и кабан. А охотник и волк стали жертвами своей ненасытной жадности, подобно Карынбаю1.
По мусульманской легенде, Карун за вражду к Моисею был поглощен землей со всеми своими дворцами и богатствами. Карун трижды упоминается и в Коране.
Карун до казахов дошел под именем Карынбай (Карун богатый). Карыпбай употребляется как нарицательное ими чипа, владевшего несметным богатством и невероятно скупого. Жадность наживы, стремление к богатству (в основном, владение скотом) и скупость Карынбая были гак велики, что он не только не делился своим добром с собратьями, но и сам не пользовался благами богатства.
Карынбай за свою жадность и скупость был жестоко наказан: его поглотила земля, а необозримые его стада окаменели. В наших краях валуны, рассеянные в подножиях гор, называют отарами, стадами, табунами Карынбая.
Существует и другой вариант: Карынбай, почувствовав приближение смерти, потопил свои стада в море.
О наших гастролях
Отец нам рассказывал сказки, басни и декламировал стихи. Вернее, не декламировал, а пел на простой казахский мотив. У Алиманны была цепкая память, и она быстро запоминала как мотив, так и слова песни или сказки. Вспоминая все это, я отдаю должное отцу, так как в этих сказках (баснях) нет ничего поэтического, стройного рифма и строгого размера: я бы назвал их просто рифмованными сказками для детей. Когда мы выучили эти сказки, а выучили мы их за два вечера, отец нам с Алиманною велел:
— Ну, молодцы, дети мои, а теперь идите к соседям и развлекайте их, ведь и им скучно коротать нудные вечера под завывание бурана.
С этой программою мы с Алиманной, в сопровождении дяди, гастролировали по всем нашим соседям-сородичам две недели. Последние нас принимали тепло и провожали каждый с угощением, в которое входило: сушеный сыр (курт), лепешки или жареная крупа. Такой гонорар нас очень забавлял, а самое главное, нас прельщало внимание зрителей, которые, утомленные непрестанной вьюгой и недостачей топлива, кисли в своих почти первобытных хижинах, коротали время от еды до еды, кое-как дождавшись темноты, ужинали и добирались до теплой постели. Нашим «конферансье» был, разумеется, дядя. Он как общительный человек входил в саклю, и наше представление начиналось с его выступления. Прежде всего, он нас с Алиманною легко брал в охапку и, сориентировавшись в ночной мгле и в буране, уткнув голову в меховой воротник своей шубы, стремительно бежал, прорезая снежную пыль, к дому ближайшего соседа. Иногда спотыкался в сугробе, ронял нас, снова брал в охапку, как скотину, и снова бежал. Для нас это было очень забавно, мы смеялись и одновременно боялись. Зайдя в заветренную сторону соседской сакли, дядя опускал нас на землю, немного отдышавшись от бега, шепотом нам говорил:
Ну-ка, встаньте против ветра, чтобы вас как следует снегом запорошило.
Мы послушно выполняли дядин приказ, а он сам в это время валялся в снегу, катался, исчезая во тьме. Потом брал нас за руки и говорил:
Пока я буду говорить, вы молчите. Понятно? — спрашивал он. — А ты кусай себе язык, но молчи, — говорил он, обращаясь к Алиманне, зная ее как маленькую хохотушку. Мы оба в знак согласия кивали ему головой. Тогда он подводил нас к окну сакли и громко стучал в окно.
— Кто там? — спрашивал хозяин.
Путники, жалобным голосом отвечал дядя, — ради жалости к детям впустите нас на ночлег, правоверный. Мы заблудились, — в это время он дергал за рукав хихикающую Алиманну и угрожал ей. Хозяин открывал нам двери. В темной передней дядя говорил по-узбекски, коверкая каждое слово; нас называл «мои бедные дети» и жаловался хозяину, что едет с семьей издалека, что по дороге подохла его лошаденка, и он, оставив весь свой скарб на арбе, пошел пешком; по дороге во мгле потерялась жена с грудным ребенком, а вот он с двумя ребятишками кое-как добрался до этой хаты. С этими словами он за руки вводил нас в саклю, где тускло горел самодельный фитиль на бараньем сале. Так как мы были сильно запорошены снегом, а дядя продолжал на узбекском диалекте горевать о потерянной жене с грудным младенцем, нас не узнавали. Встревоженная хозяйка бросалась растапливать очаг, чтобы горячей пищей угостить нас, «несчастных». Дети в тревоге жались друг к другу, а хозяин сердито допрашивал дядю:
— Где вы потеряли жену? Далеко отсюда?
— Ох, сам не знаю, как это случилось, — задыхался от «горя» дядя. — О, горе, о, горе! — кричал он в «истерике». — Они погибли, они погибли!
— Отряхните же с себя снег, — сочувственно говорил хозяин. — Пойдем с вами искать их, а дети пусть здесь посидят, — с этими словами хозяин одевался второпях. И только теперь дядя скидывал с себя верхнюю шубу, снимал шапку и своим голосом, кланяясь хозяйке и хозяину, приветствовал их почтительно:
— Приветствую вас, добрая чета, добрые и светлые вечера вашему дому!
Опешивший от такой неожиданной развязки, хозяин бранился, а хозяйка, всплескивая руками, причитала:
— Тьфу, безликий, тьфу, безликий! Меня насмерть напугал. ... Я, дура, взаправду приняла эту глупую шутку...
Потом хозяин и хозяйка смеялись, а дети, убедившись, что опасность миновала, подбегали к нам и, сдирая с нас верхнюю одежду, в восторге восклицали:
— А, это же Алиманна!
— А, это же Баурджан!..
Так начиналось сымпровизированное дядею первое отделение нашего представления в роли «ряженых», «антракт» между первым и вторым отделениями был веселый. Хозяева хватались за животы, расспрашивая и вспоминая дядину шутку и свой испуг и тревогу.
— А эти чертенята тоже молчат, словно завороженные, смеясь, показывала на нас хозяйка.
Когда рассеивалось и остывало впечатление от первого отделения нашего представления, дядя просто нам говорил:
— Ну, давайте-ка, спойте то, чему вас отец научил.
Мы с Алиманной начинали нараспев петь «Сур мергена». Наши зрители внимательно слушали и восторгались. И конце обсуждалась мораль этой сказки-басни.
— Вот к чему приводит ненасытная жадность.
— Вот несчастный Сур мерген.
— Что ему, одного козла было мало?
— Вот жадный волк, все лакомое хотел про запас держать, а на кожемятине сорвался, подлец.
— Эго все равно, что наша баба-яга Айдын, у которой вся семья ест из своего огромного стада только то, что подохнет.
— Да, одежонки то у них, как у какой-нибудь диваны.
— Да, чего же о них говорить, — заключал дядя, — они к своему добру приставлены все равно, что евнух к гарему турецкого султана.
— А кто такие евнухи?
— Да... При малышах-то неловко рассказывать.
— Ты, эдак, иносказательно, чтобы они не понимали.
— Мне об этом мой мулла рассказывал, когда я у своего дяди жил и учился, помните?
— Ну, как он рассказывал?
— Ну, как? Как бы удобнее рассказать, одним словом, турецкий султан имеет много жен, одна красивей другой. Вот, султан — владыка — своих жен другим не доверяет и к ним ставит сторожа из мужчин.
— Из мужчин, говоришь?! Хе-хе-хе! Это все равно, что нанимать волка в пастухи. Хе, хе-хе!
— Да подожди-же, но эти мужчины вроде того мерина в нашем табуне.
— Как?!
— Ну, вроде того, что султан, прежде чем пустить их в свой гарем, проделывает с ними то, что мы проделываем с жеребенком.
— Ой, что ты говоришь?!
— Говорю, как мне мулла рассказывал. Вот эти евнухи «наслаждаются» в гареме красотою султанш, как наши богатые сородичи своим богатством, — заключил дядя.
Подобно этому подвергался обсуждению и осуждению поступок Сур мергена и волка. Хозяйка нас угощала непременным «степным шоколадом» — куртом, и мы, пока взрослые говорили, с наслаждением грызли эти комья кислого, сушеного сыра, коим казахи запасаются на зиму как молочным концентратом.
Когда мы возвращались домой, дядя подробно рассказывал отцу, как прошло наше «эстрадное представление», с одновременным разбором наших исполнительских недостатков.
— Вы, вот, очень спешите, получается какая-то скоро-говорка, — говорил он нам, — друг друга дергаете и перебиваете. Вот ты, Баурджан, отстаешь, а ты, Алиманна, спешишь, да еще пищишь, и получается, как у гнедых старика Кузьмы: один рвется вперед, а другой становится дыбом на месте. Помните, как осенью бричку поломали?
Мы за такие замечания обижались на дядю, но не осмеливались эту обиду выразить вслух.
Наш «концерт» продолжался почти каждый вечер. Перед ужином у нас происходило вроде репетиции. Отец, видимо, учел дядины замечания: слушая нас, на каком-то месте останавливал и поправлял, согласовывая сначала наши голоса, а потом интонацию, даже приучал к определенной мимике, паузам между сюжетными точками. Он заставлял нас делать паузу после того, как Сур мерген убил ни кую козу, и длинную паузу, когда его самого распорол кабан, потом как погиб волк. А мораль этой сказки-басни он учил петь в спокойной нравоучительной интонации. Одним словом, отец учил нас исполнительскому искусству.
И так, мы после ужина шли к какому-нибудь скучающему соседу и развлекали его семью. Дядин репертуар каждый раз менялся, так как его номер с заблудившимся узбеком был разоблачен па второй же день.
Следующую программу дядя открыл фокусом: он брал гривенник, ежах его и кулаке, засучив рукава, просил хозяина растирать себе локти, а потом закрывал глаза, что-то шептал и, рывком вытянув и разжав кулак, со свистом «сдувал» монету со словами:
— Монета, переходи на верхний косяк двери!
И, действительно, монету находили там. Все удивлялись и восторгались. Свой фокус дядя повторил несколько раз.
— Монета, перейди на постель к хозяйке!
Все присутствующие бросались к койке и находили монету под подушкой. Особенное удивление всех вызвал его заключительный номер, когда дядя, сказав:
— Монета, перейди в правый сапог Баурджана! — заставил меня разуться, а когда хозяйка потрясла мой сапог, из него выпадала монета. Все от этого были в восторге и буквально были поражены. На любопытные расспросы дядя самым серьезным образом отвечал:
— Позавчера во сне видел высокого старика с длинной седой бородой до пояса. На нем была длинная белая шуба, большущая лисья шапка, в руках он держал длинный светящийся посох...
— Это, наверное, навестил тебя дух наших святых предков, — суеверно подливал масла в огонь хозяин.
— Да, — без смущения подтверждал дядя, — я тоже так думаю. Брови у него белые, нависающие, топорщатся, а ресницы длинные и тоже белые. Он мне говорит: «Не бойся, дитя, не бойся...»
— О, — вздыхал хозяин. Остальные тоже, встревоженные, с любопытством ждали развязки.
— «Не бойся, дитя», — говорит он, — повторял дядя: — «На тебе монету», — и с этими словами вложил мне эту монету в ладонь и говорит: «Прочти вот эти слова молитвы, и монета перейдет туда, куда ты только пожелаешь». А потом он берет мою правую руку; его рука была холодная, как лед... — при этих словах все вздрогнули.
— Я вздрогнул и проснулся, — продолжал дядя.
— А монета?
— А монету утром нашел в постели, — говорил дядя, как ни в чем не бывало...
Когда мы вернулись домой, дядя открыл нам секрет столь поразившего нас всех «фокуса». Оказывается, он еще утром бросил в мой правый сапог гривенник, а вторую монету положил на верхний косяк двери, третий же гривенник подсунул под подушку. А монету, которую он держал в руке, пока наивный сосед усердно тер ему локоть, он пускал через ворот к себе за шиворот. Потом черканул глаза, нашептывал, что только приходило ему в голову, и дул в пустую ладонь, громко восклицая: «Монета, переходи...» А сон был им тут же сымпровизирован.
Мой отец, разузнав от нас подробности дядиного сочинения о сне и старце-привидении, волшебной молитве, был очень огорчен проделкой своего брата. Он приказал нам всем это забыть.
Шутки Токмурзы
Когда буран стих, нас пригласили в дальний аул на веусриику. Среди гостей был и весельчак Токмурза. Он рассказывал разные смешные рассказы и анекдоты. Юмор, сатира и остроты были природными у этого человека и стихией его мышления. Мой отец недолюбливал Токмурзу за сальности его импровизации и велел нам не запоминать его остроты. В том возрасте многие иносказательные образы из коротеньких рассказов Токмурзы мне были непонятны.
Токмурза был мастером четкой, отчеканенной интонации, правильного произношения и замечательной мимики и жестикуляции. Это был настоящий актер от природы. Он умел подражать не только людям, передавая их голоса, манеры, но и животным. Он нес вокруг себя смех и хохот. Обращаясь к сыну Аккулы, который разговаривал вообще протяжно и медленно, говорил ему:
— Ну, Жаксыбай, быстро повтори-ка то, что тебе скажу.
— Хорошо, Тока, — уважительно соглашался Жаксыбай.
Жүк үстінде төрт бөрік,
Төрт бөрікте көп бөрік.
Кел, қыздар, сөгіселік,
Кел, қыздар, тігіселік.
Когда эту скороговорку повторил Жаксыбай, у него получились совершенно неприличные концовки. Взрыв смеха сотряс саклю. Сконфуженный Жаксыбай, потупив глаза, смотрел вниз, а женщины, глупо хихикая и не смотря на окружающих, щипали себе щеки со словами «ойбуй, ұят-ай» — «тьфу, какой стыд». Такие экспромты назывались у казахов «жаңылтпаш» — «запнулки», в которых при невнимательном и нечетком произношении получались весьма неприличные, пикантные обороты.
— Ну, довольно тебе балагурить и брехать, бесстыжий, — говорила хозяйка, — лучше что-нибудь поприличнее и толковее расскажи, насмешник ты этакий!
— Разве я вру?! — удивленно восклицал Токмурза. Его тон, обида настолько естественно разыгрывались им, что все присутствующие смеялись.
— Лучше спой что-нибудь, — попросила хозяйка. Токмурза обшаривал себя, как будто за пазухой искал что-то, а потом мягким тенором запевал:
Бір өлеңім бар еді, шатқа кетті,
Бір өлеңім жүген мен атқа кетті.
Бір өлеңім жейдесі тозып қалып,
Жең алам деп, саудагер сартқа кетті.
— Вот я их всех разослал, откуда мне их еще взять? — обратился он под общий смех к хозяйке.
— Ну, бреши, бреши еще, шутник, — сказала хозяйка. Как бы отвечая ей, Токмурза снова запел:
Тілімнің келмейді ебі өтірікке,
Ойлашы, айтқандарым өтірік пе?
Қырық байтал қалың малдан санап алып
Қыз бердім отау тігіп кекілікке.
Присутствующие дружно рассмеялись.
Беріпті бақа қызын көбелекке,
Жүріпті қара шыбын жеңгелікке.
Бір тайын құмырсқаны ұстап сойып,
Той қыпты, ат шаптырып, төңірекке.
— Ну, и врун же Токмурза! — заливаясь смехом, воскликнул кто-то. На что Токмурза невозмутимо ответил так:
Сауысқан алып ұшты бөлтірікті,
Айтпаймын не берсең де өтірікті.
Шіркіннің тебісінің қаттысын-ай,
Бір қызды шыбын теуіп өлтіріпті.
— Ха-ха-ха! Это здорово, вот так лягнула! Ха-ха-ха!
— Ха-ха-ха! Бреши дальше, Токмурза!
Баласы қасқа айғырдың бөлтірікті,
Айтпаймын өлтірсең де өтірікті.
Мың кісі бір тышқанға мінгескенде,
Япырмай, бәрін теуіп өлтіріпті.
— Ха-ха-ха! Бреши, бреши! — не унимался тот.
Аспанға алты жерден тіреу қойдым,
Той қылып мың масаны сонда сойдым.
Жүрегін біреуінің төрт бөліп жеп,
Нансаңыз, өмірімде бір-ақ тойдым.
— Вот это здорово! Впервые в жизни насытился?!
Шын қайда, өтірік қайда, жалған қайда?
Шынға өтірік тең болса нанғандай да.
Ғажайып мысал етіп өлең айттым,
Ойласа, мысалыма кім нанбайды?
Мағынасы бар өтірік шыннан артық,
Жымыңдап өтірік күлген гүлден артық
Түсінбей сен мағынасына ыржаңдайсың,
Есерсоқ қолыңменен етек тартып.
Так заключил Токмурза свою песню.
Мы с Алиманной запомнили многие из исполняемых Токмурзой песен-небылиц, большая часть из которых отцу понравилась.
Отец смастерил лук и стрелы к нему с жестяными наконечниками и обучал меня стрельбе. Это служило забавою не только для меня, но и для взрослых. Я с луком бродил по зимовкам, охотясь за белыми воронами, которые копошились у навозных куч.
И так мой день коротался охотой, а вечера — на вечеринках.
Первые уроки русского языка
Дядя привез меня к Гончаровым. У них было тепло. От спертого воздуха в хате меня немного затошнило, и я выбежал на двор. По улице бежали ребята с сумочками и кидали друг в друга снег. Среди них я увидел Василия; он, дав отбой своему противнику, побежал домой. Увидев меня, он воскликнул:
— А, Баурджан приехал! — и, схватив меня за руки, потащил в хату. — Пойдем, чего тут стоишь...
В сопровождении Василия и Тышко мы направились к русскому мулле. Муллой оказалась высокая, сухощавая, пожилая женщина с гладкой прической с пробором посередине, с открытым лбом, большими серыми глазами, острым, чуть крючковатым носом. Когда мы вошли, она месила тесто и с нами разговаривала, не вытирая рук, но держа их под фартуком. Тышко представил нас. Разговор был очень короткий. Она посмотрела на меня и по-русски задала мне несколько вопросов, на которые я не ответил. Потом она обменялась несколькими словами с Тышко. Тышко нам перевел ее слова:
— Она говорит, что очень плохо, что Баурджан не знает русского языка, как она его будет учить, когда сама не шаг по нашему.
— Если бы Баурджан знал русский язык, то зачем было нам его приводить сюда, — ответил дядя, на что учительница засмеялась и сказала:
— Ну, ладно, коли они его хотят учить по-русски, пусть оставляют. Посмотрим, авось что-нибудь да получится,— обращаясь к Василию, она спросила его: — А ты будешь ему помогать? А то ему трудно будет учиться. Буду помогать, — ответил ей Василий.
Дядя, наставив меня о хорошем поведении, об усердии, о том, чтобы я был осторожным: не ел свинину и не молился русскому Богу, пожелав успеха, уехал домой, оставив меня у Гончаровых.
Мамашка определила мне место и показала, что я буду сидеть на табурете, а спать вместе с Василием, на печке; но тут старуха призадумалась и спросила меня: - У тебя баранов много?
Не понимая сути ее вопроса, я назвал количество наших баранов. Она деланно засмеялась, вынула из-за пазухи мнимого насекомого и начала «давить» его, говоря:
— Вот такой баран есть у тебя?
Сконфуженный и обиженный, я тут же содрал с себя рубашку и протянул ее старухе. Она внимательно посмотрела по всем швам, не обнаружив ничего, вернула ее мне, как бы извиняясь за свой вопрос, пошлепала меня по голой спине и предложила одеваться. Одеваясь, я не смог преодолеть обиду и заплакал. Старик заквакал на свою старуху, а остальные присутствующие Гончаровы тоже напали на старуху, упрекая ее в невежливости, а бедная мамашка оправдывалась. Видимо, желая утешить меня, она заставила тут же раздеться и Василия, и все начали осматривать его белье, несмотря на его брыкунье. Вслед за Василием снял рубашку Тышко и со своей Манькой тоже начали осматривать... Я все еще никак не мог успокоиться от обиды. Одним словом, все старались как можно скорее сгладить нанесенную мне старухой обиду. Старуха ко мне была внимательна и ласкова, и через некоторое время я забыл свою обиду.
Вечером, после ужина, Василий учил свои уроки, а Тышко открыл мой букварь и начал мне объяснять алфавит. Я знал этот алфавит, но только так, как учил меня мой отец; например, для меня между Б и В, между К, Г и X , между Е, И, Э и И никакой разницы не существовало: первые я произносил как Б, вторые как К, третьи как И, а о Б, Ы и Ъ я не имел никакого представления. Братья долго, до самой поздней ночи, просидели со мной, объясняя мне то, что я не различал, но мне их объяснения давались очень туго.
— Вот скажи Василий, — говорил Василий.
— Басиль, — говорил я ему.
— Да нет, не Басиль, а Василий, — повторял мальчик, — понимаешь, Be, ве.
— Бесиль, — говорил я ему, — так что ли?
— Нет, не так опять произносишь, не Ба, а Ва. Ва-си-лий. Понимаешь?
Они приводили мне множество примеров, называя вперемешку русские и казахские слова, где встречались и премудрые буквы, но я понимал все же с трудом.
Так начался мой первый урок по русскому языку.
* * *
Василий забрался на печку и манил меня туда. Там было очень тепло. Одеяло, которое я привез, было ватное (так называю потому, что теперь набивают одеяло ватой, а на самом деле там вместо ваты была верблюжья шерсть), толстое, двух спальное, а Василий до этого накрывался своей тужуркой и тоненькой байкой.
— Ну, что, сказал он, — твое постелем, а моим будем накрываться, ведь здесь очень тепло.
Я согласился с ним...
От непривычки ли спать в тепле или от новой обстановки, или от переживаний ли от предстоящей учебы у русской учительницы мне долго не спалось; я вертелся с боку на бок, а Василий спал непробудным сном. Мне было душно, и я откинул одеяло, которым мы накрывались, и лежал с открытыми глазами. Я думал о предстоящей учебе, думал о том, что я здесь задыхаюсь от жары, а у пас дома, в холодной комнате, спят под толстым одеялом. Одна мысль сменялась другою, воспоминания приходили за воспоминаниями, и они, наконец, у меня запутались, и как бы в бреду этих мыслей я заснул.
Утром меня тормошил Василий. Видимо, я трудно просыпался и как во сне слышал его голос:
— Баурджан, тур, тур (вставай, вставай), в школу пора идти.
Но я не просыпался, бормотал что-то и отталкивал его. А когда ему надоело возиться со мной, он стащил меня за ноги с печки, и только тогда, очутившись на полу, я проснулся. Я сидел в нижнем белье и вытирал спросонья глаза.
— Да тормоши его, еще вин не проснувся, вот цей киргизенок, — смеялась звонко Санька, — вин як у себя в кибитке веде себя. Ах, який гарный вин, тилько що з нео штаны содрати, може бу тогда вин проснеться.
— Чео вона мамка регочет над ним? — сердился Василий. — Хиба ему не хочется просыпаться, вин просто заспався.
— Як ти хочешь, Василь, а з сего киргизенка у вашей учителки ничео не выйдэ, як вы ни учите, так вин киргизенком и останется.
Многое из слов этой злоязычной дамы я, разумеется, не понимал, а догадывался по интонации ее зычного голоса. Когда я окончательно проснулся и оделся, по жестам и интонации почувствовал, что старуха и Василий были за меня и в чем-то упрекали Саньку, а та бойко огрызалась и доказывала что-то им. Старуха топнула ногой и приказала снохе замолчать, и она покорна выполнила требование свекрови.
Мамашка нас накормила завтраком, уложила наши сумочки, положила в них каждому по бублику, подвела Василия к углу, где висели иконы, перекрестилась сама и заставила Василия тоже перекреститься, поцеловала его в лоб, а потом, обращаясь ко мне, сказала:
— Нy, что же, Баурджан, хоть ты и бусурманский детеныш, да благослови тебя Бог, —- и погладила меня по голове, якши надо учиться, Бурбуржан, якши, хорошо надо учиться, — и этим она закончила свое напутственное слово мне, а своему сыну наказывала, чтобы он не ославлял меня без внимания и русским ребятам в обиду не давал...
Мы с Василием побежали в школу. Когда мы вышли, со всех дворов с сумочками бежали в направлении школы ребята. Одних мы догоняли, другие присоединялись к нам, по, как правило, все озирались на меня и спрашивали Насилия обо мне:
— Що це за киргизенок, куды ты его ведешь, Василь?
— Вин сын нашего знакомого Момыша, с нами вин буде учится, — отвечал им Василий.
— Хиба вин по русский разумеет?
— Трохи разумеет, а после научится и побачим, — серьезно отвечал он.
— А вин букварь знает? Чи ни?
— Тоже трохи знае.
— Як у него с русской мовою?
— Як тебэ учила наша учителька? — обрушивался на него Василий. — Як вона тебэ учила, хиба не «мова», а язык...
— А як тебэ училы, Василь? — прервал его другой. — Не «хиба», а ежели али, як вона поправляла Миколку Водопьянова, — «если», вот як вона велела на уроке позавчера...
— А вин, Василь, де будэ жить? — прервал его другой мальчик.
— У мене, со мной буде жить, — ответил было Василий, как вдруг раздался звон колокольчика, и все ребята кинулись бежать к школе.
Подслеповатый старик в шапке с вытертым мехом, в короткой старенькой тужурочке, с свалявшейся на бок бороденкой у крыльца бренчал колокольчиком.
В класс я вошел последним. Ученики раздевались, вешали свои тужурочки и шапки на вешалку. Следуя их примеру, я тоже разделся и свой чапан и шапку повесил на самый крайний гвоздь вешалки. Вошла учительница. Все ученики встали со своих мест. Она поздоровалась. Ученики ответили хором, но невпопад: «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Учительница встала перед висевшей на стене черной доской. Ее гладкая прическа, казалось, была туго стянута к затылку. На ней было длинное черное платье с белым воротником, и широкий пояс из черного бархата обтягивал ее гибкую талию. Она осмотрелась, оглядела всех учеников, как будто пересчитывая присутствующих, и ее взгляд встретился с моим, и тут же она сказала: «А ты, мальчик, стой у двери, — и, повернувшись к образу, что стоял в углу, добавила: — Ну, ученики, давайте помолимся».
Она запела слова молитвы нежным голосом, а остальные за ней повторяли. Получился стройный хор. Она перекрестилась, и ученики проделали то же самое. Потом она повернулась и велела всем садиться. «Подойди сюда, мальчик», — позвала она меня. Я подошел к ней. «Вот что, ученики, — обратилась она к остальным, — этот киргизский мальчик будет учиться у нас. Вы его не обижайте, он один среди вас. Относитесь к нему как к своему. Он сын знакомого наших Гончаровых. А во время молитвы перед началом урока, — сказала она, обращаясь ко мне, ты можешь стоять в стороне или выйти из класса. Ты понял меня?»
Да, вин трохи понимает по-русски, — за меня ответил Василий.
Ну, хорошо, значит будем учиться, — сказала она и указала мне на свободное место рядом с синеглазой девочкой с косичками в бантиках и в белом фартуке.
Когда я сел на указанное место, моя новая соседка посмотрела на меня и отодвинулась.
Начались уроки. Учительница села на свое место, открыла букварь, вызвала к доске мою соседку, и она повторила заданные на дом уроки. Впервые я видел, как мелом пишу на черной доске крупные буквы. Написав несколько несложных слов, девочка стерла написанное и вернулась на свое место. Очередной мальчик проделал тоже самое6 но он допустил несколько ошибок, которые были исправлены учительницей. Разумеется, я не понимал тогда многих слов, что писали мои новые товарищи, но после, изучив язык, я мог привести некоторые дословные подробности той беседы в пути, когда я впервые шел в русскую школу.
Наша школа находилась напротив той деревенской церквушки, которая давным-давно возбуждала мое любопытство звоном своих колоколов. Церковь была выстроена из обыкновенного сырца, с большими сводчатыми окнами, с крыльцом с деревянной лестницей, на железной крыше бревенчатый навес представлял из себя колокольню, а над ней возвышался железный купол, завершенный большим крестом. Рядом с церковью стоял поповский дом с надворными постройками. Церковная площадь была величиной в два-три усадебных надела, и церковь возвышалась над остальными деревенскими домами.
Во время перерыва между уроками дети резвились на этой площади.
На втором уроке учительница дала задание ученикам и вызвала меня к столу, посадила возле себя, открыла букварь и начала мне объяснять.
— Вин знает букварь, — сказал Василий.
Учительница спросила меня. Я ей назвал весь алфавит. Она меня поправляла, как нужно правильно произносить: «Ве, Ка, Ха, Це, Ша, Ща, Че, Ю, — повторила учительница, записав те буквы в мою тетрадь, и сказала: — Вот выучи их, а писать и читать будем потом», — и с этими словами отправила меня на место.
«А вы, ученики, на дому выучите», — она открыла страницы букваря, прочла вслух медленно, разъяснила смысл, еще раз повторила, а потом велела всем ученикам самим прочесть про себя.
Третий урок по арифметике прошел более живо. В начале урока она повторила заданную накануне задачу и спросила, все ли решили эту задачу. Ученики хором ответили: «Все». Учительница написала на доске задачку и спросила:
— У всех так написано?
— У всех так, — ответили дети хором.
Она проверила у всех тетради, вносила исправления, потом продемонстрировала решение на доске с разъяснениями. После чего объяснила новую задачу и дала задание на дом. Задачника у учеников не было. Пока ученики переписывали с доски задание в свои тетради, учительница подошла ко мне, села рядом и в мою тетрадь аккуратно написала цифры до десяти. «Один — бир, два — еки, три уш, четыре — торт», — начала она объяснять мне с переводом. Когда она заставила повторить цифры, я без запинки прочел все написанное по-русски, так как счет по-русски я знал до ста. Учительница очень обрадовалась и воскликнула: «Вот молодец, оказывается, ты знаешь». Ученики посмотрели в мою сторону, а учительница, как бы отвечая им, сказала: «Да, он знает цифры по-русски». Ободренный ее похвалой, я назвал по-русски счет до двадцати.
— Хорошо, — одобрительно сказала учительница, по только не «дбанасат», а двенадцать, не шешнасат, а шестнадцать, не дебатнасат, а девятнадцать, понял? — спросила она меня и дала задание Василию научить меня правильно произносить цифры.
Так начался и кончился первый день моей учебы в русской школе.
С помощью Гончаровых я учился относительно неплохо. Вся семья, кроме старика Кузьмы и мамашки, которые сами были безграмотными, шефствовала надо мной. По арифметике я преуспевал, хотя правило четырех действий последовательность решения задач на тетради у меня не получались. Я записывал задачи, ход действий решал в уме и записывал в тетради сразу ответ, что доставляло много хлопот учительнице; ей каждый раз нужно было объяснять мне ход действий. Незнание языка, естественно, делало ее старания недоходчивыми до моего сознания, по она каждый раз терпеливо повторяла одно и то же. Букварь я читал и переписывал в тетрадь. Многие слова мне были непонятны. Запоминал я их механически, не понимая значения, так как мои шефы и переводчики искусством перевода книжных слов не владели...
По вечерам мы с Василием водили лошадей на водопой к речке. Это забавляло. По приказанию Тышко: «Ну, хлопцы, ведите коней напувати», — мы вылетали из хаты, отвязывали коней и, забравшись на них, скакали к водопою. На водопое мы встречались с другими ребятами села и, пока наши лошади напивались воды, весело болтали с ними.
Однажды под вечер, когда мы с Василием приехали, на водопое сгрудилось много ребят с лошадьми. Было тесно, и каждый старался въехать в речку вне очереди, и образовалась сутолока. Мы с Василием врезались в эту сутолоку и, понукая своих лошадей, их грудью толкали впереди стоящих. Берег был обледенелый. Лошади спотыкались, скользили, ребята кричали на нас, чертыхались. И эта затеянная нами же толкотня для меня не обошлась даром.
Мы все вместе с конями покатились вниз, в воду. Меня кто-то сшиб с коня, и я полетел в воду. Стоял я по пояс в ледяной воде между лошадьми, посасывающими воду. Какой-то конь наступил мне на ногу, и я, изнемогая от холода и боли, толкал этого коня, но он спокойно, не двигаясь с места, продолжал пить воду и освободил меня лишь тогда, когда напился. Фыркая, повернулся, чтобы пробиться к берегу. Ребята, что видели меня в воде, «помогали» мне бестолковыми выкриками: «Василь! Твой киргизенок свалился!» — и т. д. Василий кричал: «Баурджан, залезай на коня!» Я уцепился за гриву коня...
Окоченев от такой холодной ванны, стуча зубами, я вошел в хату. При виде меня мамашка ахнула.
— Що с тобой, Бурбуржан? Що, ты выкупався? — бабка всполошилась, забеспокоилась и тут же обрушилась на пошедшего Тышко: — Що це таке? Як тоби не стыдно, хлопцив в таки нич послати коней напувати? А?
— Ну, що, мамо, на мене кричите, хиба вин один був, вин же с Василем каждой день коней веде...
Вошедший Василий сказал:
— Мамо, Баурджан трохе искупався, — Василий было засмеялся, но тут бабка стукнула его кулаком, говоря:
— Чего ты регочешь?
Василий отскочил в сторону. Бабка, стягивая с меня сапоги, причитала:
— Чего мне уным зробить? Як вин теперича в школу пиде? — говорила она, осматривая мою опухшую ногу.
Когда я совсем разделся, старуха подала мне сухое белье и велела взобраться на печь. На печке я быстро согрелся, но сдавленная нога сильно разболелась. Ночью я спал очень плохо. Утром на распухшую ногу нельзя было обуть сапоги.
К вечеру у меня поднялась температура. Ночью я бредил. На следующий день Тышко запряг сани и отвез меня домой. На этом закончилась моя двухмесячная учеба в русской школе...
Кара бахсы
Температура у меня спала через неделю, но долго не поправлялась нога. Я не мог сидеть, болели бедра и таз. Жилы у колена левой ноги стянулись, и я не мог распрямить ногу. Отец и домашние были внимательны ко мне и переживали мою болезнь. Это усугублялось еще и тем, что «Момыш своего единственного сына в русскую школу отдал, и вот возмущенный дух предков «ударил» сына в ногу, теперь парнишка будет калекой на всю жизнь». Приглашенный невежественный знахарь, осмотрев мою ногу, покачал головой и сказал:
— Дух тронул, дух тронул. Надо, Момыш, святых умолить, — и назвал имена святых, мавзолеи которых находились на территории нашей губернии.
Отец очень переживал такой «диагноз» знахаря и почти не расставался с Кораном, читал молитву, сделался набожнее прежнего и смотрел на меня виноватыми грустными глазами.
Дядя иногда вздыхал, этим укоряя отца, что тот не послушался его совета и отдал меня в русскую школу.
По совету одной старухи, меня поили наварами каких-то лекарственных трав, делали соленый компресс из верблюжьего пуха — шерсти. Ничего не помогало — моя нога не поправлялась. Проходили дни, недели. Дядя предложил повезти меня к святым, но дальность расстояния до их мавзолеев послужила причиной того, что я не паломничествовал.
Отец вообще к знахарям и муллам относился с недоверием, но, по настоянию дяди, он согласился лечить меня у муллы.
Дядя привез того же муллу, который совершил тот дикий обряд о мусульманивания (обрезания). Рыжий мулла внимательно осмотрел мою ногу, на листочек бумаги написал какую-то молитву и, прошептав что-то, свернул бумагу в треугольник, зашил ее в зеленую тряпку и, как исцелительный талисман, вручил мне, велев носить, как он называл, этот «тумар» на груди, пришив к одежде.
Муллу щедро угостили и отблагодарили соответствующим гонораром.
Проходили дни, недели, а нога не поправлялась. Однажды вечером дядя за ужином рассказывал, что в соседний аул приехал знаменитый бахсы, шаманствующий знахарь. В народе его звали Кара бахсы, Черным шаманом. Этот бахсы лечит от всякой болезни людей. О нем шло много легенд как о чудотворце. После долгих колебаний отец согласился пригласить Кара бахсы к нам.
Дядя привел к нам аккуратно одетого черного, коренастого великана с черной, жидкой, козлиной бородой. Этот черный великан был тот самый Кара бахсы. Он, мне казалось, не говорил, а рявкал своим густо-бархатным басом.
Кара бахсы велел посадить меня, провел вокруг меня одного барана, говоря нашим, что теперь моя болезнь перейдет к этому животному, и взял себе этого барана в качестве гонорара.
По его приказанию, вынули легкие из только что зарезанного барана, и, раздев меня догола, Кара бахсы начал колотить меня этими легкими как веником в парном отделении бани. Легкие тут же бросили собакам, а мясо варилось в котле. Я лежал укутанным в середине комнаты. Пришли соседи. Пока варилось мясо, Кара бахсы рассказывал о своих родословиях и о том, каким путем он унаследовал от своих предков шаманство. Если хаджи выдавали себя за прямых потомков Магомета, то все бахсы — шаманы (казахские) обязательно приходились родственниками Коркыту и свой кобыз называют Қорқыттың кобызы — Кобыз Коркыта; кровное родство с Коркытом сдружило их со злыми духами — джинами, эти джины состоят у них на службе, являются по их первому зову, открывают им сокровенные тайны и причины всех болезней и т. д.
Кара бахсы был неплохим сочинителем и рассказчиком. Он рассказывал, что приходится племянником того рода, откуда был Коркыт, и он находится в родстве с материнской стороны с родом Баганалы, откуда происходил знаменитый бахсы Койлыбай, и о том, что его джины когда-то служили у Коркыта и у Койлыбая. Не стану вспоминать все его рассказы, а лишь перескажу некоторые из них, так как подробности мне, тогда юной жертве всех этих невежественно-диких обрядов, не запомнились. Уверения, что мою ногу тронул злой дух, приход черного великана, избиение меня свеж вынутыми легкими зарезанного барана, церемониальное укладывание меня в постель в середине комнаты с каждой минутой травмировали мою наивную детскую психологию — я страшно боялся, что в нашем доме по зову бахсы действительно появятся злые духи, а дядя, видимо, заметив на моем лице неописуемый страх, шепнул мне на ухо:
— Ты не бойся. Про себя постоянно повторяй молитву: «Бог один, а Магомет последний пророк!..» — и ни один джин не посмеет подойти к тебе.
Я повторил слова дяди и набожно, усердно, про себя без конца повторял слова молитвы и цеплялся, как утопающий за спасательный круг, за треугольный тумар — талисман, пришитый у груди пиджачка. Слова бахсы слышал я отрывками, так как все время беспрерывно повторял слова молитвы. На мою жалобу, что мне душно под тяжестью наваленных на меня тяжелых одеял, бахсы, прерывая свой рассказ, обращался ко мне:
— Что, юнец, тебе жарко и начинаешь потеть? — и, не дожидаясь даже утвердительного кивка моей головы, он продолжал: — Духи начинают из тебя изгонять болезни. Мои джины всякую болезнь предпочитают испарить потом, — многозначительно и серьезно сказал он остальным, — ибо пот — это моча шайтана, черта.
Вспотев, я чувствовал себя оскверненным чертовой мочой, а на мой беспомощный вопросительный взгляд дядя, еще плотнее укрывая меня, говорил:
— Ничего, ничего, потерпи немножко...
Бахсы взял свой кобыз и, водя волосяным смычком по волосяным струнам и крутя ушки, стал настраивать его. Выгул из кармана какое-то желтое вещество, плюнув на него, натер смычок, а потом струны и снова начал настраивать, затем, настроив, положил инструмент в сторону и удобно уселся.
— Нет, — произнес бахсы, — пока нельзя, оказывается, не все джины собрались.
Этот серьезный довод — отсутствие кворума джинов — как бы водой потушило разгоревшееся желание публики послушать музыку... Подали чай. Бахсы оказался обжорой: во время ужина с большой вазы (овальная большая тарелка) своими длинными пальцами, похожими на щупальца огромного паука, за один прием, как бы вилами, выгребал не меньше полкило бесбармака, искусно пихал его в свой большой рот, сделав два-три движения челюстями, проглатывал и снова тянулся к блюду, тогда как спаренные (у казахов из одного блюда едят по три-четыре человека, их называют табактасами, одно блюдцами, равнозначно русскому «сотрапезники») ему сотрапезники — мой отец и наш сосед Айнабек, казалось, клевали, как воробьи. Бахсы пил чай тоже необыкновенно — за две вытяжки опустошая полную пиалу и возвращая ее дяде, который разливал чай, говорил:
— Погорячей и погуще, милый, коль еще у тебя не кончился кипяток и не вышел весь завар...
Дядя всегда был любителем острых ощущений и диковинных оригинальностей. За вечер он до того увлекся бахсы, что превратился в его самого услужливого лакея. Как выяснилось впоследствии, дядя все время подбавлял к столу бахсы, оставив всю семью без ужина, а остальных гостей ограничил птичьими пайками, и это из огромного котла, в который была заложена свежая баранья туша со всеми потрохами, полбарана копченого, залежалого мяса и раскатанное тесто из пуда муки. Опрокинув пустую пиалу на дастархан: «Сусыным қанды, шырағым — жажда моя утолена, милый», — сказал бахсы дяде.
За долгий ужин и чаепитие я лежал спокойно, потому что, пользуясь суматохой ужина, потихонечку растолкав ногами одеяло, устроил себе маленький сквознячок и наслаждался, постепенно избавляясь от липкого пота...
Дядя обошел всех сидящих с тазом в одной руке, чайником в другой руке и с перекинутым через плечо длинным суулыком — полотенцем (казахи моют руки перед едой, и каждый вытирается своим платком, закончив еду, вытирают руки хозяйским полотенцем майлыком (для жира), после этого, вымыв руки водой, опять же пользуются общим полотенцем суулыком (для воды)). Он подносил таз под руки сидящего гостя, тот над тазом протягивал руки, дядя из чайника наливал воды. Гость, вымыв руки, брался за конец полотенца, висящего через его плечо, и вытирал руки; в это время мыл руки очередной и т.д. Церемония обслуживания определялась правилами: Ас беруді төрден баста, су құюды есіктен баста — подачу пищи начинай с почетных мест (т.е. оттуда, где сидят почетные — старшие гости), а водолей (подачу воды) начинай от дверей. Су құйылмастан қонақ тұрмайды — пока не польется вода, гость не встанет.
Итак «подавай» — начало угощения, «воду лей» — конец угощения. Для вас кратко опишу правила поведения за казахским дастарханом.
Начну с того, что когда в какой-нибудь дом приезжал гость, он садился на почетном месте у самой задней стены юрты (или комнаты) против двери. Это для того, чтобы он видел каждого вошедшего, а все — его. Это место называется төр.
Тік сызыққа — сарқыт
Сол жақ қабырғадан босағаға дейін — асату
Одан төмен — сарқыт
Оң жақ қабырғадан босағаға — сарқыт
Как видите, юрта условно разбита на шестиугольник.
В центре — төре — восседал самый почетный гость (но он всегда уступал это место старшему или оставался там лишь с разрешения старейшины), справа и слева от него размещались по возрастным критериям.
Ни один воспитанный казах не имел право занимать место ближе к төру, если в доме был кто-то старше его хотя бы на один год.
Итак, когда прибывал гость, входили в юрту только по старшинству и соответственно занимали места. А те, кто не встречал гостя, должны были прийти сами и поприветствовать его. Гость вставал лишь тогда, когда входил старший, а равным и младшим он подавал руки сидя. Равным и младшим не приличествовало долго оставаться в юрте, если там негде будет сесть старшим. Поэтому, по мере прибытия старших, младшие сами выходили. Или кто-то говорил: «Идет такой-то (такие-то)», — это значило сигналом для младших «выйти из юрты». Так как весь состав состоял в родственных отношениях, гостя должны были приветствовать все взрослые. Приход для выражения приветствия начинался тоже в порядке старшинства: «Алты жасар бала алыстан келгенде, алпыс жасар шал алдынан шығады» — когда шестилетний ребенок прибывает издалека, то шестидесятилетний старец должен выйти навстречу, — говорит народ. С приходом гостей домочадцы вовсе вытеснялись из дома. «Кір демек бар, шық демек жоқ», — приглашение войти есть, приглашения выйти нет. Поэтому юрта быстро наполнялась. Прилив и отлив регламентировался старшинством.
Пока продолжалось приветствие, хозяева успевали приготовить чай (а летом кумыс) и подавали его вместо современной холодной закуски, а тем временем резали барана. После чая многие из пришедших, ссылаясь на занятость, должны были уходить. Пример подавали старшие. Но хозяин должен был сказать: «Отыра тұрыңыз, тамақ жеп кетіңіз» — посидите, оставайтесь, уйдете после того, как откушаете. Тот отвечал: «Благодарю, я же откушал». Если хозяин еще раз настаивал, то оставался. Если какой-нибудь нахал продолжал оставаться без одобрения хозяина, то, как правило, его вызывал выйти из юрты какой-нибудь старший из его ближайших родственников и, выдумав какое-то дело, отсылал его. Выйдя из юрты по такому зову, обратно войти считалось неприличным.
Именно после такой сортировки хозяева закладывали мясо в котел, исходя из нормы: төрт адамға бір аяқ, екі қос жұдырық қамыр, үй ішіне ішек қарын мен сорпасы — четырем гостям одна конечность (1/4 часть барана), два двойных кулака теста, а домочадцам потроха и бульон.
Как вы знаете, главным распорядителем при всех случаях приема гостей в нашем доме был дядя. Весь сервиз, кроме кухонных принадлежностей, состоял из дедовского деревянного астау, больше похожего по форме на современную ванну, чем на корыто, куда из котла клалось вареное мясо, а также из нескольких деревянных и фарфоровых Табаков, напоминающих собой плоскодонные тазы, в которых подавался бесбармак гостям, из нескольких больших деревянных чашек-тостаганов, больших пиал-кесе, из которых мы ели жидкую пищу и в которых гостям подавали кумыс и сорпа (бульон), из обычных пиал, из которых пили чай. Женщины, выловив из котла вареное мясо и наполнив до края этим дымящимся мясом астау, ставили его перед дядею (а в ожидании этого дядя, бывало, сидел, засучив рукава, и точил ножи о бруски и пробовал их лезвие на своих больших пальцах), который, обжигая руки, приподымал большой шмат мяса над астау и, отрезав кусок, со словами «биссмилля» отправлял в рот — это означало, что он, хозяин, снимает пробу. Дальше он разрезал большие куски на малые, расставлял жирные, постные и залежалые куски. Далее он отсортировывал ұстағаны, предназначенные по старшинству... В это время в котлах варилась сочное тесто. Вареное тесто женщины вынимали из котла камышовыми ловушками-шумовками, раскладывали на табаки и подносили к дяде, который клал туда мясо, заливал соусом.
Так как гости и старейшины, восседающие на төре, получали половину из котла, им приличествовало часть мяса передать своим соседям, предварительно отрезав и откушав от этого куска. Насытившись, они вызывали из последних рядов скудно пайщиков по своему выбору и вталкивали им в рот бесбармак — асату, это делали и их соседи — средне пайщики.
Верхним трем группам приличествовало не съедать все без остатка, а оставлять сарқыт, который при возвращения посуды доставался скудно пайщикам.
Умение вести себя за столом заключалось и в соблюдении очередности — кезека — қыдырту, асату и оставлении приличного сарқыта.
Судьей являлась челядь, которая, быстро проглотив свой паек, следила за почтенными, а затем подводила итоги по объему саркыта.
Я отвлекся от основной темы нашего разговора. Итак, вернемся к герою этого вечера Кара бахсы — Черному шаману.
Представьте себе наш дом, наполненный людьми, восседающего на самом почетном месте Кара бахсы и от него по сторонам сидящих по ранжиру старшинства казахов, а посередине комнаты лежащего на полу юнца, укутанного тяжелыми одеялами. Надо мной, на потолке, висела двенадцати линейная лампа, освещавшая комнату.
Бахсы взял свой кобыз и снова начал настраивать его. Сыграл он какую-то короткую мелодию и опять отставил кобыз в сторону.
— Сыграйте что-нибудь, — просили в один голос собравшиеся.
— Что же играть, коль кобыз не слушается, да и смычок почему-то царапает по струнам, уж чувствую, несколько волосков порвались, — сказал бахсы. — Пока кобыз сам не просится ко мне в руки, я вам лучше продекламирую верно сочиненное одним молодым поэтом стихотворение о Койлыбае-бахсы, одном из моих родоначальников.
— Пожалуйста, пожалуйста, — загудели сидящие.
Дядя поднялся с места, расстелил перед бахсы большой белый платок, положил на него червонец, отошел и сел на свое место. Бахсы откашлялся и густым громовым басом начал:
Ертеде ел нары екен қалың найман,
Қытайға қалың найман қанат жайған.
Қалың найман ішінде Бағаналы.
Қазақта бақсы асқан жоқ Қойлыбайдан.
Қойлыбай жын жүгендеп, пері мінген,
Алдында жорғалаған шашты шайтан.
Қойлыбай қобыз алса қалбалаңдап,
Қанаман жетіп келеді әлдеқайдан.
Қанаман жалғыз көзді жынның ері,
Ерегіссе тау-тасқа салған ойран.
Дарханның надыр пері — аға жыны,
Ардақтап оған шолақ деп ат қойған.
Қойлекеңнің үшінші жан жолдасы,
Шайтанның шу асауы батыр Шайлан.
Бахсы сделал паузу, словно проверяя, как реагирует аудитория на подобное выступление. Его слова о том, что «Койлыбай был непревзойденным бахсы среди казахов», «Койлыбай обуздывал джинов и ездил на пери», «перед ним иноходью бегал волосатый черт», «когда Койлыбай брал в руки кобыз, откуда ни возьмись, к нему являлся Қақаман одноглазый от важнейших из джинов», «если он заупрямится (заспорит), может встряхнуть горы, в пыль превратить камни»,«Дархана Надир пери — старший джин, уважая его, Коротышом прозвал его», «третьим задушевным другом Койлыбая был самый шумный и дикий из шайтанов — батыр Шайлан».
В окружении своих трех необычайно сильных друзей Койлыбай действительно «обуздывал джинов и ездил на пери» — не верить этому было невозможно...
Қойлыбай бақсы болған қазақ асқан,
Жын менен жолдас болған бала жастан
«Койлыбай был непревзойденным бахсы из казахов, он сызмальства завел дружбу с джинами», — убеждал бахсы, потом, улыбаясь опешившим слушателям, как бы шутя, пропел:
Азырақ әңгіме үшін сөз қозғайын,
Қалың найман жиналған бір зор астан.
«Для продолжения начатой беседы я тереблю слова о том, как найманы собрались на один большой ас — поминки».
Бір асқа жиылыпты найман тамам,
Бай, би, батырлары балпаң басқан.
Ішінде сол жиынның Барақ та бар,
Аузынан арыстандай жалын шашқан.
Бәйгеге 200-дей ат жіберіп,
Күрес сап жиылған жұрт ұрандасқан.
Ерігіп Аңғал батыр, Маңғаз байлар
Бәйгеге қобызың қос деп сұрасқан.
Қолқалап қалың найман қалаған соң,
Қойлыбайың бәйгеге қобыз қосқан.
Удивительный переход и заявка на большое внимание. Как бы говоря «попробуй-ка дальше не слушать», баксы откашлялся, сплюнул в сторону и, улыбаясь сгорающим от любопытства людям, продолжал:
Найманның ұлық, дүбір сол асында,
Әлеумет алқа отан дөң басында.
Айнала ығай-сығай, жақсы-жайсаң,
Қойлыбай қобызымен ортасында.
Бас болып батыр Барақ қалаған соң,
Бәйгеге бақсы қобыз қоспасын ба.
Қойлыбай сонда айтады шақырып ап
Ыңғайлы бір бозбаланы өз қасына:
«Ат шабатын жерде бір сексеуіл бар,
Жарып өскен жапанның жартасына.
Қобызды сексеуілге байлап таста,
Мен сенемін жын Қаман жолдасыма».
Қалың найман бәйгеге қобыз қосып,
Шуласып отырысты дөң басында.
Попробуйте не слушать дальше. Даже мертвец от любопытства перевернется. Черный декламатор знал это хорошо... Разумеется, чувствительный дядя не скрывал своего восторга и был зачинщиком восторженных диких воплей. Бахсы после короткой паузы продолжал с более вдохновенной и отчетливой дикцией, как настоящий мастер художественного чтения.
Бір кезде ат келетін мезгіл жетті.
Бозбала ат алдынан шауып кетті.
Сол уақыт жай отырған Қойлыбайды,
Аруақ қалшылдатып дірілдетті.
При этих словах дядя встряхнулся, как бы демонстрируя состояние Койлыбая, тем самым заражая лихорадочным состоянием души всех остальных... Отец неодобрительно посмотрел на своего брата, но не пресек его, как бывало прежде. Отец, насколько помню, никогда не одобрял бахсы, табибов, мулл, заговорщиков зубной боли, змеиных и паутинных укусов, не одобрял излишнее веселье. Он весь вечер сидел, как посторонний, как совсем чужой человек нашему дому, собравшимся, мне...
Аузынан қанды көбік бұрқ-бұрқ етіп,
Жап-жалаңаш қылышты қобыз етті.
Көздері қып-қызыл боп қанға толып,
Сарыны cap даланы күңірентті.
Бір мезгіл екпіндетіп, долдандырып,
Бір мезгіл жыны буып күбірлетті.
Қалың құмды қап-қара бұлтқа қосып,
Қызыл жел құйындатып, дүрілдетті.
Жан жақты ың-ың, у-шу дауыс қаптап,
Шапқылап жын перілер дүбірлетті.
Бахсы взял кобыз и повел смычком по струнам. Кобыз протяжно завыл. Бахсы отнял смычок и сам громко затянул — ЭЭЭ! Далее он замолк, а смычок, водимый его рукой по струнам, как бы подхватил оборванный голос бахсы на последней ноте и, точно воспроизведя голос бахсы, продолжал ЭЭЭ!
Бахсы сидел с закрытыми глазами и, как бы соревнуясь в бессловесной песне со своим кобызом, то играл, то пел, чередуя куплеты голосом и искусством игры на кобызе. Этот своеобразный дуэт так поразил всех, что, казалось, люди боялись дышать. Бахсы играл и пел без слов.
— Это кюй Буркитбая, — сказал бахсы, закончив игру и пение без слов. — Буркитбай был знаменитым кобызистом, певцом и сочинителем многих кюев. Ему, святому Буркитбаю, принадлежат правильные слова:
Көз жетпегенге ой жетеді.
Тіл жеткізе алмағанды үн жеткізе алады.
Тіл сүйексіз — үн түпсіз терең.
«Язык без костей, у звука нет дна, чего не выразишь языком, можно выразить звуком».
Однажды Буркитбай заспорил со своим кобызом: «Чей же голос напевнее и звучнее?» — и они долго состязались. То, что я пел без слов, это «слова» Бурктибая, а то, что играл — это «слова» кобыза. Я исполнил вам лишь первую часть их спора. Я сам не знаю всего Буркитбая, а мой учитель говорил, что состязался Буркитбай с кобызом сорок дней и сорок ночей, так что этот кюй можно играть без конца... Кюй — это глубокие волны души, он не нуждается в дополнении его словами, как это бывает в обычных песнях. Тема Буркитбая обширная, по характеру мелодия сосредоточенная и суровая, подвижная, темпераментная, с возрастающей динамикой. Мелодия, варьируясь разноголосицей, чередуется спорами, убедительными доводами уверенных и выдержанных басов. Я теперь очень жалею, что по своей глупости тогда не научился у моего учителя хотя бы той части Буркитбая, которую знал мой покойный учитель...
Публика восторженно благодарила бахсы и говорила ему разные приятные комплименты. На платок, что лежал перед ним, бросали кто монеты, кто бумажные деньги. Снова подали чай...
— А все же, чем закончился случай с кобызом Койлыбая? – спросили нетерпеливые гости.
— Ах да! Я отвлекся Буркитбаем.
— Нет, нет. Вы очень хорошо пели, играли и рассказали нам о Буркитбае, — вдруг, дожившись, сказал отец. — Вы, дорогой гость, не бахсы, а великолепный музыкант и рассказчик.
При этих словах дядя засиял больше, чем бахсы, и от удовольствия залился приступом радостного смеха, заржал.
— Я, как и другие бахсы, умею показывать чудеса, вонзать себе в живот нож, лизать языком раскаленное железо, плясать... Но мой учитель перед смертью мне наказывал исполнять (отправлять) лишь только то, что людям приятно — играть, петь, рассказывать. Он говорил мне, что только бездарные бахсы неистовствуют, доходя до исступления, показывают разные фокусы. Вот я и выполняю его заветы.
После настоятельной просьбы людей продекламировать продолжение о кобызе Койлыбая, бахсы взял свой кобыз и, наигрывая легкую, то рысистую, то быструю мелодию, напоминающую современный кавалерийский марш, стал подпевать:
Осылай ойнап, сарнап бақсы жатты,
Қалжырады, қап-қара терге батты
Сол кезде т келетін құба жонды
Түтіндей будақ-будақ бір шаң жапты.
Сол шаңның ортасында бір сексеуіл
Елбеңдеп ойнақ салып келе жатты.
Екі басы жерді ұрып кезек-кезек,
Сабалап, қырды жол қып жаралапты.
Байланған сексеуілге қобыз берік
Көз ашқанша жиынға келіп қалыпты.
Сексеуілді қопарып алып келіп
Қанаман жұбатады ерке қартты.
Мен көрдім, мен сездім.
Я представлял, я ощущал, забыв все.
— Вот так молодец! — вскричал дядя, теряя всякое равновесие от восторга. — Какой молодец этот Қақаман!
Бахсы, прерванный восклицанием дяди, подбросил кобыз вверх, который, к удивлению публики, продолжал издавать звуки мелодии, как подымаясь вверх, так и падая вниз; бахсы подхватил кобыз, резко и широко повел смычком, выжимая из кобыза победно-торжественные звуки и подпевая:
Қобыз келді, Қойлыбай көзін ашты,
Қалың ел тамашадан тас боп қатты.
При последних словах публика от восторга загудела, а бахсы жонглировал кобызом и смычком вокруг своего огромного туловища, выжимая из инструмента «то со свистом вихрит, то кружит, то рвет!». Когда от этого публика обомлела, бахсы спокойно закончил:
Ертеде ел нары екен қалың найман,
Қазақта бақсы асқан жоқ Қойлыбайдан
Қанаман, Надыр шолақ қолдаушысы
Шаршамасы — шабарманы батыр Шайлан.
Бақсының үшкіргені, дем сатаны...
Я написал этот эпизод с Кара бахсы — Черным шаманом безо всякого преувеличения, так как я сам был тому свидетелем. Освеженный «сквознячком», я до того увлекся искусством бахсы, что забыл о своей неволе во власти недуга и обряда.
Все же надобно изложить вкратце мое теперешнее отношение к институту бахсы — шаманов, который в наше время канул в бездну истории. Это необходимо потому, что бахсы — это не чисто языческий шаман, как есть у ряда народов Монголии, Тибета, Китая, Сибири и у северных народов, а именно казахский бахсы со всеми присущими ему особенностями.
2.02.1951г.
г. Калинин
Пікірлер (0)
Пікір қалдырыңыз
Қарап көріңіз
Басқа да жазбалар
- Волейбол ойыны
- Күн сияқты күлімдейтін жандар
- Кітап оқудың адамға пайдасы
- K-drama фанаттары: әлеуметтік желідегі қауымдастықтар мен трендтер
- Стрессті азайту жолдары
- Қоғамдағы өзекті мәселе – суицид
- Цифрландыру адам өмірін қалай жеңілдетті?
- Фильмдердің адам психологиясына әсері
- Ажырасу казіргі проблема
- Жастар арасындағы әлеуметтік желіге тәуелділік
- Алматының ауасы дабыл қағуда
- Ақпарат көп, бірақ ақыл аз: XXI ғасыр парадоксы
- Уақыт бар, үлгерім жоқ
- Мұхтар Мағауин — ел есінде
- Алаш аманаты
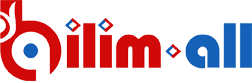


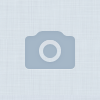
- Хилон
- Платон
- Илон Маск
- Фирдауси
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі